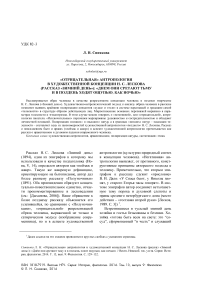"Отрицательная" антропология в художественной концепции Н. С. Лескова (рассказ "Зимний день"): "Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью"
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение и текстология
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается образ человека в качестве репрезентанта концепции человека в позднем творчестве Н. С. Лескова («Зимний день»). Художественно-антропологический подход к анализу образа человека в рассказе позволяет выявить крайнюю поляризацию концептов «душа» и «тело» в системе персонажей и градацию самой «телесности» в структуре образов действующих лиц. Мироотношение основных персонажей выражено в параметрах телесности и эгоцентризма. В этом случае можно говорить о «негативной», или «отрицательной», антропологии писателя. «Исключительные» персонажи маркированы душевностью и сострадательностью и обладают личностной позицией. Поляризация «низших» и «высших» натур, а в границах «низших» натур - эскалация телесности - составляет одну из закономерностей художественной антропологии «позднего» Н. С. Лескова. Рассказ о повседневном быте и нравах («пейзаж и жанр») в аспекте художественной антропологии прочитывается как рассказ о нравственном и духовном падении современного человека.
Художественная антропология, нравоописание, поляризация натуры, "негативная" этика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219189
IDR: 147219189 | УДК: 82-3
Текст научной статьи "Отрицательная" антропология в художественной концепции Н. С. Лескова (рассказ "Зимний день"): "Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью"
Рассказ Н. С. Лескова «Зимний день» (1894), один из эпиграфов к которому мы использовали в качестве подзаголовка (Иова, V, 14), определен автором как «пейзаж и жанр». Такую же жанровую дефиницию, ориентирующую на бытописание, автор дал более раннему рассказу «Полуночники» (1891). Оба произведения образуют концептуально-повествовательное единство, отчасти прокомментированное в лесковедении (см.: [Дыханова, 2006]). Наше обращение к более позднему рассказу объясняется его усилившейся, по сравнению с «Полуночниками», «отрицательной» репрезентацией образа человека, выраженной не только в сатирическом модусе (изображение современника), но и в аспекте художественной антропологии (культурно-природный синтез в концепции человека). «Негативная» антропология выявляет, от противного, конструктивные принципы авторского подхода к человеку. Примечательно, что вторым эпиграфом к рассказу служит «присловие» В. И. Даля: «У Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят». В системе эпиграфов автор соединяет ветхозаветную тему порока и духовной слепоты и нравы среднего петербургского дома (место действия – «гостиная второй руки» [Лесков, 1989. С. 3]) 1.
Встретившиеся в тусклый зимний день хозяйка и гостья безымянны и безлики. Хозяйка «готова быть всем на свете: это “сосуд”, сформованный “в честь” и служащий ныне “сосудом в поношение”» (c. 3). У гостьи сквозь маску «кроткой лани», которую она носит «в обществе», проступает образ ее истинной сущности – «брыкливой козы» (c. 3, 4, 24, 27). Дамы обсуждают приезд деятельной кузины Олимпии, занимающейся «вопросами» и производящей «оживление»; «странности» хозяйкиной племянницы Лидии, здравомыслящей и чистой девушки-курсистки; крепнущее движение непротивленчества и пр. Более всего они заняты изобретением комбинации по передаче наследства богатого брата хозяйки, Луки Семеныча, еe беспутным сыновьям. Сообщается, что брат Лука привечает только двух родственников: курсистку Лидию и брата Захара.
Вводится тема «исключительных лиц». Лидия – человек иной формации, нежели «сретающие тьму» персонажи. Девушка «нелюбима в своей семье, потому что ведет себя не так, как хочется матери и братьям. Братья ее – блестящие офицеры, и один из них уже дрался на дуэли. Лидия не в фаворе тоже и у тетки…» (с. 5). Лидия занимается лекарским делом и уверена, что нужно творить добро, а именно – приносить практическую пользу. Толстовцы, по ее мнению, «сами добрые и хотят добра», однако «они все говорят, говорят и говорят, а дела с воробьиный нос не делают. <…> Если противны делались те, которые всё собирались “работать над Боклем”, то противны и эти, когда видишь, что они умеют только палочкой ручьи ковырять. Одни и другие роняют то, к чему поучают относиться с почтением» (с. 20). Так Лидия отделяет себя и свое поколение 1890-х гг. от реалистов-позитивистов 1860-х гг. и современных толстовцев, занятых нравственными исканиями, а не практическим делом.
«Племянница-фельдшерица, которая идет наперекор общественным традициям» (с. 6) – один из немногих персонажей, обладающих «душой», способностью к отзывчивости и состраданию: «…любить, по ее рассуждению, должно лишь того, кто сам имеет любовь к людям» (с. 25). Ее личность ориентирована на «высшее», в то время как основные персонажи тяготеют к «низшему».
Генерал Захар Семеныч на первый взгляд столь же порочен, как и две дамы полусвета. Однако именно он заступается за Лидию и недвусмысленно отсылает обеих собеседниц к евангельскому тексту, вспоминая учение
Л. Н. Толстого: «…его несносная на наш счет проницательность – это скверно. И потом для чего он уверяет, будто “не мечите бисера перед свиньями” сказано не для того, чтобы предостеречь людей, чтоб они не со всякою скотиной обо всем болтали – это глупость. Есть люди – ангелы, а есть и свиньи. <…> бывает, что свиньи садятся в гостиных» (с. 30). Лидию Захар сравнивает с ангелом (Там же). Рассказ о том, как племянница возилась с больным мужиком, разминая его «этакими-то ее удивительными античными руками» (с. 31), объясняет привязанность к девушке богатого дяди Луки, обладающего близкой ей ценностной установкой: он «ни у кого ничего не ищет» (с. 6).
В фиктивной реальности рассказа существуют еще две фигуры, в персональной сущности которых отмечено присутствие «души» и даже «духа» 2. Это лица, стоящие в центре поучительных, с точки зрения хозяйки, историй: Marie по прозванию «апо-столица» и служанка Федо́ ра. Первая – последовательница учения Л. Н. Толстого о непротивлении злу, аттестована «заблудшей овцой» оттого, что «отпала» от высшего света, к которому принадлежит, и старается жить своим трудом – отказалась от прислуги, ухаживает за больными, спасает уличных девушек. Хозяйка, несмотря на ее лицемерие, высказывает в адрес «апостолицы» нечто вроде восхищения: «Marie проводит всю жизнь в заботах о ком-нибудь. Если хотите найти сердечного человека, идите к ней: у ней есть запас людей “униженных и оскорбленных”» (с. 11). Федора – тоже «толстовка». Она возражает против всякой лжи. Если для хозяйки существует удобная ложь и просто ложь, то девушка отказывается их различать: «В Евангелии об этом ничего не сказано, что отличать. Что неправда, то все ложь, – христиане ничего не должны лгать» (с. 16).
Гораздо понятнее и для гостьи, и для хозяйки поведение служащей у гостьи прачки: «У меня в прачках семь лет живет прекрасная женщина и всегда с собой борется, а в результате все-таки всякий год посылает нового жильца в воспитательный дом. <…> “Не могу, говорит, бес сильнее”. Когда женщина сознает свою слабость, с этим миришься» (с. 25). Следует абсурдный вывод: «Это она, наша бедная русская бабья плоть, а не то что эти, какие-то куклы из аглиц-кой клеенки. Чисты, но холодны» (с. 25). «Плоть» противопоставлена «чистоте» (духу). Подразумевается, что «плоть» «грязна», однако обе собеседницы объединены в сочувствии «бедной… плоти» (употребляя соответствующее притяжательное местоимение – «наша»). Логика рассказа такова, что в дальнейшем «плоть» вытеснит из сюжетного и персонального пространства остальные художественно-антропологические маркеры и станет основной психофизиологической мотивировкой происходящих событий.
И Лидия, и героини вставного фрагмента – «апостолица» Marie и служанка Федора – исчезают из сюжета рассказа к его середине. Во второй половине произведения (гл. VII– XVI) заметно усиление «отрицательной» антропологии. Все действующие лица стремятся захватить как можно больше жизненного пространства, которое для них имеет два измерения: деньги и плоть.
Первая пара персонажей – генерал и гостья – ненавидят друг друга, поскольку давно отошедшая в прошлое их связь теперь обернулась для генерала шантажом и он вынужден регулярно выплачивать гостье деньги. Его риторическое восклицание: «О Господи! Разрази нас, пожалуйста, чтобы был край нашему проклятому беспутству!» (с. 36) – с одной стороны, объединяет его, как порочного человека, с гостьей, а с другой – отделяет от нее: по крайней мере, генерал ужасается той бездне зла, в которой очутился. Однако раскаяние «брата Захара» недолгое: выйдя из комнаты, он тотчас же возобновляет давно тянущуюся интрижку с красавицей-горничной.
Два сына хозяйки, Аркадий и Валериан, одинаково испорчены, несмотря на то что, по выражению матери, первый – «это совершенная рохля», а второй – «живчик» (с. 15). Аркадий увлекается очередным «отроком» (с. 33), а Валерий небескорыстно пользуется благосклонностью гостьи – ровесницы его матушки.
Гостья и Валерий связаны и денежными, и телесными отношениями. Телесность, достигшая нижайшего уровня – плотского, превращает гостью в подобие животного: «Искаженное лицо женщины озарилось румянцем чувственного экстаза <…> все лицо стало напоминать вытянутую морду ошалевшей от страсти собаки. Она догадалась, что она гадка, и закрылась вуалем» (с. 40). «Животные страсти» – не только в этом эпизоде – становятся в рассказе сюжетогенным фактором.
Валериан и его матушка – хозяйка дома беседуют о наследстве дяди Луки. Валериан провозглашает главное «христианское» правило: «А вот в “премудрости Павла чтение”… сказано: “не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей”» (с. 42). Стих из Второго послания апостола Павла коринфянам (12 : 14) должен, по-видимому, подтвердить правоту Валериана, но контекст не позволяет этого сделать – недаром его матушка замечает: «Это что-нибудь из толстовского…» (с. 42). Канонический текст Нового Завета воспринимается ею как апокрифический, потому что цель высказывания в данной речевой ситуации аннигилирует его содержание.
Что касается прислуги, то она, в своей порочности, дублирует как внутреннее содержание, так и поведение хозяев. «А пока кошка в отсутствии, без нее начинают шалить домашние мыши», – задает автор сюжетную ситуацию последних глав (XIV– XVI). Горничная, выбирающая между старым генералом и молодым Валерианом, пишет на надушенном листке хозяйки «согласительное» письмо Захару Семенычу: «Если предложения ваши обстоятельны, то <…> за вежливость вашу я согласна иметь для вас полные чувства…» (с. 48). Дважды подчеркнутая в описании облика горничной «фигура / фигурка фарфоровой куклы» (с. 36, 48) указывает на ее искусственность, гармонирующую с обликом всего дома. Не случайно хозяйка, проводив всех визитеров и покидая ненадолго дом, «чувствовала ту ужасную усталость, о какой может иметь понятие только актриса, исполняющая роль, которая не спускает ее целый акт со сцены» (с. 48).
Кухарка в отсутствие хозяйки курит ее папиросы и соблазняет мальчика-посыльно- го из лавки. В сферу расчетов оказывается вовлечен и малолетний посыльный, мечтающий о том, что «он будет на гулянье, она (кухарка. – Л. С.) ему подарит рубашку. Со временем он попросит ее купить ему часы» (с. 54). Финал рассказа подтверждает мысль о мнимом всесилии низкой натуры человека: «Они, кажется, признавали за настоящие “дела” – только одни дела природы, которая множит жизнь, не заботясь о том, в чем ее смысл и предназначение» (с. 54). Таким образом, смысл завершающих сюжет событий может трактоваться как нарастание всеобщего зла, выраженного в категории плотского греха 3.
Подведем итоги. В рассказе Н. С. Лескова «Зимний день» образ человека двойствен: мироотношение большинства персонажей выражено в параметрах телесности и эгоцентризма. В этом случае можно говорить о «негативной», или «отрицательной», антропологии писателя. «Исключительные»
персонажи обладают душевностью и сострадательностью, утвердившимися в качестве личностной позиции и «смысла и предназначения» их существования. Поляризация «низших» и «высших» натур, а в границах «низших» натур – эскалация телесности – составляет, на наш взгляд, одну из закономерностей художественной антропологии «позднего» Н. С. Лескова.
Список литературы "Отрицательная" антропология в художественной концепции Н. С. Лескова (рассказ "Зимний день"): "Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью"
- Дыханова Б. С. В зеркале лесковского «пейзажа» (о нарративных новациях «Зимнего дня») // Лесковский сборник. Орел: Изд-во Орловск. ун-та, 2006. Т. 3. С. 48-54.
- Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. Т. 12. 751 с. (Издание продолжается).
- Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира: аналогия в семантике. М.: Языки славянской культуры, 2003. 224 с.