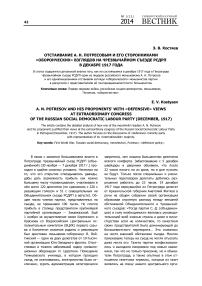Отстаивание А. Н. Потресовым и его сторонниками «оборонческих» взглядов на Чрезвычайном съезде РСДРП в декабре 1917 года
Автор: Костяев Эдуард Валентинович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье содержится детальный анализ того, как на состоявшемся в декабре 1917 года в Петрограде Чрезвычайном съезде РСДРП один из лидеров российского меньшевизма А. Н. Потресов и его единомышленники отстаивали взгляды «оборонческого» меньшинства партии в дискуссиях с представителями её «интернационалистского» большинства.
Первая мировая война, российская социал-демократия, меньшевизм, потресов, "оборончество"
Короткий адрес: https://sciup.org/14113889
IDR: 14113889
Текст научной статьи Отстаивание А. Н. Потресовым и его сторонниками «оборонческих» взглядов на Чрезвычайном съезде РСДРП в декабре 1917 года
В связи с захватом большевиками власти в Петрограде Чрезвычайный съезд РСДРП (объединённой) (30 ноября — 7 декабря 1917 г.) проходил в крайне сложных условиях. Несмотря на то, что его открытие откладывалось дважды, дабы дать возможность прибыть как можно большему числу «провинциалов», участвовало в нём всего 120 делегатов (по сравнению с 226 с решающим голосом и 51 с совещательным на Объединительном съезде РСДРП в августе). Общее число членов партии, представленных на съезде, не превышало 100 тысяч. Не смогли прибыть в столицу представители крупнейшей партийной организации — Закавказской. Ещё 1 ноября за осуществление связи Керенского и Краснова со Всероссийским Центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) первого созыва и Комитетом спасения родины и революции был арестован меньшевик-«оборонец» В. Войтинский — один из двух делегатов от 10-тысячной организации Юго-Западного фронта. Отсутствовал и тяжело заболевший лидер «революционных оборонцев» И. Церетели. Помещение Тенишевского училища, в котором проходил съезд, не отапливалось, электричество было отключено, курить администрация категорически запретила, чем лишила большинство делегатов всякого комфорта. Забастовавшие с 5 декабря швейцары и дворники объявили, что после 22 часов никого ни из дома, ни в дом пускать не будут. Только после специальных и унизительных переговоров делегаты добились разрешения работать до 23 часов. 19 декабря 1917 года вернувшийся из Петрограда делегат от Архангельской губернии Анатолий Житков в речи на общем собрании своей организации обрисовал огромную разницу между внешней обстановкой Объединительного и Чрезвычайного съездов: «Тогда партия С.-Д. (объединен-цев) в силу необходимости являлась руководительницей всей жизнью страны и даже в министерствах если не количеством, то качеством своих представителей была доминирующей до большевистского переворота… Это сказалось на чисто внешней обстановке съезда. Многие приехавшие теперь на съезд не могли отыскать даже места его. Газеты партии конфисковывались и выходили ежедневно под новым названием, так что не только приезжие, но и обыватели Петрограда, а также опытные в этом отношении газетчики терялись, которые из газет являлись на смену нашего центрального орга- на. О предстоящем съезде в других газетах ничего не было сказано. …Постоянного места у съезда не было. Как это ни странно, — подчёркивал Житков, — но в то время, когда у власти стоит правительство, именующее себя "Правительством крестьян и рабочих", у представителей рабочей партии не было уверенности в том, что их съезд будет доведён до конца, что он не будет разогнан и что члены его не подвергнутся аресту» [1, с. 561—562].
Поставленная во второй половине ноября 1917 года цель постараться вырвать партию из рук завладевших ею «полубольшевиков-интернационалистов» находившимися на съезде в вопиющем меньшинстве «оборонцами» достигнута не была. Их лидер А. Потресов являлся на съезде одним из трёх (наряду с Либером и Мартовым) докладчиков по вопросу о текущем моменте и задачах партии в Учредительном собрании. Прозвучавший 30 ноября доклад вынужденно носил характер импровизации, так как Потресо-ву лишь непосредственно перед выступлением предложили заменить заявленного ранее П. Ко-локольникова. В нём он выразил принципиальное несогласие с прозвучавшим на съезде мнением лидера меньшевиков-«антиоборонцев» Ю. Мартова (Цедербаума), что после Февральской революции «восемь месяцев была коалиция и изжила себя». Потресов считал, что никакой реальной коалиции, проводившей в жизнь определённый компромисс между буржуазией и пролетариатом, в течение революционных месяцев не существовало, а на деле была лишь однородная социалистическая власть «с небольшими фиговыми листиками в виде отд[ельных] бурж[уа]-министров». Причиной этого было отсутствие в тогдашней российской жизни реальных условий для «действительной коалиции» как в рядах плохо организованной буржуазии, так и в самом пролетариате, «носившем в себе многое от вольницы ХVII века…». После большевистского переворота, когда представителей буржуазии у власти уже не было, а социальной революции тем не менее не осуществлялось, ибо Россия представляла собой «самую отсталую» страну, по Потресову, наступил период изживания «веры в возможность перескочить через рамки буржуазной революции», и «сейчас мы присутствуем при крахе идеи диктатуры пролетариата». В таких обстоятельствах, полагал докладчик, был неизбежен быстрый поворот всех сознательных слоёв в сторону признания необходимости «не только классовой самостоят[ельности], но и нац[ионального] единства» [1, с. 391].
Ещё более резко Потресов высказался на эту тему, когда выступал с заключительным словом по своему докладу на второй день работы съезда, 1 декабря. В рабочий класс, по его мнению, нужно было идти с проповедью борьбы с большевиками: «Надо сказать — у нас нет ничего с б[ольшеви]змом. И у нас больше общего с бурж[уазной] демокр[атией], чем… с соц[иа-лизмом] дураков». На разговоры о возможности контрреволюции Потресов ответил: «Я ут-верж[даю]: вы реально сформир[овавшихся] к[онтр]р[еволюционных] сил за пределами большевизма не встретите. Но в См[ольном] вы найдёте к[онтр]р[еволюцию], персон[ально] представл[енную] десятками разоблачённых и сотнями неразоблачённых [агентов охранки].
Каждая среда делает свой подбор, и это объясн[яется] не злой волей Л[енина] и Т[роцкого], а их практикой — и охран[ников], и чернос[отенцев] всех сортов собир[ать] под это знамя Смольного, [который] теперь пропит[ан] чёрной сотней». В тот момент, как и при царизме, лозунг «Долой самодержавие! Да здравствует Учредительное Собрание!», по мнению По-тресова, вновь стал популярным. А на адресованный ему с места вопрос: «Чем свергнуть его?» ответил: «Чем угодно! Если нет сил, то это не значит, что нужно примириться, как не примир[ялись] при самодержавии. Мы должны спасти честн[ое] имя социал-демократии, как спасали при самодержавии» [1, с. 405—406].
В проекте резолюции «О текущем моменте», предложенной Потресовым съезду, на эту тему говорилось, что именно «попытки большевистских захватчиков свести на нет Учредительное Собрание как высшее выражение всенародной воли страны и заключить позорный мир, продающий Россию в рабство германского империализма, определяют тот путь, по которому идёт ликвидация всех завоеваний революции и вступает в свои права контрреволюция». Создавшееся положение вещей определяло линию политического поведения российской социал-демократии «и как классовой партии, и как авангарда — застрельщика демократии всей страны»: «Она ставит в центре своей текущей политики, — говорилось в проекте резолюции, — решительную борьбу с этой ликвидацией демократических завоеваний революции, идущей под ложным флагом социальной революции и диктатуры пролетариата, и считает совершенно недопустимыми какие бы то ни было политические соглашения между большевиками и всеми организованными силами революционной демократии». Первейшей обязанностью российская социал-демократия полагала, гласил документ, «действовать, сохраняя свою классовую самостоятельность, вместе со всеми демократическими элементами страны, преследуемыми контрреволюционными захватчиками, в деле защиты попираемых большевиками свобод и в борьбе за Учредительное Собрание, которое является предпосылкой возможного спасения России от угрожающей ей… национальной гибели» [2, с. 231—232].
Последовавший за докладами и прениями процесс согласования нередко противоположных позиций для проекта резолюции «О теку- щем моменте», который мог бы удовлетворить большинство съезда, весьма показателен в плане характеристики накала внутрипартийной борьбы. Оглашение проектов фракционных докладчиков было отложено до утреннего заседания 3 декабря, но даже дополнительное время на закулисные согласования результатов не принесло. Потресовцы категорически заявили, что будут выступать не только против проекта Мартова, но и против компромиссного варианта документа, предложенного Даном. При голосовании вопроса о том, какой проект принять за основу, съезд разделился на сторонников Мартова (50 голосов), Дана (26), Либера (13) и По-тресова (10). В состав комиссии, избранной для согласования и редактирования окончательного варианта резолюции, ни Либер, ни Потресов не предлагались. Когда на вечернем заседании 4 декабря она представила съезду этот вариант, «оборонец» М. Либер (Гольдман) от группы своих единомышленников призвал голосовать против резолюции, указав, что в ней вся буржуазия была отнесена в лагерь контрреволюции, а противопоставлен ей был блок пролетариата с мелкой буржуазией: «Кроме того, — говорил Либер, — стремление к образованию власти на условиях соглашения с большевиками, какие бы при этом утопические условия ни выставлялись, заставит сторонников такого соглашения оказаться в одном лагере с захватчиками из Смольного». После этого «оборонец» В. Левицкий (Цедербаум) от имени участников съезда, являвшихся сторонниками проекта Потресо-ва, присоединился к заявлению Либера. В результате в голосовании резолюции, подготовленной комиссией съезда, приняло участие 87 делегатов: за — 57, против — 28, воздержалось — 2 [1, с. 436, 470].
2 декабря, наряду с Ф. Даном и Р. Абрамовичем, Потресов выступил на съезде содокладчиком по вопросу о мире и перемирии. Именно после этой речи, «произнесённой с необычайной силой и произведшей огромное впечатление на всех присутствовавших», один из его противников сравнил Потресова с библейским пророком [2, с. 450]. Одной из важных тем, затронутых в докладе, стало утверждение, что при характеристике степени опасности германского или английского империализма следовало выбирать «наименьшее зло»: «Мы знаем им-пер[иализм] Англии, — сказал Потресов в докладе, — но мы говор[им], что в М[алой] Азии английск[ий] имп[ериализм] не представ[ляет] той угрозы, как Герм[ания] против России». Если бы победившая Англия захватила Сирию,
Малую Азию, Персию и ещё что-либо, полагал он, в Европе в результате этой победы не произошло бы такой реакционной консолидации, которая грозила ей в декабре 1917 года, когда германские войска вот-вот должны были войти в Петроград. Далее Потресов прогнозировал, что вскоре большевики уступят место германским агентам и войскам, встанет вопрос о реставрации старой власти. А вот в случае победы Англии ни о чём подобном говорить было бы нельзя, так как эта победа, предполагал он, создала бы почву для долгожданного революционизирования германской социал-демократии [1, с. 421—422].
В более стройном и последовательном изложении мысли Потресова на эту тему мы находим в его статье «Речи Церетели», увидевшей свет в газете «День» от 17 декабря 1917 года. Его «первородным грехом» и источником всех последовавших злоключений Потресов считал то, что «своё великолепное здание» внешней политики революционной демократии Церетели строил на «фундаменте ложной оценки» международного положения Европы. Заключалась она, по мнению Потресова, в приверженности лидера «революционных оборонцев» к «общеизвестной схеме империалистического состязания, согласно которой обе стороны хуже, Англия и Франция рисуются не меньшей опасностью для международного развития, чем центральные державы…». Согласно данной концепции, в империалистическом состязании принимала участие и Россия: «Её константинопольские вожделения берутся всерьёз, но зато, — отмечалось в статье, — не берётся всерьёз другое: что Россия на самом краю превращения её из самостоятельного организма в безвольную колонию для германского капитала и что победа Германии угрожает всей Европе таким укреплением реакции и таким разгромом международно-демократического движения, перед которым бледнеют какие бы то ни было "преступления" англо-французского империализма…». Картина этого реального положения вещей не существовала для Церетели, ибо на них были «одеты очки той модной доктрины, которая не позволяет в "единой реакционной массе" международного империалистического хищничества делать различия и выбирать, в соответствии с духом испытанной социал-демократической практики, то меньшее зло, опираясь на которое можно избегнуть зла большего» [3, с. 273].
Возвращаясь к докладу Потресова на съезде, хотелось бы отметить, что в его практической части наибольшее внимание было уделено нависшей угрозе заключения большевиками сепаратного мира с Германией, который «будет не сегодня-завтра». Докладчик призвал идти в массы и кричать об этом «предательстве», в то же время хорошо понимая, что до свержения большевиков и созыва Учредительного собрания «достичь мы ничего не можем». Тем не менее «есть вещи, кот[орые] обязывают. Бывает тактика, — замечал Потресов, — даже об-реч[ённая] на неуспех, на кот[орую] надо пойти». Поэтому параллельно с обращением к союзным социалистическим партиям он призвал в докладе «проявить последн[ее] напряж[ение] рев[олюционной] энергии»: «Пусть [мы] погибнем, — говорил он с пафосом, — но Россия д[олжна] попытаться [спастись]. Пусть погибнем, но спасём честь революции!» [1, с. 423]. Выступивший в прениях по докладам о войне и перемирии делегат съезда Павлов заметил, что «строить какие бы то ни было расчёты на боеспособности армии, говорить о красивой смерти, как это делал тов. Потресов, представляется утопией вредной, опасной и преступной», а Дан в заключительном слове по своему докладу «красивый жест» Потресова тоже назвал неуместным, ибо «если мы гибнем, то наша гибель будет так же некрасива, как всякая гибель» [1, с. 431, 435—436].
Положения доклада Потресова легли в основу предложенного им съезду проекта резолюции, в которой также говорилось, что «сепаратное перемирие, сейчас заключаемое большевиками с правительством Вильгельма, неизбежно приведёт к миру, который отдаст Россию на поток и разграбление мирового и прежде всего германского империализма, прекратив её политическую и экономическую самостоятельность и превратив её в немецкую колонию, в объект жестокой эксплуатации и полицейского гнёта». С другой стороны, этот мир, считал Потресов, «отдаст в руки германской юнкерской империалистической реакции господство над Европой, и прежде всего над самой Германией, усилив раскол между социалистическими партиями воюющих стран, и выроет огромную пропасть между пролетариатом России и пролетарскими партиями союзных с нами стран, для которых наш сепаратный мир является предательским ударом в спину со стороны, от которой это меньше всего можно было ожидать». Спасти страну от такого предательства её интересов могло только «низвержение большевистской власти», которому российская социал-демократия, по убеждению Потресова, обязана была всеми силами способствовать «во имя спасения России от гибели, во имя избавления европейской демократии от тяжёлой реакции, во имя спасения идеи революции от надругательства…» [2, с. 232].
Однако собравший всего 12 голосов проект Потресова съездом за основу принят не был. Большинство получила резолюция, предложенная Даном. При первом голосовании 5 декабря она получила 51 голос «за» и 47 «против» при одном воздержавшемся, но окончательное голосование, судя по газетным отчётам, дало другой результат: «за» — 62, «против» — 7, «воздер- жалось» — 10. Меньшевистский историк Г. Аронсон писал по этому поводу: «По-видимому, к этому времени правые меньшевики не только убедились в победе левого большинства на съезде, но в их рядах стали укрепляться сомнения, в какой мере возможна дальнейшая совместная работа. Эти сомнения приводили их к абсентеизму во время голосований: они перестали в них участвовать» [4, с. 204].
Предположение Аронсона относительно наличия к тому времени у правых меньшевиков сомнений в возможности дальнейшей совместной работы с их внутрипартийными оппонентами подтверждается тем, что, когда 7 декабря съезд приступил к выборам ЦК, группа его делегатов в 22 человека (Потресов, А. Бибик, А. Браун, Д. Глухов, П. Голиков, А. Горнштейн, И. Дементьев, А. Дюбуа, И. Емельянов, М. Иванов, П. Колокольников, Н. Кочергин, М. Либер, П. Маслов, М. Михайлов, Ф. Моравский, М. Мун-вез, М. Мысков, А. Распевин, К. Рик, Н. Смирнов и Г. Фукс) решила воздержаться от голосования. Их заявление на этот счёт, поддержанное 9 делегатами с совещательными голосами (Б. Батур-ский, Б. Богданов, П. Гарви, К. Гвоздев, Л. Гольдман, С. Зарецкая, К. Ермолаев, В. Левицкий и Ф. Юдин), было мотивировано тем, что принятые съездом резолюции находились в резком противоречии со всей прежней меньшевистской тактикой, что выразилось, среди прочего, в признании возможности создания социалистического правительства и соглашения с большевиками для этой цели [1, с. 515—516]. 30 декабря 1917 года избранный на съезде членом ЦК Мартов писал П. Аксельроду: «Фактически партийный аппарат перешёл в наши руки, ибо не только крайняя правая (Потресов, Голиков и др.), но и просто правая (Либер, Богданов, Ба-турский, Зарецкая) объявили "бойкот" центрам ввиду "большевистского" уклона наших решений. "Большевизм" этот, конечно, заключается в том, что мы не считаем возможным от большевистской анархии апеллировать к реставрации бездарного коалиционного режима, а лишь к демократическому блоку, что мы за преторьян-ско-люмпенской стороной большевизма не игнорируем его корней в русском пролетариате, а потому отказываемся организовывать гражданскую войну против него и что мы отвергаем большевистскую "политику мира" во имя интер-национал[ьной] акции пр[олетариа]та за мир, а не во имя "восстановления согласия с союзниками", т. е. продолжения войны до весны или далее. Оборонческая оппозиция осталась в партии, основывает новую газету, но пока не бо- рется с нами настолько резко, чтобы вызвать острый организационный конфликт. Церетели не пошёл с ними, но и в ЦК отказался войти. ЦК образовался из интернационалистов и "центра" (в меньшинстве)» [1, с. 584].
20 декабря 1917 года по поручению меньшинства делегатов Чрезвычайного съезда, воздержавшихся при выборах нового ЦК, Временное бюро меньшевиков-оборонцев выпустило обращение «Ко всем членам РСДРП(о)!» с изложением взглядов на создавшееся в партии положение и с объяснением своего поведения на съезде. За время большевистского переворота в партийных организациях под давлением преобладавших настроений в рабочих массах обнаружился сдвиг в сторону «интернационализма»: «Образовавшийся на съезде так наз[ываемый] "центр", — читаем мы в обращении, — не выдвинувший никакой самостоятельной политической платформы и прикрывавший своей "нефракционностью" беспринципное приспособление к настроениям масс, увлечённых большевистским переворотом, на практике оказался в плену у "интернационализма". Оказавшиеся благодаря этому на съезде в большинстве "интернационалисты" провели по всем основным вопросам порядка дня резолюции, расходящиеся с тактической линией Майской конференции и Августовского съезда и круто порывающие со всеми традициями меньшевизма». Основной задачей момента в сложившихся тогда обстоятельствах члены Временного бюро считали сплочение всех революционных сил вокруг Учредительного собрания в целях решительной и непримиримой борьбы с «контрреволюционными тенденциями большевизма в его внутренней политике и с его предательскими стремлениями к сепаратному миру в политике внешней» [5, л. 1].
В вопросе о войне и мире «интернационалистское» большинство съезда, по мнению авторов документа, не нашло (и не могло найти в силу своего «циммервальдизма») достаточно мужества, чтобы дать пролетариату России определённый ответ, как нужно было бороться с последствиями того «предательства страны, революции и западноевропейской демократии, каковым является сепаратное перемирие… как преддверие сепаратного мира с германским империализмом». Вся эта «половинчатая полу-большевистская тактика», принятая «интернационалистским» большинством съезда, являлась «пагубной и для революции, и для пролетариата, и для социал-демократии»: «Стремление к соглашательству с большевизмом, — указыва- лось в обращении, — лишь затягивает ликвидацию большевистской авантюры, усугубляет раскол в рядах оставшейся верной революции демократии и, суживая этим базис революции, ведёт всё к большей изоляции пролетариата, а стало быть, к его поражению и вместе с тем к поражению революции». Поэтому группа делегатов Чрезвычайного съезда, отказавшаяся от участия в выборах ЦК, решила безотлагательно продемонстрировать рабочему классу, что отнюдь «не вся социал-демократия пошла на поводу за большевиками, что в рядах её есть элементы, оставшиеся верными заветам марксизма», и в целях ослабления вреда, который грозила принести официальная тактика партии, и оздоровления РСДРП(о) «от большевистской и полубольшевистской заразы» образовала Временное бюро меньшевиков-оборонцев. Доводя об этом до сведения всех однопартийцев, разделявших точку зрения меньшинства съезда, авторы документа призвали их сплотить ряды для совместной работы, ибо победа, одержанная «интернационалистами» на съезде, не должна была «повергать нас в уныние и не может заставить нас отказаться от активного участия в политической жизни страны» [5, л. 2—2 об.].
Свою же личную оценку состояния партии по окончании работ Чрезвычайного съезда По-тресов дал в статье с говорящим названием «Мёртвые души», опубликованной в № 215 (16147) «Дня» 7 декабря 1917 года. Оценка эта была крайне жёсткой, положение меньшевистской партии автор расценивал как катастрофическое: «Ещё недавно, — читаем мы в статье, — она играла первую скрипку в революционнодемократическом оркестре… рядом с Керенским, стоявшим немного особняком от своей партии, вождём всей революционной демократии в её целом за истекший период являлся Церетели, в противоположность Керенскому продолжавший сохранять самую интимную, самую непосредственную связь со своей партией.
И вот этой-то партии, — считал Потресов, — сейчас нет у рампы истории. Она уничтожена как политическая величина. Она сведена… на нет и из великой державы революционнодемократического мира разжалована ходом вещей до чина какой-то Черногории…». И закончивший свои заседания партийный съезд не открывал каких-либо перспектив и не позволял делать какие-либо обнадёживавшие предположения, ибо и по идеологии, и по своей психологической настроенности принадлежал «не наступающему моменту перелома, а отходящему вглубь истории прошлому». В то время как в ра- бочих массах чувствовалось уже, по ощущению Потресова, «приближение резкого поворота», на Чрезвычайном съезде, напротив, произошло «повышение кривой левых умонастроений», и тот самый «интернационализм», на выборах в Учредительное собрание «побивший рекорд неуспеха», тем не менее «впервые превращается теперь в правящее большинство, во фракцию, всецело определяющую собою дальнейшую политику партии»: «Выходит, что жизнь — одно, — делал он вывод, — а атмосфера партийных кружков, организационных ячеек — совсем нечто другое, и процессы, развивающиеся там и здесь, могут некоторое время не только не совпадать друг с другом, но даже идти в диаметрально противоположных направлениях… И этот-то разрыв партии с жизнью и позволяет нам иметь удовольствие видеть господами положения в меньшевистской социал-демократии как раз тех самых людей, к судьбе которых больше, чем к кому-либо другому, применимы слова летописца: "Погибоша, аки обры"» [2, с. 233—234].
Но «погибшие обры» так называемого «интернационализма», делился своими наблюдениями Потресов, чувствовали себя совсем неплохо в этой отгороженной от реальной жизни, тепличной обстановке «царства теней». Они отнюдь не хотели сознавать себя «чем-то вроде коллекции тех "мёртвых душ", которые собирал когда-то незабвенный Павел Иванович Чичиков». Поскольку не только «творчество съезда», но и «дальнейшее водительство партии» принадлежало этой коллективной «мёртвой душе», постольку в ближайшей перспективе партия, по мнению Потресова, неуклонно и бесповоротно держала курс «на приближающийся крах всех идей социал-демократии в той пролетарской среде, которая никогда не простит меньшевистской социал-демократии»: «Это она, — пояснял автор свою мысль, — в годину несчастья, когда большевизм опустошающим смерчем пронёсся по народным массам, не посмела разорвать с большевизмом так основательно и беспощадно, как это полагается делать социал-демократии со всякой контрреволюцией, и тем более с контрреволюцией, свившей себе гнездо в недрах рабочих масс» [2, с. 234—235].
«Оборонцы» же, как «представители революционного реализма в социал-демократии», отнюдь не желали, замечал Потресов, «идти на заклание во славу вящей логической последовательности нового партийного правительства»: «Мы и так слишком долго, — писал он, — вязали себе самоотверженно руки… чтобы теперь, когда всё заставляет предвидеть скорое изживание максималистского поветрия, когда после большевистского "пира во время чумы" наступит несомненно жестокое похмелье, не оставлять себе свободного действия и не сказать себе с твёрдостью, безразлично, в пределах ли партии, за её ли пределами — это вопрос практической целесообразности, это зависит от обстоятельств…». Чрезвычайный съезд РСДРП(о), считал Александр Николаевич, «станет отправной точкой для сплочения всех тех оборонческих сил, которые чувствуют себя ещё не парализованными мертвечиной, партийной традицией, которые — и в глухую ночь разгрома России и большевистского шабаша — не перестают верить в будущность России и в будущность русской социал-демократии». Им предстояла, говорилось в заключение статьи, «огромная работа строительства», «крестовый поход в самую гущу рабочего класса» и, самое главное, «победа над большевизмом» [2, с. 235].
В связи с этим последним утверждением Потресова возникает закономерный вопрос — не было ли это утопией? Существовало ли тогда у партии меньшевиков вообще и её «оборонческого» крыла в частности достаточно сил и возможностей для победы над большевизмом? Если говорить о партии в целом, то, являясь до июля, а может быть, даже до августа 1917 года фактически наиболее влиятельной политической партией России, меньшевики постепенно утрачивали это влияние. Раздиравшаяся противоречиями между сторонниками Потресова, Церетели и Мартова, в конце сентября, по мнению Суханова, «партия разлагалась» и «меньшевики неудержимо и быстро-быстро теряли кредит среди масс…». В результате прошедших в это время выборов нового состава Исполкома Пет-росовета из 44 избранных две трети были большевиками и всего 5 человек — меньшевиками (сторонники Мартова не получили вообще ни одного места) [6, с. 214—216]. На закончившихся в последние дни сентября выборах в районные думы Москвы меньшевики из 560 мест получили только 25, то есть 4,46 % (на аналогичных выборах в июне у них было 12 %), что позволило П. Милюкову написать о произошедшем тогда «полном почти исчезновении непонятных никому в своей колеблющейся тактике меньшевиков» и «решительном уходе активных элементов пролетариата от социалистической интеллигенции к демагогам». Не лучше обстояло дело и в главном партийном центре: «Кто знаком с положением дел в петроградской крупнейшей организации меньшевиков, ещё недавно насчитывавшей около 10 тысяч членов, — читаем мы в газете «Новая жизнь» от 29 сентября 1917 года, — тот знает, что она перестала фактически существовать. Районные собрания происходят при ничтожном количестве 20—25 человек, членские взносы не поступают, тираж "Рабочей газеты" катастрофически падает. Последняя общегородская конференция не могла собраться из-за отсутствия кворума» [7, с. 499].
На выборах в Учредительное собрание, которые в большинстве районов страны проходили во второй половине ноября, меньшевики потерпели тяжёлое поражение. Уже 16 ноября, когда появились предварительные итоги по Петрограду, Дан признал в «Рабочей газете», что партия меньшевиков потерпела «несомненное поражение», поскольку «выступила перед избирателями в состоянии полной дезорганизации и внутреннего разложения» [1, с. 319]. А вот что 19 ноября писал Аксельроду Мартов: «12 ноября в Питере и ряде губерний начались выборы в Учр[едительное] Собр[ание]… Все почти солдаты и подавляющее большинство рабочих и бедноты голосовало за б[ольшеви]ков (415 000 из 900 тыс. поданных вообще). Они завоевали 6 мест из 12. С августа (выборы в гор[одскую] думу) их число голосов возросло с 180 тыс. до 415. Почти такой же успех кадет: 250 тыс. (вместо 120) и 4 места. С[оциалисты]-[революционе]ры упали с 200 тыс. до 150 (2 места). Все остальные партии исчезли. Мы получили всего 10 тыс. (в августе 25). Потре-совцы, шедшие с отдель[ным] списком, — 16 тысяч, энесы — 18, а плехановцы — меньше 2 тысяч… Мы, вообще, почти повсюду не существуем как партия масс (Кавказ не в счёт), и это независимо от того, идём ли мы дружно или (как в Питере и Харькове) по двум фракц[ионным] спискам. Везде мы в городах имеем 5—10 % избирателей, т. е. элиту ра-боч[его] класса и части инт[еллигенции], массы же идут за б[ольшеви]ками, к[онституцион-ными] д[емократами] и эсерами». 30 декабря в другом письме Аксельроду Мартов добавил к этому: «Хотя мы собрали на выборах до 1/2 млн голосов, но масс у нас, кроме Кавказа, нет, а в революц[ионное] время без масс трудно сохранять жизненную парт[ийную] орг[аниза]цию. Собрания не посещаются. Деньги в парт[ийную] кассу не поступают, газета распространяется мало» [1, с. 343, 585]. Не менее удручающими были и результаты выборов в регионах. А. Гайдис отмечает, что в Костромской и Ярославской губерниях меньшевики значительно уступили всем своим конкурентам в борьбе за голоса избирателей. Если же сравнивать их с итогами муниципальных выборов лета 1917 года, то это поражение выглядело совсем плачевно: в Ярославле процентное соотношение уменьшилось почти в 4 раза, в Костроме — в 2,5 раза, в Рыбинске и Кинешме — на 66—67 % [8, с. 15]. Так что прав был делегат Чрезвычайного съезда РСДРП(о) И. Майский (Ляховецкий), когда в своём докладе 5 декабря заявил: «Наша партия переживает тяжёлый момент. Мы разбиты и будем слабо представлены в Учр[еди-тельном] С[обр]ании, и наше влияние на массы ничтожно» [1, с. 483].
Мрачный прогноз Майского полностью подтвердился, ибо на выборах меньшевики получили всего 3,15 % голосов (большевики — 22,5 %, эсеры — 39,5 %, кадеты — 4,5 %, энесы — 0,9 %). Это дало им возможность провести в Учредительное собрание 16 депутатов (из 765), коими стали Джафар Ахундов, Иосиф Бекзадян, Григорий Георгадзе, Владимир Джибладзе, Ной Жор-дания, Аршак Зурабов, Алексей Ломтатидзе, Гирш Лурье, Исидор и Ной Рамишвили, Матвей Скобелев, Александр Трояновский, Михаил Смирнов, Ираклий Церетели, Николай Чхеидзе и Акакий Чхенкели [9, с. 467, 526]. 14 из них были избраны от Закавказья, в том числе представлявший азербайджанскую социал-демократическую организацию «Гуммет» («Энергия») Ахундов. И только 2 меньшевика стали членами Учредительного собрания от других избирательных округов: бундовец Лурье от Бессарабского, а Трояновский — от Юго-Западного фронта.
Не могли похвастаться достаточными возможностями для желанной победы над большевизмом и представители «оборонческого» крыла партии. Когда 7 мая 1917 года на Всероссийской конференции РСДРП голосовался вопрос, чей проект резолюции по докладу о Временном правительстве и коалиционном министерстве принять за основу, за проект «революционного оборонца» Б. Горева (Гольдмана) было подано 44 голоса, а за проект «дореволюционного» [1, с. 21, 31] или «закоренелого» [6, с. 71] «оборонца» Потресова — в 4 раза меньше. Когда
10 мая на конференции для окончательного редактирования резолюции по докладу о восстановлении Интернационала было решено избрать комиссию, то при голосовании ставшие в итоге её членами «интернационалисты» Мартов и Аксельрод набрали 40 и 38 голосов соответственно, а «оборонцы» Потресов и Левицкий — всего 15 и 14 голосов, в результате чего в состав этой комиссии не попали. Когда 21 августа на Объе- динительном съезде РСДРП голосовался вопрос, какую из резолюций о текущем моменте принять за основу, за проект Церетели было отдано 115 голосов, Мартова — 79, а за резолюцию По-тресова проголосовало всего 11 человек из более 200 делегатов съезда [10, с. 287, 379; 11, с. 433].
Даже когда газета «День» достигла своего наибольшего успеха, и её тираж к осени 1917 года вышел на отметку 200—250 тысяч, этот рост влияния, как отмечал меньшевистский историк Б. Николаевский, шёл отнюдь не в той среде, которая была наиболее важна для Потресова, — «не в среде рабочего класса, не в кругах организованной социал-демократии»: «Происходило скорее обратное. Вокруг него, правда, собиралась сплочённая группа верных друзей и преданных сторонников; в этой группе было немало и рабочих, принадлежавших к числу отборных представителей рабочей интеллигенции. Но влияние этой группы и среди рабочих вообще, и среди организованных социал-демократов меньшевиков, — отмечал Николаевский, — не росло, а скорее падало. Даже целый ряд из тех лиц, которые в период "Самозащиты" и рабочих групп военно-промышленных комитетов числились среди единомышленников и сторонников А. Н., в эти дни, весной и летом 1917 г., от него отходили, предпочитая работать в рядах "революционных оборонцев"» [2, с. 447].
16 июля 1917 года «интернационалист» И. Астров (Повес) в выступлении на Второй общегородской конференции Петроградской организации РСДРП высказал мнение, что «…от оборонцев рабочий класс уходит всё дальше…» [11, с. 148]. Но всё-таки более ценным в этом отношении является признание, прозвучавшее из уст одного из ближайших в то время сподвижников Потресова И. Дементьева, который заявил 2 декабря на Чрезвычайном съезде РСДРП(о), что «в ходе нашей революции оборонческое течение не имело заметного влияния» [1, с. 430]. Потресов не оказался, полагал меньшевистский историк Лев Ланде, вождём «оборонческого» крыла партии в 1917 году: «Потресов не вошёл в центральные партийные учреждения, не представлял партию в советах или органах самоуправления, не участвовал в партийной печати. На объединительном съезде партии в августе 1917 г… потресовская группа… состояла из 9 делегатов из общего количества в 222. Лишь очень редко встречаются в партийной печати тех месяцев упоминания о партийных организациях или органах, солидаризирующихся с Потресовым. Таким исключением был, например, возникший в октябре 1917 г. в
Астрахани еженедельник "Мысль"». Потресов-ские взгляды преобладали в созданном в начале октября в Петрограде Избирательном комитете меньшевиков-оборонцев и сменившей его в ноябре петроградской организации «Социал-демократов меньшевиков (оборонцев)», однако «большинство партийных оборонцев», утверждал Ланде, «не поддержало этих организаций и осталось в стороне от них» [12, с. 77]. Располагая такими скудными ресурсами и незначительным влиянием как среди рабочих масс, так и даже внутри своей партии, тем самым «оборонческим силам», предстоявшую победу которых над большевизмом Потресов прогнозировал 7 декабря 1917 года в статье «Мёртвые души», рассчитывать на неё было крайне трудно. Если вообще возможно.
-
1. Меньшевики в 1917 году : в 3 т. / под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 3. Меньшевики в 1917 году: от корниловского мятежа до конца декабря. Часть вторая. От Временного Демократического Совета Российской Республики до конца декабря (первая декада октября — конец декабря). М., 1997.
-
2. Потресов А. Н. Избранное. М., 2002.
-
3. Потресов А. Н. Посмертный сборник произведений. Париж, 1937.
-
4. Аронсон Г. К истории правого течения среди меньшевиков // Меньшевики после Октябрьской революции. Сборник статей и воспоминаний Б. Николаевского, С. Волина, Г. Аронсона / ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1990.
-
5. Российский государственный архив социальнополитической истории. Ф. 275. Оп. 1. Д. 167.
-
6. Суханов Н. Н. Записки о революции : в 3 т. Т. 3. Кн. 5—7. М., 1992.
-
7. Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001.
-
8. Гайдис А. С. Меньшевистские организации Верхнего Поволжья в 1903 — начале 1920-х годов (на материалах Ярославской и Костромской губерний) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2003.
-
9. Тютюкин С. В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002.
-
10. Меньшевики в 1917 году : в 3 т. / под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 1. Меньшевики в 1917 году: от января до июльских событий. М., 1994.
-
11. Меньшевики в 1917 году : в 3 т. / под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 2. Меньшевики в 1917 году: от июльских событий до корниловского мятежа. М., 1995.
-
12. Ланде Л. Состояние партийной организации к моменту октябрьского переворота // Меньшевики / сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1988.
Список литературы Отстаивание А. Н. Потресовым и его сторонниками «оборонческих» взглядов на Чрезвычайном съезде РСДРП в декабре 1917 года
- Меньшевики в 1917 году: в 3 т./под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 3. Меньшевики в 1917 году: от корниловского мятежа до конца декабря. Часть вторая. От Временного Демократического Совета Российской Республики до конца декабря (первая декада октября -конец декабря). М., 1997.
- Потресов А. Н. Избранное. М., 2002.
- Потресов А. Н. Посмертный сборник произведений. Париж, 1937.
- Аронсон Г К истории правого течения среди меньшевиков//Меньшевики после Октябрьской революции. Сборник статей и воспоминаний Б. Николаевского, С. Волина, Г. Аронсона/ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1990.
- Российский государственный архив социальнополитической истории. Ф. 275. Оп. 1. Д. 167.
- Суханов Н. Н. Записки о революции: в 3 т. Т. 3. Кн. 5-7. М., 1992.
- Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001.
- Гайдис А. С Меньшевистские организации Верхнего Поволжья в 1903 -начале 1920-х годов (на материалах Ярославской и Костромской губерний): автореф. дис. канд. ист. наук. Ярославль, 2003.
- Тютюкин С В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002.
- Меньшевики в 1917 году: в 3 т./под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 1. Меньшевики в 1917 году: от января до июльских событий. М., 1994.
- Меньшевики в 1917 году: в 3 т./под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 2. Меньшевики в 1917 году: от июльских событий до корниловского мятежа. М., 1995.
- Ланде Л. Состояние партийной организации к моменту октябрьского переворота//Меньшевики/сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1988.