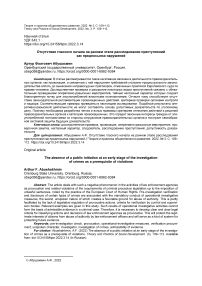Отсутствие гласного начала на раннем этапе расследования преступлений как предпосылка нарушений
Автор: Абушахмин Артур Фоатович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются такое негативное явление в деятельности правоохранительных органов, как провокация, и связанные с ней нарушения требований уголовно-процессуального законодательства вплоть до вынесения неправосудных приговоров, отмеченных практикой Европейского суда по правам человека. Доследственная проверка и раскрытие некоторых видов преступлений связаны с обязательным проведением оперативно-разыскных мероприятий, тайный негласный характер которых создает благоприятную почву для злоупотреблений властными полномочиями. Отчасти тому способствует отсутствие законодательной регламентации провокационных действий, критериев проверки органами контроля и надзора. Соответствующие примеры приведены в настоящем исследовании. Подобные результаты оперативно-разыскной деятельности не могут составлять основу допустимых доказательств по уголовному делу. Поэтому необходима разработка четких и ясных правовых критериев отнесения действий и решений правоохранительных органов к категории провокационных. Это оградит законные интересы граждан от злоупотреблений полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных органов и послужит своеобразной системой защиты будущих доказательств.
Доследственная проверка, провокация, оперативно-разыскные мероприятия, проверочная закупка, негласный характер, следователь, расследование преступлений, допустимость доказательств
Короткий адрес: https://sciup.org/149139627
IDR: 149139627 | УДК: 343.1 | DOI: 10.24158/tipor.2022.3.14
Текст научной статьи Отсутствие гласного начала на раннем этапе расследования преступлений как предпосылка нарушений
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия, ,
,
Гарантом пресечения противозаконных действий, выраженных в несоблюдении прав человека в области уголовного судопроизводства, являются Конституция Российской Федерации и ратифицированные на ее территории международные принципы и нормы. До недавнего времени наряду с возможностью обращения в суд за защитой нарушенного права российские граждане активно обжаловали действия правоохранительных органов на раннем этапе производства по уголовному делу в Европейском суде по правам человека (далее – ЕСПЧ) (Быкова, Самофал, 2015: 134).
Единой статистики о результатах рассмотрения жалоб не имеется, но подсчеты юристов свидетельствуют о тысячах поданных жалоб и около десяти тысяч удовлетворенных. По данным ЕСПЧ, на 31 декабря 2021 г. подано и принято к рассмотрению 17 013 некатегоризированных жалоб от российских граждан1.
Основными направлениями обжалования в рамках уголовного судопроизводства являются условия содержания заключенных лиц под стражу на период следствия, длительность сроков содержания под стражей, неисполнение судебных решений, эффективность расследования и гарантии справедливого судебного разбирательства. Особую популярность среди российских граждан приобрел вопрос конфиденциальности следственных и оперативных действий на раннем этапе расследования преступлений. Суть жалоб часто сводилась к тому, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении осужденных была осуществлена провокация со стороны сотрудников правоохранительных органов2.
Отметим, что использование результатов оперативно-разыскной деятельности в производстве по некоторым уголовным делам (например, упомянутым в рамках жалоб граждан – о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ) является обязательным, но негласный, закрытый характер этой специфической деятельности при некомпетентном ее осуществлении влечет нарушение прав человека и ведет к принятию неправосудных приговоров. В решениях Европейского суда активно подвергается критике факт неконтролируемого проведения судебными органами ряда негласных действий в отношении фигурантов и подозреваемых лиц на этапе проверки сообщений о преступлении. Так, неоднократно упоминается законодательная неурегулированность реализации проверочных закупок, прослушивания телефонных сообщений, а также смежных следственных действий.
Действительно, Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 1995 г. (далее – ФЗ об ОРД)3, устанавливает сочетание гласных и негласных начал как принципиальную и допустимую основу в методах борьбы с преступностью. Более того, многие следственные действия тяготеют к тенденции секретности, в целом в динамике изменений уголовно-процессуального законодательства наблюдается расширение негласного начала добывания доказательственной информации. Тем не менее надзор за деятельностью органов предварительного расследования может осуществляться многократно на уровне ведомства, органов прокуратуры и суда.
При этом в защиту действий правоохранительных органов упомянем п. 2.2 определения Конституционного суда РФ от 29 января 2019 г. № 75-О. В нем говорится о необходимости выполнения задач по борьбе с преступностью всеми доступными активными методами сообразно складывающейся следственной или оперативной ситуации. Только субъект доказывания вправе решать, какой способ противодействия является наиболее успешным, исходя из поведения преступного лица. Главное и незыблемое правило при этом – законность основания проведения следственного или оперативного действия4. Проблема российского правоприменения в том, что предмет и объект проверок следственных и оперативно-разыскных действий и мероприятий, сопряженных с элементами секретности или негласности, законодательно четко не определены.
Судебная система полностью доверяет и в полной мере не проверяет позицию следователя относительно необходимости контроля и записи телефонных переговоров (ст. 186 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации), изъятия электронных носителей и копирования с них информации (ст. 164.1 УПК РФ), получения информации о соединениях между абонентами (ст. 186.1 УПК РФ) и т. д.
Таким образом, не подвергаются судами критике все риски возможного привлечения к уголовной ответственности лица, заведомо невиновного или непричастного. При обосновании законности действий проверяющих органов и должностных лиц это объясняется скудностью имеющейся информации на первоначальном этапе досудебного производства. Однако мы бы объяснили это отсутствием у суда уголовно-процессуальной задачи о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела. Некоторые авторы полагают, что ее надлежит вернуть в уголовно-процессуальную парадигму в виде целеполагания для правоохранительных органов и судов (Азарёнок, 2021: 399).
В настоящий момент суд, осуществляя контроль, исходит из правомерного предположения о причастности лица к совершению преступления, утверждая постановление о разрешении на производство тех или иных следственных, процессуальных действий или оперативно-разыскных мероприятий. Тогда как в теории оперативно-разыскной и следственной деятельности уже выработан механизм минимизации принятия незаконного решения и допущения злоупотребления правом. Например, А.А. Помелов предлагает стандартизировать основания для осуществления проверочной закупки наркотических средств и критерии ее обоснованности (2018: 109). В числе последних автор называет необходимость проверки источника информации, степени достоверности сведений о целенаправленности умысла на совершение преступления.
Похожие советы правоприменителю дают и другие авторы. Чтобы избежать обвинений в провокации преступления, Ю.П. Гармаев и О.В. Викулов предлагают допрашивать оперативных сотрудников в целях установления оснований и условий проведения оперативно-разыскных мероприятий; тщательно изучать аудио- и видеозаписи, обращая при этом внимание на информацию об инициативе совершения преступления; запрашивать результаты оперативно-разыскных действий, в том числе с участием конфидентов с последующим их допросом в судебном органе1. Подобные проверочные действия на раннем этапе расследования являются проблематичным с точки зрения объема доказательственной информации, но вновь теорией процессуальной и предпроцессуальной деятельности предлагается совокупность условий, подлежащих соблюдению органами правопорядка в целях предотвращения провокаций. В этом смысле нам близка позиция И.Н. Потапова о необходимости проверки сведений о наличии противозаконных требований со стороны подозреваемого лица до начала действий следственно-оперативной группы; наличии выбора у подозреваемого поступить законным/противозаконным способом (например, получение взятки или отказ от ее получения, проверка взяткодателя на заинтересованность в получении выгоды и прямого отношения к ситуации) (Потапов, Деревянко, 2017).
В практике ЕСПЧ также стал распространенным случай отсутствия какого-либо документального подтверждения судебного контроля. Так произошло по делу В.А. Ахлюстина против Российской Федерации2, который на момент привлечения его к уголовной ответственности в России состоял в избирательной комиссии одного из регионов. Во время осуществления им должностных обязанностей в его кабинете проводилась скрытая видеозапись. В итоге один из судов признал В.А. Ахлюстина виновным в совершении преступления, а именно в том, что он превысил должностные полномочия, вследствие чего был приговорен к 2 годам лишения свободы.
В жалобе в ЕСПЧ В.А. Ахлюстин указывал на тот факт, что проведенные правоохранительными органами мероприятия были незаконными. Он аргументировал это тем, что с самого начала произошло нарушение тайны телефонных переговоров, поскольку сотрудники следствия заблаговременно не обратились к суду за разрешением на проведение оперативных и следственных действий. Стоит отметить, что сама природа таких действий, в особенности сочленяющих в себе гласные и негласные начала, отмечается российскими авторами как неопределенная (Бормотова, Абушахмин, 2021: 143), т. е. отечественный законодатель через установление аналогичных наименований следственных и оперативных действий смешал оперативную и процессуальную основу, чем создал одномоментно формализм и возможность для манипулирования следственной ситуацией.
Выходом из сложившейся ситуации может стать придание максимальной гласности осуществлению следственных действий. Открытость деятельности правоохранительных органов, освещенность средствами массовой информации сближают население и правоприменителя, упрочняют доверие граждан к работе следствия, оперативных органов и суда, снижают коррупционные риски. По словам О.Б. Дроновой, это гарантия соблюдения законности при осуществлении расследования по уголовному делу (2010: 53). Вместе с тем доктрина уголовно-процессуального права неизбежно движется в направлении проникновения негласного оперативного начала в институт следственных и процессуальных действий. Тем самым законодатель старается разрешить двуединую задачу – обеспечение процессуальными механизмами и формализмами прав и законных интересов вовлеченных в данную деятельность лиц и формирование доказательственной базы по уголовному делу.
Полагаем, что в целях пресечения суждений о несовершенстве правовой защищенности наших граждан необходимо усовершенствовать институт судебного контроля, например, путем включения в ФЗ об ОРД и УПК РФ полного списка документов, которые могли бы быть представлены уполномоченными сотрудниками, осуществляющими оперативно-разыскную и следственную деятельность, вместе с постановлением на разрешение проведения оперативно-разыскных или следственных действий в судебный орган. Также необходимо установить на уровне методических указаний критерии доказанности наличия либо отсутствия нарушений при проверке законности и обоснованности оперативно-разыскных и следственных действий.
Список литературы Отсутствие гласного начала на раннем этапе расследования преступлений как предпосылка нарушений
- Азарёнок Н.В. Сравнительно-правовой аспект нормативного определения целеполагания уголовно-процессуальной деятельности // Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15, № 3. С. 392-400. https://doi.org/10.17150/2500-4255.2021.15(3).392-400.
- Бормотова Л.В., Абушахмин А.Ф. Деятельность следователя по приостановленному делу в условиях законодательных запретов и правоприменительной конфиденциальности производства процессуальных действий // Право и государство: теория и практика. 2021. № 10 (202). С. 142-144. https://doi.org/10.47643/1815-1337_2021_10_142.
- Быкова С.И., Самофал Т.О. Европейский суд по правам человека. Влияние его решений на национальную судебную систему // Вестник Международного юридического института. 2015. № 4 (55). С. 132-140.
- Дронова О.Б. Современные возможности реализации процесса взаимодействия экспертно-криминалистических подразделений со средствами массовой информации в целях раскрытия и расследования преступлений // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010. Вып. 1 (12). С. 50-53.
- Помелов А.А. Основания для проведения проверочной закупки наркотических средств и критерии ее обоснованности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 4 (33). С. 102-110.
- Потапов И.Н., Деревянко Е.О. Всегда ли оперативный эксперимент панацея для изобличения коррупционера? // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 178-182.