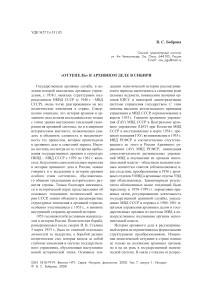«Оттепель» в архивном деле в Сибири
Автор: Боброва В.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736948
IDR: 14736948 | УДК: 9(571)+351.85
Текст статьи «Оттепель» в архивном деле в Сибири
Государственная архивная служба, в ведении которой находились архивные учреждения, с 1938 г. являлась структурным подразделением НКВД СССР (с 1946 г. – МВД СССР), очень чутко реагировавшим на все политические изменения в стране. Совершенно очевидно, что история архивов и архивного дела должна исследоваться не только с точки зрения внутренних тенденций саморазвития архивной системы, но и в широком историческом контексте, позволяющем увидеть и объяснить сложность и неоднозначность тех процессов, которые происходили в архивном деле в советский период. Именно поэтому, несмотря на то, что время пребывания государственных архивов в структуре НКВД – МВД СССР с 1939 по 1961 г. является, безусловно самостоятельным периодом в истории архивного дела в России, можно говорить и о выделении в истории архивов особого этапа «оттепели», обусловленного общими тенденциями исторического развития страны. Только благодаря имеющимся в исторической науке представлениям об основных тенденциях политической истории СССР, можно объяснить неоднократные структурные изменения в архивной отрасли, особенно участившиеся с 1953 г., и выявить внутренний стержень архивной истории.
1953 год является безусловным водоразделом в истории России. Политическая борьба, развернувшаяся после смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 г., была не схваткой отдельных личностей за лидерство, а борьбой разных политических сил, которая влекла за собой глубокие изменения в системе государственного управления, обусловливая наступление новой исторической эпохи. Основные тен- денции политической истории рассматриваемого периода заключались в снижении роли силовых ведомств, повышении значения органов КПСС и некоторой децентрализации системы управления государством. С этим связаны введение коллегиального принципа управления в МВД СССР, переименование в апреле 1953 г. Главного архивного управления (ГАУ) МВД СССР в Центральное архивное управление (ЦАУ) при Коллегии МВД СССР и восстановление в марте 1954 г. прежнего названия ГАУ; возникновение в 1955 г. МВД РСФСР и соответственно отсутствовавшего до этого в России Архивного управления (АУ) МВД РСФСР; ликвидация самостоятельности региональных управлений МВД и подчинение их органам исполнительной власти – областным исполнительным комитетам советов (облисполкомам) и, как следствие, преобразование в 1956 г. архивных отделов УМВД в архивные отделы УВД при облисполкомах. Закономерным результатом обозначенных выше тенденций были пересмотр в 1958–1959 гг. нормативно-правовых актов, регулировавших деятельность государственной архивной службы, упразднение МВД СССР и перевод в 1960–1961 гг. органов управления архивным делом и государственных архивов из системы МВД в непосредственное подчинение органам исполнительной власти.
История архивного дела в рассматриваемый период не ограничивалась формальными структурными преобразованиями. Изменение политической ситуации в стране влияло не только на положение архивных органов, но и на их роль в государственной политической системе. В связи с отказом от репрес-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © В. С. Боброва, 2008
сивных методов управления государством и намерением утвердить «социалистическую законность» в качестве основы для регулирования политических процессов изменилось представление о значении архивных документов. Архивы перестали ассоциироваться, прежде всего, с источниками компрометирующего материала на граждан страны, что было характерно для предшествующего периода и обусловливало их активную роль в деятельности репрессивных органов. Одним из очевидных результатов «оттепели» в архивном деле было то, что архивные документы из средства социального обличения эволюционировали в средство социальной защиты. Определенным рубежом на этом пути являлся 1956 г. и, в частности, принятие в июле этого года закона о государственных пенсиях, вызвавшего поток обращений граждан в архивные органы с запросами о подтверждении трудовой деятельности.
Наиболее ярко проявления «оттепели» в архивном деле отразились в изменении взаимоотношений архивистов с исследователями, в преодолении закрытости архивных учреждений, установившейся в предшествующий тоталитарный период. Уже в конце 1953 г. руководителями государственной архивной службы ставился вопрос о необходимости улучшения обслуживания исследователей в читальных залах государственных архивов. Распоряжением начальника Центрального архивного управления МВД СССР Б. И. Мусатова от 11 декабря 1953 г. начальникам региональных архивных управлений, отделов МВД – УМВД республик, краев и областей предлагалось пересмотреть время работы читальных залов с учетом возможности занятий исследователей в вечерние часы. Распорядок работы читальных залов государственных архивов предлагалось установить, сообразуясь с интересами исследователей, путем соответствующей передвижки времени начала и окончания работы читальных залов в определенные дни недели 1.
Особенно богатым на проявления «оттепели» в архивном деле был 1954 г. В этом году наметилось углубление отношений между ГАУ и отделением исторических наук Академии наук (АН) СССР. Ведущие ученые-историки страны активизировали де- ятельность по реализации права научного использования архивных документов. На заседании бюро отделения исторических наук АН СССР 20 апреля 1954 г. обсуждался щепетильный вопрос о необоснованном засекречивании документальных материалов фондов Преображенского приказа и Тайной канцелярии в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА). Начальник ГАУ Б. И. Мусатов 24 апреля 1954 г. лично ответил академику-секретарю отделения исторических наук АН СССР М. Н. Тихомирову, что данные документы никогда не засекречивались. Б. И. Мусатов проинформировал М. Н. Тихомирова о том, что в связи с возникновением проблемы доступа ученых-исследователей к тем или иным документальным материалам и необоснованным засекречиванием архивной информации, в ГАУ состоялось совещание, в центре внимания которого стоял вопрос об улучшении качества обслуживания посетителей читальных залов 2. Получив ответ, отделение исторических наук АН СССР 29 апреля 1954 г. обратилось к Б. И. Мусатову с просьбой назначить представителей ГАУ для участия в работе комиссии по изучению вопроса о работе секторов, занимающихся изучением истории советского общества 3. Таким образом, подготовительная работа по рассекречиванию и расширению доступа исследователей к архивным документам была инициирована научной общественностью за два года до появления распоряжения МВД СССР и начала официальной кампании по рассекречиванию архивных документов в 1956 г.
В 1954 г. возобновилось издание журнала «Исторический архив», который воспринимался не только как возможность для публикации наиболее интересных архивных документов, но и как широкая трибуна для систематического публичного обсуждения вопросов теории и практики архивного дела и истории архивного строительства в СССР. В циркуляре от 14 июля 1954 г. ГАУ со ссылкой на задачи, поставленные XIX съездом партии, и «исторические постановления пленумов ЦК КПСС о дальнейшем развитии научно-исследовательской работы и поднятии культурного уровня советского народа», реко- мендовало руководящим и научным сотрудникам архивных учреждений всех уровней приступить к теоретическому осмыслению вопросов архивной работы с целью освещения на страницах журнала опыта и истории архивного строительства 4.
В 1954 г. активному обсуждению подвергался вопрос о перестройке и активизации деятельности научных советов при архивных органах. К маю 1954 г. было выработано новое Положение о научном совете при начальнике архивного управления (отдела) МВД союзной и автономной республики, УМВД края или области. Тон в перестройке деятельности научных советов задавало ГАУ. В начале 1955 г. новый начальник ГАУ кандидат исторических наук, доцент Н. В. Матковский обратился к руководителям ряда центральных научно-исследовательских учреждений, таких как Институт истории АН СССР, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭЛС при ЦК КПСС, Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, с просьбой ввести своих представителей в число членов Научного совета ГАУ МВД СССР.
Показательны изменения в практике согласования состава Научного совета ГАУ. Н. В. Матковский с просьбой утвердить состав Научного совета обратился 15 марта 1955 г. одновременно к своему непосредственному начальнику министру внутренних дел СССР генерал-полковнику С. Н. Круглову и в Высшую аттестационную комиссию при Министерстве высшего образования СССР – к заместителю председателя ВАК В. А. Кириллину. В представлении на утверждение членов Научного совета С. Н. Круглову говорилось о том, что состав Научного совета ГАУ длительное время не пересматривался, в результате чего происходили объективные изменения в его составе. Пересмотр состава Научного совета был необходим в целях его дополнения и активизации деятельности 5. В письме в ВАК отмечалось, что «для плодотворного и всестороннего разрешения вопросов по использованию документальных материалов Главное архивное управление расширяет и укрепляет деловые связи с научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями страны». Высшая аттестационная комиссия информировалась о том, что к работе Научного совета ГАУ привлечены виднейшие ученые историки и экономисты страны. В частности, в состав Научного совета ГАУ вошли такие известные специалисты-историки, как М. Н. Тихомиров, В. И. Шунков, Н. М. Дружинин, П. А. Зайончковский, С. Г. Стру-милин, А. А. Новосельский, И. Н. Земсков, А. М. Панкратова. Для придания большей действенности и расширения деловых контактов с научно-исследовательскими учреждениями ГАУ просило ВАК «рассмотреть и одобрить» состав Научного совета 6.
27 апреля 1955 г. состоялось расширенное заседание Научного совета ГАУ, на котором обсуждались вопросы о состоянии и перспективах работы по использованию документальных материалов в народнохозяйственных и научных целях. На заседании выступали академик М. Н. Тихомиров, директор Института истории АН СССР профессор А. А. Сидоров, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова П. А. Зайончковский и др. Было отмечено, что данный вопрос не обсуждался на Научном совете ГАУ в течение 7 лет, да и в целом работа Научного совета ранее носила нерегулярный и эпизодический характер. Участники заседания подчеркнули положительное значение предпринятых в последние месяцы ГАУ мер, направленных на улучшение использования архивных документов. Много внимания было уделено обсуждению научно-издательской деятельности архивных органов. Участники заседания предлагали расширить работу по публикации исторических источников не только государственных, но и ведомственных архивов. В первую очередь предлагалось уделять внимание публикации документов по истории советского общества. На заседании также рассматривался вопрос о повышении научного уровня деятельности региональных архивных учреждений. В частности, П. А. Зайончковский высказал мнение о необходимости усиления деятельности научных советов в местных архивных органах.
В сравнении с Центром Сибирь традиционно запаздывала в появлении здесь новых тенденций исторического развития. Среди сибирских региональных архивных орга- нов в 1953 г. интенсивные изменения начали происходить только в Новосибирской области. В марте 1953 г. в системе УМВД по Новосибирской области были произведены номенклатурные кадровые перестановки. На должность начальника архивного отдела 16 марта 1953 г. была назначена Н. Д. Вер-тоградская, до этого являвшаяся секретарем партийной организации фабрики им. ЦК профсоюзов швейников 7. Не имея профессионального образования, навыков и опыта архивной работы, Н. Д. Вертоградская тем не менее весьма активно проявила себя в должности начальника архивного отдела. Деятельность Н. Д. Вертоградской вполне соответствовала атмосфере «оттепели», демонстрируя, однако, особенности общественно-политического развития в этот период сибирской провинции. «Оттепель» в Сибири, в отличие от Центра, по началу в меньшей степени опиралась на «низовые» общественные потоки, захватывая, прежде всего, уровень административных взаимоотношений. Именно этим было обусловлено активное взаимодействие Н. Д. Вертоград-ской с руководителями областных партийной и исполнительной властей.
Следует отметить роль ГАУ в формулировании основных направлений деятельности новосибирских архивистов в рассматриваемый период. В июле 1953 г. состоялось обследование состояния и работы архивных органов Новосибирской области старшим инспектором ЦАУ МВД СССР. В акте проверки деятельности архивного отдела УМВД и Государственного архива Новосибирской области от 10 июля 1953 г. в качестве недостатков отмечалось, что в архивных органах Новосибирска до сих пор не было создано коллектива научных сотрудников, способных заниматься публикаторской работой, не проводилась работа по повышению квалификации научных сотрудников в области археографии. Руководство архивного отдела и государственного архива Новосибирской области критиковалось за то, что архив совершенно не занимается разработкой методических пособий и рабочих инструкций в целях повышения качества научно-технической обработки и других видов работ, не привлекает к самостоятельной методической ра- боте начальников отделов архива и научных сотрудников. Инспектор ЦАУ в акте обследования отметила, что методические совещания новосибирских архивистов носят служебный характер, на них «не обсуждаются общеархивные темы, обобщающие опыт работы архива в целом» 8. Эти критические замечания подчеркивают принципиальную разницу в вопросе организации методического обеспечения деятельности архивных органов в годы «оттепели» в сравнении с предшествующим периодом. Заслуживает внимание и замечание инспектора ЦАУ о том, что слабо происходит обмен опытом работы как внутри архива, так и с другими архивными органами и государственными архивами СССР 9. «Оттепель» была временем восстановления связей между архивными органами и архивами соседних областей, разрушенными в предшествующий тоталитарный период «режимной» деятельности архивных учреждений. В ответ на критику руководителей архивной службы в октябре 1953 г. при архивном отделе УМВД по Новосибирской области состоялось служебное совещание по обмену опытом в работе, на котором присутствовала начальник архивного отдела УМВД по Кемеровской области Е. А. Дворжицкая. После общения с руководителем архивного органа Кемеровской области новосибирцы высказали намерение перенять опыт кемеровчан по изучению статей журнала «Вопросы истории» 10, что само по себе характеризует изменения в общественной атмосфере этого периода. В последующие годы руководители ГАУ еще больше побуждали местных архивистов расширять контакты с соседними архивными учреждениями.
Разумеется, в целом местные архивные органы ориентировались на выполнение решений ЦК КПСС по идеологической работе и местных партийных организаций. Приказ МВД СССР от 23 октября 1953 г. обязал архивные органы МВД и государственные архивы СССР «значительно усилить научно-публикаторскую работу, обратив особое внимание на повышение идейно-политического уровня и научного качества сборников документов и научно-справочной литерату- ры». Руководители архивных учреждений должны были регулярно информировать руководящие партийные органы о состоянии научно-публикаторской работы и при необходимости для разрешения принципиальных вопросов прибегать к помощи партийных комитетов.
В связи с активизацией работы по составлению документальных сборников в годы «оттепели» у архивистов Сибири начали возникать специфические проблемы. Например, руководители архивных органов Алтайского края 11 сентября 1954 г. обратились в научно-издательский отдел ГАУ с вопросом о том, «как быть, если подпись под документом, который в целом или частично представляет интерес для сборника, принадлежит лицу, впоследствии себя скомпрометировавшему» 11. В ответе начальника научно-издательского отдела ГАУ полковника Ивашечкина сообщалось, что археографическая обработка документов должна производится в соответствии с основными правилами публикации документов, изданными в 1954 г. Что касается документов, подписанных «лицами, скомпрометировавшими себя впоследствии», т. е. советскими государственными деятелями, репрессированными в годы сталинского террора, публиковать их запрещалось. В некоторых случаях сведения из официальных документов такого рода после тщательной проверки их достоверности и по согласованию с партийными организациями могли использоваться при составлении научно-справочного аппарата к сборнику 12. Несколько позже, в марте 1955 г., этот вопрос поднимался известными историками того времени А. А. Новосельским, А. А. Сидоровым, В. И. Шунковым и являлся предметом специального рассмотрения сотрудниками аппарата ЦК КПСС [1. С. 301].
Следует отметить особую ситуацию в Томске, обусловленную наличием здесь старейшего в Сибири университета, и роль томской научной интеллигенции в формировании атмосферы «оттепели» в Сибири. В декабре 1954 г. в Томском университете состоялась конференция, посвященная 350-летию г. Томска, в работе которой приняли участие историки высших учебных заведений Томска,
Красноярска, Тюмени, Хакассии, работники Томского и Омского краеведческих музеев, Томского областного архива. В ходе работы конференции было отмечено отсутствие докладов в области архивоведения, в связи с чем конференция приняла специальное решение привлечь научных работников областных архивов Томска, Тюмени, Красноярска и других городов к участию в работе следующей конференции. В развитие этого решения председателем Ученого совета ТГУ, известным ученым, историком-сибиреведом З. Я. Бояршиновой 20 января 1955 г. было направлено письмо начальнику Новосибирского областного архива с информацией о содержании решений конференции, приглашением к участию в конференции, посвященной 50-летию Первой русской революции, намеченной ТГУ на осень 1955 г., а также с просьбой «поделиться своими соображениями о возможном научном сотрудничестве с работниками Томского университета в области изучения других проблем истории Сибири» 13.
Между тем в Новосибирске лидирующую роль в разворачивании движения «оттепели» играли административные учреждения. В ноябре 1955 г. отделом пропаганды и агитации, науки и культуры Новосибирского областного комитета КПСС было решено провести совещание по вопросу использования архивных документальных материалов в интересах науки и практики. Совещание, на котором присутствовало 83 чел., состоялось 14 декабря 1955 г. в помещении Новосибирской областной библиотеки. Материалы совещания представляют значительный интерес, поскольку ярко характеризуют атмосферу тех лет и дают представление о вопросах, которые наиболее всего волновали активную научную общественность г. Новосибирска. Председателем совещания являлся заведующий агитпропотделом, или, как указывалось в протоколах совещания, «отделом Науки и культуры» Новосибирского обкома КПСС.
Совещание началось с докладов начальника архивного отдела УМВД по Новосибирской области Н. Д. Вертоградской и заведующего Новосибирским областным партийным архивом А. М. Морозова об использовании архивных документальных материалов государственного и партийного архивов Новоси- бирской области 14. Особенно яркое впечатление производит доклад Н. Д. Вертоградской, в котором значительное место уделялось причинам недостаточно широкого использования архивных документов государственных архивохранилищ Новосибирской области: «…Мы не популяризируем того, что у нас есть и не только в [о]блгосархиве, но и в районах, учреждениях города и области; не известен порядок пользования документами; в свое время существовали трудно преодолимые “рогатки” в доступе к документам; недружелюбно принимали исследователей и работники архивов, не желая обременить себя лишним трудом» 15. Обращает на себя внимание стремление начальника архивного отдела привлечь ученых к использованию архивных документов не только областного, но и городских, районных и ведомственных архивов. Н. Д. Вертоградская познакомила участников совещания с основными темами, разработанными по материалам госархива Новосибирской области, и отметила их очевидное однообразие. Она глубоко охарактеризовала документальные материалы фондов Государственного архива Новосибирской области, которые могли бы служить источниками для разработки новых интересных тем 16. Начальник архивного отдела предложила учебной части исторического факультета Новосибирского педагогического института привлечь к изучению архивных документов студентов, как это уже давно принято на исторических факультетах ведущих вузов страны 17. В докладе Н. Д. Вертоградской отмечалась недостаточно активная работа архивных органов, из-за чего «большая часть документов остается лежать в учреждениях города и канцеляриях, в шкафах и на шкафах, в сараях и кладовых, не обработана и не доступна к использованию». Причем, прежде всего, имелась в виду неблагополучная ситуация с хранением архивных документов в управлениях и отделах областного, городского и районных исполнительных комитетов советов 18. Упоминалось также о недостаточной помощи государственным архивам со стороны органов МВД, в результате чего «неко- торые государственные архивы не сохранили важнейшие документы, а часть того, что есть в архивах порой недоступна для исследования», в областном архиве имеются такие описи, по которым трудно установить содержание документов, мал читальный зал для работы исследователей 19.
Доклад заведующего партийным архивом Новосибирской области А. М. Морозова по тону и содержанию являлся более консервативным и сдержанным. В нем была дана характеристика документальных материалов, хранившихся в фондах партархива, приведены сведения об исследователях, занимавшихся в читальном зале архива, указаны темы исследований, наименования документальных сборников и научных работ, опубликованных по материалам архива. А. М. Морозов выразил мнение, у которого в те годы имелось еще значительное число сторонников среди партийных деятелей, что написание диссертаций – «не частное дело отдельных ученых, а это общегосударственное и партийное дело» 20. Данная точка зрения служила в предшествующие годы основанием для грубого и некомпетентного вмешательства в деятельность ученых, что отражалось в организации работы исследователей в читальных залах архивов. А. М. Морозов достаточно внимания уделил этому вопросу, охарактеризовав условия и порядок работы с архивными документами партийного архива в Новосибирской области. В его выступлении нашли отражение и новые тенденции «оттепели»: «У нас в [п]артархиве для работы исследователей над архивными материалами имеется отведенная комната, хотя она и небольшая, но удобная для этой цели. Сейчас, согласно новых правил, на днях полученных из ИМЭЛС при ЦК КПСС, предусмотрено введение в научный оборот и для выдачи исследователям дополнительно большое количество документальных материалов, в том числе и документов соратников В. И. Ленина, И. В. Сталина, выдающихся деятелей партии и государства. Кроме того[,] упрощено оформление на допуск для работы над документами партархива. Остается в силе правило, что допускаются только члены КПСС, члены ВЛКСМ, работники комсомольских органов могут быть допущены для работы по архивным материалам тех органов, в которых они работают. В работе по обслуживанию исследователей в нашем партийном архиве имелись и отдельные недостатки, иногда задерживались на просмотре тетради с записями исследователей, но здесь есть вина и самих исследователей. Они[,] стараясь как можно быстрее и больше записать[,] пишут неразборчиво, а иногда даже условными знаками и сокращенно, что затрудняет просмотр этих тетрадей, но все это товарищи не основное, не существенное и вполне исправимо, а главное, и по случаю чего мы с Вами сегодня собрались – это дружнее и активнее всем нам взяться за полноту использования богатейшего материала – достояния нашей пар-тии[,] всего [с]оветского народа, хранящегося в архивах и библиотеках нашей области в интересах строительства коммунизма в нашей стране» 21.
Выступавшие в прениях исследователи с большим одобрением отнеслись к факту созыва совещания, высказали свои пожелания об организации работы в архивах. Ими поднимались вопросы о трудностях при получении доступа к архивным документам Новосибирского партархива, о желательности продления времени работы читальных залов архивов до 9–10 часов вечера и возможности организации работы исследователей в них в воскресное время, о необходимости создания объективной истории города Новосибирска, о трудностях публикации частными лицами и научными работниками результатов исследования в прессе, художественных журналах и научных сборниках, об излишнем консерватизме и закрытости сибирской провинции, в сравнении с атмосферой столичной жизни, об активизации краеведческой работы и организации Новосибирского краеведческого общества с центром в г. Барабинске для координации работы с разными историческими источниками, о создании «архивного совета» в качестве центра, руководящего научными исследованиями, о высвобождении для научных работников отдельного дня для занятий в архиве, о разграничении сфер деятельности историков и архивистов.
Окончательные итоги совещания были подведены представителем обкома КПСС, который подчеркнул, что работа архивистов «не ограничивается хранением архивных мате- риалов и требует глубоко научного подхода при сборе, приведении в порядок, систематизации материалов» 22. Он выразил негативное отношение к тому, что существует «порочное мнение, что архив это только место, где сваливаются старые материалы» 23, поддержал идею организации архивного совета, высказав намерение обсудить данный вопрос в ближайшее время в обкоме партии 24. Учреждение краеведческого общества Дюнин посчитал спорным, в связи с тем, что в Новосибирске имелось Географическое общество, которое, по его мнению, необходимо было использовать более полно в краеведческих целях. По вопросу о создании условий для публикации исторических материалов, он предложил на первых порах добиться увеличения периодичности выхода журнала «Сибирские огни» до 12 раз в год и расширения в нем отделов краеведения и публицистики 25.
Еще более интенсивные изменения в деятельности архивных органов и государственных архивов начали происходить в 1956 г. Политические изменения в стране в связи с ХХ съездом КПСС оживили деятельность как центральных, так и региональных архивных учреждений. С июля 1956 г. началось издание «Научно-информационного бюллетеня» ГАУ МВД СССР, главной целью которого ставилось обобщение и распространение положительного опыта работы теперь уже не только советских, но и зарубежных архивных учреждений. В это же время обсуждался вопрос об увеличении периодичности издания журнала «Исторический архив». Вновь актуализируется мысль о реализации и наполнении действенным содержанием идеи о научно-исследовательском статусе архивных учреждений. В 1956 г. при архивном отделе УВД Новосибирского облисполкома был создан научный совет, в который кроме работников архивных органов вошли представители высших учебных заведений, научных, партийных и других учреждений города. В порядке налаживания связей с научными учреждениями работники архивного отдела и Государственного архи- ва Новосибирской области принимали участие в работе научной конференции по вопросам деятельности Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома, состоявшейся в Новосибирском педагогическом институте, участвовали в читательской конференции, посвященной 35-летию журнала «Сибирские огни» 26.
С 1956 г. на ход работы сибирских архивных учреждений всё больше начинают оказывать влияние ученые-исследователи. Например, в результате письменного обращения 29 июня 1956 г. аспиранта Московского университета к начальнику архивного отдела УМВД по Новосибирской области Н. Д. Вертоградской активизировалась работа по налаживанию ситуации в областном, городском и районных архивах Новосибирской области. Допущенный к работе в Новосибирском городском архиве аспирант МГУ, обнаружил здесь фонды окружных, уездных и волостных учреждений, содержавшие, по его мнению, «важные и интересные данные для исследователей по истории». Именно он обратил внимание на то, что эти фонды не имеют отношения к городскому архиву, а должны храниться в областном архиве 27. Основываясь на заявлении исследователя, Н. Д. Вертоградская обратилась с просьбой в Новосибирский горисполком оказать помощь в решении сформулированной им проблемы. В письме Н. Д. Вертоградской председателю Новосибирского горисполкома подчеркивалось, что исключительную ценность для тем, разрабатываемых учеными, исследователями и диссертантами, представляют документы Новосибирского городского архива, который находится в таком состоянии, что исключается всякая возможность работы над хранящимися в нем документами. Начальник архивного отдела просила председателя горисполкома «принять меры к подготовке и сдаче особо важных фондов (волревкомы, волисполкомы, [о]крисполком и его отделы, [у]ездный исполком и его отделы, [о]крколхозсоюзы, [о]крселькредитсоюз и другие)» в областной архив. В связи с тем, что заведующая Новосибирским городским архивом Н. Н. Якимова являлась единственным работником в нем и была полностью загружена справочной работой, Н. Д. Вер- тоградская предлагала выделить из аппарата исполкома группу сотрудников, которые подготовили бы указанные документы к сдаче в Государственный архив Новосибирской области 28. Такая группа в составе шести человек действительно была организована. В декабре 1956 г. Н. Д. Вертоградской было составлено письмо на имя секретаря Новосибирского обкома КПСС Б. И. Дерюгина, подписанное начальником УМВД по Новосибирской области, с просьбой обратить внимание на необходимость создания условий для улучшения деятельности Новосибирского областного архива. В письме отмечалось, что «в силу нетерпимых условий в работе [о]блгосархива, последний не только не оправдывает своего назначения, как научно-исследовательское учреждение, не использует всех архивных материалов для развития исторической науки, не создает условий ученым, диссертантам в их труде, но не может сохранить собранный богатейший исторический материал: все документы, находящиеся в подвале – сырые, покрылись плесенью и грибком, гибнут. Из-за отсутствия необходимых помещений на протяжении 20 лет [г]осархив не ведет приема документов от организаций, учреждений, предприятий, колхозов, совхозов, МТС и т. д., а последние, отложившиеся за много лет и особенно за годы Великой Отечественной войны, не обрабатываются и приходят в негодность» 29.
С 1956 г. «оттепель» начала отражаться и в деятельности омских архивистов, продолжавших еще некоторое время по инерции публиковаться на страницах местной газеты «Молодой сталинец». Постепенно преодолевалась «закрытость» омских архивных учреждений и устанавливались связи архивистов с городской общественностью. В 1956 г. в газете «Омская правда» появилась статья научного сотрудника архивного отдела УМВД по Омской области И. Д. Клеткина «Шире использовать материалы архива», в которой рассказывалось об «архивных богатствах» Государственного архива Омской области и о путях использования документальных материалов. В газете «Омская правда» 20 февраля 1957 г. омские архивисты опубликовали обращение к деятелям науки, техники, лите- ратуры и искусства с предложением передавать в государственный архив имеющиеся в их распоряжении документальные материалы. Расширились контакты омичей с коллегами-архивистами из соседних областей. В 1956 г. в порядке обмена опытом руководители омских архивных учреждений выезжали в Свердловск, заместитель начальника архивного отдела Омской области участвовала в обследовании работы архивных органов Курганской области. В свою очередь в Омск приезжали начальники архивного отдела и Государственного архива Татарской АССР, старший научный сотрудник архивного отдела Тюменской области 30. Омские архивисты – научные сотрудники архивного отдела и Государственного архива Омской области – И. Д. Клеткин и И. С. Колмагоров с целью отбора документов для сборника ездили в командировки в государственные архивы Москвы и Новосибирска. В 1957 г. в Омск приезжали два научных работника Томского государственного архива. Заведующая читальным залом Государственного архива Омской области для обмена опытом посетила Новосибирский областной государственный архив 31. В 1956 г. в штат архивного отдела и Государственного архива Омской области были дополнительно введены один научный и два младших научных сотрудника. Тогда же в Государственном архиве Омской области был оборудован читальный зал на шесть столов. В 1957 г. состоялось совещание с исследователями, посетителями читального зала, в котором приняли участие семь кандидатов исторических наук 32.
В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 7 февраля 1956 г. «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств» госархивы начали работу по пересмотру состава материалов отделов секретных фондов. На 1 января 1956 г. в отделах секретных фондов государственных архивов СССР находилось около 12,5 млн дел, из которых в центральных госархивах – около 3,5 млн, а в государственных архивах республик, краев и областей – около 9 млн единиц хранения (ед. хр.).
По состоянию на 25 апреля 1957 г. государственными архивами СССР было переведено с секретного на общее хранение более 1 млн 200 тыс. ед. хр. 33 Однако вклад сибирских архивов в дело рассекречивания был незначителен. В результате состоявшейся в августе 1956 г. проверки работы архивного отдела УМВД и Государственного архива Омской области инспекторами ГАУ было установлено, что в отделе секретных фондов Государственного архива Омской области хранится значительное количество необоснованно засекреченных материалов и материалов, утративших свою секретность, между тем, подготовительные мероприятия по рассекречиванию документальных материалов на момент инспектирования еще не проводились 34. В годовом отчете архивных органов Омской области за 1956 г. указывалось, что в 1956 г. было просмотрено три фонда отдела секретных фондов, объемом в 382 ед. хр., из которых было рассекречено и передано на общее хранение 73 ед. хр. 35 Значительно больших масштабов рассекречивание архивных документов достигло в Государственном архиве Томской области: за вторую половину 1956 г. здесь было рассекречено 6 364 ед. хр. 36 В Государственном архиве Новосибирской области на секретном хранении в 1956 г. находилось 206 фондов (36 952 ед. хр.), в 1957 г. – 209 фондов (38 502 ед. хр.), лишь в 1958 г. количество секретных материалов в ГАНО сократилось до 5 663 ед. хр. 37
В циркуляре ГАУ МВД СССР от 27 октября 1956 г. содержались рекомендации по планированию местными архивными органами работ на 1957 г. При составлении планов работ архивисты должны были ориентироваться на решения ХХ съезда КПСС и постановления Совета министров СССР от 7 февраля 1956 г. Главное внимание в деятельности архивных органов необходимо было сосредоточить на выполнении двух основных задач: обеспечении сохранности документальных материалов и расширении их использования в интересах развития народного хозяйства и исторической науки. В числе важнейших были требование завершить работу по передаче на общее хранение ранее необоснованно засекреченных документов и предложение наметить мероприятия по улучшению обслуживания исследователей в читальных залах, организации в читальных залах консультаций по составу и содержанию фондов архива, проведению конференций исследователей, работающих в читальных залах, оживлению деятельности научных советов и расширению круга обсуждаемых на их заседаниях вопросов 38.
В январе 1957 г. ГАУ МВД СССР направило в Государственный архив Новосибирской области старшего научного сотрудника Института истории АН СССР Израиля Менделевича Разгона. Цель командировки заключалась в организации работы и оказании методической помощи сибирским архивистам по выявлению документальных материалов для общесоюзной серии сборников «Великая Октябрьская социалистическая революция» 39. Появление И. М. Разгона в Сибири сыграло существенную роль в развитии исторической науки в регионе и оказало определённое влияние на закрепление атмосферы «оттепели» в сибирских архивных учреждениях. Так, назначенная в 1956 г. на должность начальника Государственного архива Томской области выпускница Томского университета Л. В. Муравьёва впоследствии защитила под научным руководством И. М. Разгона диссертацию на тему «Становление советского архивного дела и истпартов в Сибири (1919–1925 гг.)», фактически положив начало научному осмыслению истории сибирских архивов в советское время [2].
В 1957 г. значительно увеличились расходы сибирских архивов на научную работу. В годовом отчете архивных учреждений Омской области за 1957 г. указывалось, что объем расходов на научную работу сопоставим с расходами на приобретение специального оборудования. Однако расширение публикаторской деятельности архивистов не способствовало улучшению качества и повышению научного уровня публикаций. Отсутствие свободной научной атмосферы, слабая теоретическая подготовка, положение в структуре административных учреждений предопределяли компилятивность и идеоло- гическую направленность архивных публикаций и выступлений сибирских архивистов среди общественности. Архивисты Сибири в большинстве своем не могли и не умели ни ставить, ни решать самостоятельные научные проблемы. Тематика публикаций и выступлений была однотипной. Все публикации, издаваемые огромными тиражами, как правило, посвящались вопросам борьбы трудящихся за установление советской власти. Например, омскими архивистами в 1957 г. было издано шесть работ: «Революционное движение в Омске в годы первой русской революции» (19 п. л., 5 000 экз.), «Омская партийная организация в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции», «Борьба за установление советской власти в Омске и области» (2,5 п. л., 1 100 экз.), «Восстание омских рабочих против Колчака 22 декабря 1918 г.» (2,5 п. л., 1 100 экз.), брошюра «Омская милиция в борьбе за установление советской власти» (2 п. л., 1 500 экз.), обзор документов «Об установлении советской власти в Омске» (2 п. л., 500 экз.). Тематика лекций была аналогичной: «Борьба за установление советской власти в Омске», «Восстание омских рабочих против Колчака», «Омские большевики в годы гражданской войны», «Комсомол в годы Отечественной войны». Редким исключением выглядит заметка «Материалы о сношениях с Индией, Тибетом и Афганистаном» в «Омской правде» от 4 октября 1956 г. репрессированного архивиста старой исторической школы Н. В. Горбаня, с перерывами работавшего научным сотрудником в Омском областном архиве. Характер научной работы сибирских архивистов был предопределен участием в обществах по распространению политических и научных знаний, в котором политическая составляющая в виде догматов коммунистической идеологии доминировала над элементами свободной рациональности научного сознания.
Конец 1950-х гг. в истории архивных учреждений Сибири характеризуется постепенным спадом творческой активности, что связано с завершением процесса перестройки общественного сознания в связи с демонтажем сталинского тоталитаризма, стабилизацией общественной обстановки в стране и окончанием «оттепели». Тенденции, объективно способствовавшие возникновению
«оттепели», набрали силу и к 1958 г., несмотря на многочисленные «зигзаги» и «откаты» во внутренней и внешней политике СССР, приняли необратимый характер. Это обусловило отход от активного стимулирования общественных инициатив и переход к сдерживанию общественного движения, в том числе и в архивном деле. Деятельность архивных учреждений Сибири, принимая все более консервативный характер, продолжала тем не менее определяться вектором развития, заданным «оттепелью», логично завершившись структурной перестройкой архивной системы в 1960–1961 гг.
Материал поступил в редколлегию 02.10.2007