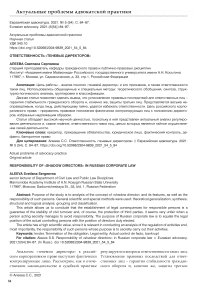Ответственность "теневых директоров"
Автор: Алеева Светлана Сергеевна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 5 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - анализ понятия «теневой директор» и его признаков, а также ответственности таких лиц. Использовались общенаучные и специальные методы: теоретического обобщения, синтеза, структурно-логического анализа, группировки и классификации. Данная статья позволяет сделать вывод, что установление правовых последствий для ответственных лиц - гарантия стабильности гражданского оборота и, конечно же, защиты третьих лиц. Представляется весьма несправедливым, когда лицу, действующему тайно, удается избежать ответственности. Цель российского корпоративного права - приравнять правовое положение фактически контролирующих лиц к положению директоров, избранных надлежащим образом. Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в ней представлен актуальный анализ регулирования деятельности и, самое главное, ответственности таких лиц, целью которых является тайное осуществление своей деятельности.
Кредитор, прекращение обязательства, юридическое лицо, фактический контроль, де-факто, банкротное право
Короткий адрес: https://sciup.org/140261857
IDR: 140261857 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_54_5_84
Текст научной статьи Ответственность "теневых директоров"
Actual problems of advocacy practice
Original article
RESPONSIBILITY OF «SHADOW DIRECTORS» IN RUSSIAN CORPORATE LAW
ALЕEVA Svetlana Sergeevna
senior lecturer of Department of Civil Law and Public Law Disciplines
Maimonides Academy Institute of A.N. Kosygin Russian State University
117997, Moscow, Sadovnicheskaya St., 33, bld. 1, Russian Federation
лиц. Представляется весьма несправедливым, когда лицу, действующему тайно, удается избежать ответственности. В целях недопущения такого поведения в 2014 году в ГК РФ был внесен п. 3 ст. 53.1, в соответствии с которым лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, являющимся членами органов управления, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Пункт 4 ст. 53.1 указывает также на то, что в случае совместного причинения убытков юридическому лицу фактически контролирующее лицо обязано возместить убытки солидарно. Требовать возмещения убытков с фактически контролирующих лиц вправе само юридическое лицо, его учредители (участники) и члены коллегиального органа управления. Таким образом, можно сделать важнейший вывод: российское корпоративное законодательство распространило на фактически контролирующих лиц фидуциарные обязанности (обязанности действовать разумно и добросовестно). Обязанность действовать разумно и добросовестно пришла из англосаксонского правопорядка, в котором данные фидуциарные обязанности именуются как duty of care (обязанность проявлять разумную заботливость) и duty of loyalty (обязанность проявлять лояльность). Наделение фидуциария такими обязанностями формирует высокий стандарт поведения, обязывающий лицо, осуществляющее управление корпорацией, действовать непосредственно в интересах самой корпорации. Введение таких обязанностей является одним из способов разрешения принципалагентской проблемы, поскольку сам факт наступления ответственности за нарушение фидуциарных обязанностей является дополнительным стимулом для менеджеров осуществлять свою деятельность не в своих собственных интересах, а в интересах компании. Российский правопорядок также признал за органами юридического лица такие обязанности: действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 3 ст. 53.1 ГК РФ они распространяются также и на фактически контролирующих лиц.
Содержание этих обязанностей раскрывается в п. 2 и 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица». Помимо возмещения убытков, фактически контролирующие лица также несут ответственность перед кредиторами общества. Так, в соответствии с п. 3 ст. 60 ГК РФ, со- гласно которой, если кредитору реорганизуемого юридического лица, потребовавшему досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения обязательства, солидарную ответственность перед кредитором, наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных юридических лиц, если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами несет также реорганизованное юридическое лицо. В целом можно сделать вывод, что цель российского корпоративного права – приравнять правовое положение фактически контролирующих лиц к положению директоров, избранных надлежащим образом. Для привлечения фактически контролирующих лиц к ответственности российским судам, равно как и английским судам, безусловно, необходимо исходить из обстоятельств каждого конкретного дела. Если рассматривать дела о возмещении убытков, то помимо стандартных элементов доказывания, которые будут рассмотрены ниже, при привлечении фактически контролирующих лиц к ответственности суду необходимо установить следующие факты:
-
1. Наличие фактического контроля и определение степени такого контроля;
-
2. Нарушение фактически контролирующим лицом фидуциарных обязанностей, которые уже были рассмотрены выше.
Один из наиболее сложных и важных вопросов – это установление наличия контроля фактически контролирующего лица воли юридического лица и определение степени такого контроля. Представляется, что в этой части суду необходимо будет доказать такие обстоятельств, как:
-
а) отсутствие самостоятельной воли у подконтрольного лица. При этом заметим, что факт отсутствия автономии воли у подконтрольного лица не освобождает такое лицо от ответственности. В частности, в деле ООО «РН-Аэро» АС Московского округа суд привлек подконтрольное лицо – директора дочернего общества к ответственности за нарушение фидуциарных обязанностей;
-
б) зависимость между фактически контролирующим лицом и подконтрольным лицом. В частности, именно поэтому указания фактического контролирующего лица необходимо отграни-
чить от консультаций, советов и рекомендаций. Данный подход представляется вполне разумным, поскольку рекомендательные акты не устраняют автономию воли лица, которое на основе этих рекомендаций принимает решение; другая ситуация складывается с указаниями, которые по своей природе имеют императивный характер и, в свою очередь, полностью устраняют возможность лица, принимающего решение, действовать самостоятельно. Данный подход отражен, в том числе, и в Акте о Компаниях 2006 года, в котором к теневым директорам не относятся лица, дававшие советы на профессиональной основе. При анализе привлечения к ответственности фактически контролирующих лиц дополнительно встает вопрос о судебных доказательствах, свидетельствующих о наличии возможности фактического контроля. Представляется, что в связи с тем, что фактически контролирующие лица стремятся прежде всего к тайному осуществлению своей деятельностью, получение прямых доказательств становится весьма проблематичным, и в данном случае суды должны принимать во внимание любые обстоятельства, которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о наличии фактического контроля. Данный подход отмечался, в том числе, в судебной практике, правда, в рамках установления неформальной аффилированности в деле о банкротстве, что, однако, представляется, также должно быть воспринято судами и при рассмотрении дел по вопросу ответственности фактически контролирующих лиц [1].
В частности, суд указал, что, «учитывая объективную сложность получения прямых доказательств неформальной аффилированности, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств», а также то, что «о наличии их подконтрольности единому центру, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам одного члена группы и одновременно ведут к существенной выгоде другого члена этой же группы; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одному и тому же лицу и т. д.» (Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14.02.2019 № 305-ЭС18-17629). Отдельно стоит отметить, что одним из весомых элементов доказывания в делах фактически контролирующих лиц выступают преюдициальные факты, установленные в рамках уго- ловного процесса (например, в уголовном деле в отношении бывшего заместителя главы Екатеринбурга В.В. Контеева; Приговор Курганского областного суда от 10.06.2014 по делу № 2-01/2014).
Проблематичность установления фактического контроля определяется, в том числе, и открытым перечнем оснований признания лица фактически контролирующим, однако стоит признать, что составление закрытого перечня было бы весьма проблематично в связи с постоянным совершенствованием таких форм со стороны участников оборота [4]. Помимо установления наличия фактического контроля, сложность дел о привлечении таких лиц к ответственности в виде взыскания убытков обосновывается также и тем, что в подобных делах требуется доказывать совокупность целого ряда обстоятельств: противоправность действий, наличие вины, наличие убытков, причинно-следственную связь между деяниями и возникшими убытками. Дополнительно необходимо доказать недобросовестность и неразумность такого фактически контролирующего лица, при этом учитывая обычные условия гражданского оборота и обычный предпринимательский риск (bussiness judgment rule), то есть тот риск, на который пошёл бы среднестатистический менеджер в подобной ситуации [7].
Обратимся к судебной практике по применению п. 3 ст. 53.1 ГК РФ. Например, в решении АС города Москвы от 11 июля 2016 г. по делу № А40-56167/2016 о взыскании с Ответчика убытков в виде реального ущерба в размере 3 660 346 000 руб. суд установил неограниченный контроль Ответчика над юридическим лицом на основании следующих фактов: дача в качестве основного совладельца и руководителя интервью газете «Ведомости», информационному порталу «Banki.ru», журналу «Финмаркет» о деятельности, проблемах и планах Банка на ближайшую перспективу; наличие рабочего кабинета в Банке, участие в переговорах от имени Банка и позиционирование себя как бенефициара; сложившаяся практика, в соответствии с которой для подписания любых договоров достаточно было устного решения Ответчика. В настоящем деле суд также определил Ответчика в качестве «теневого директора». Причем заметим, что Ответчик осуществлял свою деятельность не тайно, что больше роднит его не с «теневым директором», а с де-факто директором в рамках англосаксонского права. Дополнительно стоит обратить внимание на недостатки регулирования ответственности фактически контролирующих лиц [3].
Так, представляется, что по сравнению с англосаксонским правопорядком в российском праве перечень способов защиты права в делах, связанных с привлечением фактически контролирующего лица к ответственности, намного уже ограничивается взысканием убытков. В свою очередь, в Великобритании, например, при нарушении фидуциарных обязанностей помимо взыскания убытков могут быть применены такие средства защиты, как возвращение имущества в собственность компании, взыскание с директора незаконно полученной им прибыли, признание недействительным договора [6].
Рассматривая ответственность фактически контролирующего лица, отдельно представляется необходимым ответить также на следующий вопрос: возможно ли рассматривать основания признания лица КДЛ в качестве оснований признания лица фактически контролирующим лицом по ст. 53.1 ГК РФ? Данный вопрос уже рассматривался на доктринальном уровне, в частности Ириной Сергеевной Шиткиной [5]. Отвечая на него, прежде всего необходимо учитывать тот факт, что каждая отрасль права обладает своей спецификой и, несмотря на то, что междисциплинарность и межотраслевое регулирование начинает выходить на первый план, невозможно полностью заимствовать положения из одной отрасли права в другую. В частности, если речь идет о банкротном и корпоративном праве, то необходимо понимать, что в банкротном праве, помимо частных интересов, присутствуют также и публичные интересы. Наличие публичного элемента очевидно ведет к понижению стандартов доказывания [2].
Таким образом, подводя итог анализа ответственности фактически контролирующего лица, можно сделать вывод, что цель российского корпоративного права – приравнять правовое положение такого лица к директору, избранному надлежащим образом. В этих целях законодатель распространил на фактически контролирующее лицо фидуциарные обязанности де-юре директора, а именно обязанности действовать добросовестно и разумно. Данный подход представляется весьма разумным, учитывая интересы справедливости гражданского оборота. При этом практика привлечения таких лиц к ответственности на данный момент не до конца сформирована, многие дела рассматриваются в рамках дел о банкротстве или же с применением положений ФЗ «О банкротстве» и практики банкротных дел. Однако, как уже было отмечено выше, такой подход неприемлем. При этом, как отмечает И.С. Шитки-на, «с учетом того, что в корпоративной практике нет сложившихся подходов к пониманию фактического контроля, в корпоративных спорах будут использоваться релевантные правовые позиции, разработанные для банкротных процедур». Таким образом, в настоящий момент основная задача правоприменителя сводится к применению именно релевантных правовых позиций банкротного права, а также формированию собственного подхода к пониманию фактического контроля именно в корпоративном праве для того, чтобы в дальнейшем отойти от субсидиарного применения позиций, выработанных в рамках дел о банкротстве.
Список литературы Ответственность "теневых директоров"
- Балашов А.И., Беляков В.Г. Предпринимательское право для экономистов: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017.
- Будылин С.Л. Стандарты доказывания в банкротстве // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 11.27.
- Добрачев Д.В. Актуальные проблемы судебной практики в сфере корпоративного и предпринимательского права. М.: Инфотропик Медиа, 2018.
- Каминка А.И. Основы предпринимательского права. М.: Зерцало-М, 2015.
- Шиткина И.С. Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном праве // Закон. 2018. № 6.
- Companies Act 2006 Explanatory Note § 322 [Электронный ресурс]. URL: legislation.gov.uk.
- Мифтахутдинов Р.Т. Пленум четко сказал, что субсидиарная ответственность применяется в исключительных случаях // Закон. 2018. № 6.