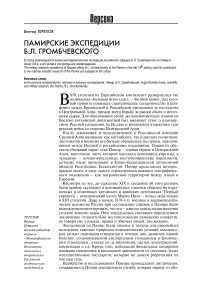Памирские экспедиции Б.Л. Громбчевского
Автор: Терехов Виктор Петрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Персоны
Статья в выпуске: 5, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются военно-исследовательские экспедиции российского офицера Б.Л. Громбчевского на Памир в конце XIX в. и его вклад в отечественное памироведение.
Англо-русское соперничество, научные и военные исследования, памир, б.л. громбчевский
Короткий адрес: https://sciup.org/170165832
IDR: 170165832
Текст научной статьи Памирские экспедиции Б.Л. Громбчевского
В XIX столетии на Евразийском континенте развернулась так называемая «большая игра» (англ. – the Great Game ), под которой принято понимать стратегическое соперничество и конфликт между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии, прежде всего борьбу за рынки сбыта и источники сырья. Для обоснования своих экспансионистских планов на Востоке английской дипломатией был выдвинут тезис о планируемом Россией нападении на Индию и возможном вторжении туда русских войск со стороны Центральной Азии.
После завоевания и присоединения к Российской империи Средней Азии внимание как английских, так и русских политиков, дипломатов и военных все больше обращалось на страны, находившиеся между Индией и российскими владениями. Одним из объектов «большой игры» стал Памир – горная страна в Центральной Азии, восточную часть которой населяли кочевники-киргизы, а западную – немногочисленные восточноиранские народности, которые ныне проживают в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Памир представлял интерес, прежде всего, в силу своего стратегически важного географического положения – как пограничной территории между Азией и Европой.
Несмотря на это, до середины XIX в. сведения об этом регионе были крайне скудными и основывались главным образом на отрывочных и сбивчивых китайских и арабских источниках. Первый европеец – венецианский купец Марко Поло – попал сюда только в XIII столетии. Даже в начале 1870-х гг. военное и внешнеполитическое ведомства России при составлении справок о Памире были вынуждены констатировать, что это – один из самых малоизвестных уголков земного шара. Они затруднялись составить определенное заключение относительно местоположения памирских княжеств, не говоря уже о языках, нравах и обычаях людей, там живших.
Экспедиции на Памир были опасны и трудны для европейцев вследствие тяжелых природно-климатических условий высокогорья: резких перепадов температур в течение дня, развития горной болезни, сопровождаемой кислородным голоданием и физическим утомлением, а также из-за инсоляции, частых землетрясений, камнепадов и т.д. Кроме того, небольшие феодальные памирские владения находились в вассальной зависимости от соседних, более могущественных государств, которые не давали разрешения на поездки туда.
Первенство в исследованиях Памира принадлежит англичанам, создавшими в Индии специальную службу, которая наряду со сбо- ром разведывательных данных занималась на Памире географическими и другими изысканиями военно-прикладного характера под эгидой Королевского географического общества.
Активизация военно-политической и дипломатической деятельности англичан в Центральной Азии, в частности вокруг Афганистана и соседнего с ним Памира, стимулировала военно-научные центральноазиатские исследования в России. Собственно говоря, начались они в период подготовки к присоединению Средней Азии, в частности после образования Туркестанского генерал-губернаторства (с 1886 г. – Туркестанский край) и Туркестанского военного округа, и приняли более или менее систематический характер в конце 1870-х гг. Тогда с военными и научными целями в восточную и западную части Памира, а также на сопредельные с ним территории отправлялись военные специалисты Л.Ф. Костенко, Н.И. Гродеков, Д.В. Путята и др., а также ученые и путешественники Н.А. Северцов, И.В. Мушкетов, А.Э. Регель, Г.Е. Грум-Гржимайло, В.Ф. Ошанин и др. Во время экспедиций, командировок и путешествий им удалось собрать важные сведения военно-прикладного и научного свойства. Основное внимание уделялось географии – орографии, гидрографии и картографии, что обусловливалось, прежде всего, политическими задачами в связи с англо-русским соперничеством в Центральной Азии.
Таким образом, в ходе «большой игры» возникло отечественное памироведение как одно из направлений ориенталистики. На первом этапе своей истории оно имело практический характер, поскольку служило интересам военного и дипломатических ведомств. Основоположниками этой науки являлись военные-востоковеды, ученые широкого профиля, путешественники-натуралисты, а также сотрудники дипломатических служб. Немалый вклад в изучение Памира и Припамирья внесли Русское географическое общество (РГО), Общество любителей естествознания, антропологии и этографии при Московском университете и другие научные организации. Первые исследования памироведов были отрывочными и несистематизированными, тем не менее они представляют интерес как для истории науки, так и для истории освоения Памирского региона, который в начале XX в. вошел в состав
Российской империи, а позднее стал частью СССР.
Один из самых видных военных исследователей Памира – член РГО Бронислав ЛюдвиговичГромбчевский(Гронбчевский, 1855–1926), поляк по происхождению. Он учился в петербургском Горном институте, где получил основы знаний по минералогии, геологии и топографии. Не завершив полный курс института, Громбчевский поступил на военную службу. С 1876 г. его жизнь связана с Туркестанским краем, куда он был переведен в линейный батальон. Позднее, занимая должность помощника начальника Маргеланского уезда, Б.Л. Громбчевский серьезно занялся изучением культуры и языков местных народов. Он в совершенстве овладел сартским (узбекским), таджикским и персидским (фарси) языками. Уже будучи награжденным серебряной медалью РГО и побывав в некоторых ранее малоизвестных районах Средней Азии, Громбчевский по собственной инициативе решил прослушать курс практической астрономии в Санкт-Петербургском университете и пройти обучение в Пулковской обсерватории. Только после этого он приступил к исследованию Памира.
В августе–ноябре 1888 г. состоялась его первая экспедиция на Памир и прилегающие к нему с юго-востока районы. Всего им было пройдено около 3 тыс. верст по мало- или совсем необследованным местностям. В пути он осуществлял маршрутную съемку, барометрическое нивелирование (измерение высот) и определял географические широты, попутно производя фотографирование.
О важности этой экспедиции свидетельствует тот факт, что ее результатами интересовались не только военное ведомство и РГО, но и европейские географы. Громбчевский беспрепятственно поднялся на восток Памира и прошел до Аксу, т.е. до верховьев Мурхаба, но близ слияния Аксу с Истыком был задержан китайцами из Таш-Кургана. Здесь уговорами и подарками ему удалось добиться у местного бека разрешения проследовать далее, к водоразделу между Аксу и Вахан-Дарьей.
Несмотря на сложные погодные условия и другие трудности, его экспедиция позволила значительно расширить сведения об орографии и гидрографии горных областей. По результатам предшествующих исследовательских поездок (в Кашгар, на Тянь-Шань и в Ферганскую область), а также экспедиции 1888 г. Громбчевский был награжден золотой медалью РГО. Летом следующего года Громбчевский предпринял новую экспедицию на Памир и в Припамирье: он обследовал часть Каратегина и Дарваза, Вахана и Гиндукуша, северо-западный Тибет и Кашгарию (экспедиция 1889 г.). Ему удалось произвести маршрутную съемку на протяжении более 7 тыс. верст, определить 14 астрономических пунктов и 158 высот, сделать многочисленные наблюдения и собрать богатые и весьма разнообразные коллекции.
В это время с одобрения англичан афганские войска захватили памирские княжества Шугнан и Рушан. Русский военный путешественник оказался свидетелем их жестокой расправы над местными жителями. Позднее в докладе, прочитанном в Николаевской академии Генштаба, он сообщал, что рушанцы называли себя не иначе как подданными «белого царя», и занятие своего края «дузами» (ворами) объясняли тем, что «русские войска далеко и не могли подоспеть вовремя, чтобы прогнать афганцев». «Казни производились ежедневно, – продолжал Громбчевский. – Деревни... выжигались, а поля вытравлялись лошадьми... Население изнемогало под афганским гнетом, а в перспективе ожидался голод и связанные с ним бедс-твия»1. В письме российскому политическому агенту в Бухаре путешественник сообщал, что вспыхнувшее в Восточном Бадахшане восстание местных жителей «приняло широкие размеры и вынудило афганцев вытребовать войска», расположенные в соседних районах2.
Громбчевский подчеркивал, что не только население памирских княжеств, но и правители последних симпатизировали русским. Учитывая тяготение памирцев к русским, а также нарушение Англией соглашения с Россией о том, что территории на правом берегу р. Пяндж – сфера влияния русских, а на левом – англичан, он считал, что Россия имеет полное право занять Памир, который имеет «несомненную важность» для нее3.
Изучив и проанализировав возможности движения русских войск через горы Памира, Громбчевский, как и некоторые другие высшие офицеры, полагал, что поход на Индию возможен не только со стороны Закаспийской области. «Думаю, что посылка чрез Памиры в Кашмир 3–4 тысячного корпуса... вынудит англичан отказаться от мысли воспользоваться кашмирскими войсками для борьбы с Россией... Появление даже небольшого отряда русских войск со стороны Памиров отвлечет громадные силы у англичан и в значительной степени облегчит задачу главного операционного корпуса». Громбчевский предупреждал, что «англичане двигаются вперед по всей линии и двигаются систематически, по строго обдуманному плану». Захватив все дороги через Памир, резюмировал он, противник может оказаться в близком соседстве с территориями, контролируемыми Россией4.
За проведенные значительные географические и топографические работы в предгорных и горных районах, а также выяснение того, кому принадлежали памирские земли в прошлом, Громбчевский получил чин подполковника. По результатам путешествия 1889–1890 гг. он опубликовал доклад в «Известиях ИРГО» и подробную политическую справку «Современное положение памирских ханств и пограничной линии с Кашмиром». О его поездке в Западный Тибет через Памир для сбора сведений географического и политического характера свидетельствует переписка с Главным штабом Туркестанского военного округа и начальником Николаевской академии Генштаба, обнаруженная автором в Российском государственном военно-историческом архиве5.
Вклад Б.Л. Громбчевского в отечественное памироведение трудно переоценить. Благодаря его военно-научным экспедициям российская наука уже в 1890-е гг. получила достоверные сведения по географии ряда районов Памира и сопредельных стран. Собранные исследователем разнообразные коллекции, в т.ч. энтомологические, послужили для будущих поколений памироведов основой для сравнительно-научного анализа.