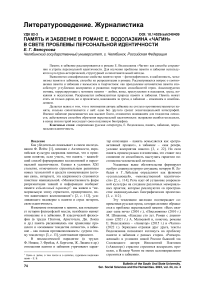Память и забвение в романе Е. Водолазкина "Чагин" в свете проблемы персональной идентичности
Бесплатный доступ
Память и забвение рассматриваются в романе Е. Водолазкина «Чагин» как способы сохранения и утраты персональной идентичности. Для изучения проблемы памяти и забвения используются культурно-исторический, структурный и сопоставительный методы. Выявляются специфические свойства памяти героя - фотографичность и шаблонность, механизмы памяти и забвения, способы их репрезентации в романе. Рассматривается вопрос о соотношении памяти и забвения с вымыслом и творчеством: как преодоление автоматизма памяти способствует углублению восприятия и развитию творческих способностей героя. Анализируются мотивы, коррелирующие с мотивом памяти - любви, вины, преступления и наказания, греха, покаяния и искупления. Раскрывается амбивалентная природа памяти и забвения. Память может стать не только даром, но и проклятьем, наказанием за грехи, а забвение - спасением и освобождением. Делается вывод о том, что в понимании автора забвение не столько противопоставляется памяти, сколько сопоставляется с ней: одно без другого грозит экзистенциальной катастрофой. Именно забвение расценивается как высшее благо, становится основанием для тождества личности, действенным способом обретения персональной идентичности: исправляя ошибки молодости, в конце жизни герой воссоздает свою подлинную биографию.
Современная русская литература, е. водолазкин, память, забвение, персональная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/147246038
IDR: 147246038 | УДК: 82-3 | DOI: 10.14529/ssh240409
Текст научной статьи Память и забвение в романе Е. Водолазкина "Чагин" в свете проблемы персональной идентичности
Как убедительно показывает в своем исследовании Ф. Йейтс [1], начиная с Античности, европейская культура одержима памятью, что в принципе понятно, если учесть, что память – важнейший способ формирования коллективной и персональной идентичности. Однако в условиях XXI столетия, отмеченного стремительным развитием новых технологий и средств коммуникации (сотовая связь, интернет), эта одержимость становится поистине маниакальной. «Множественность форм репрезентации знаний и информации сообщает памяти избыточный характер1 : мы живем в “мемориальную эпоху страстного, придирчивого, почти навязчивого воспоминания”» [2, c. 112], усиливающего недоверие к памяти и страх потерять свою идентичность.
Изменение отношения к памяти, как показывает история философской мысли, неизбежно меняет отношение и к забвению. В классической философии (в трудах Платона, Аристотеля, Дж. Локка и др.) память расценивалась как хранилище прошлого и «основание тождества личности», а забвение – как полная противоположность: «угроза этому тождеству» [3, c. 13], уничтожение прошлого.
В неклассической парадигме (в трудах Ф. Ницше, 3. Фрейда, А. Бергсона, Ж. Лакана и др.) отношения памяти и забвения утрачивают харак- тер оппозиции – память осмысляется как «ретроактивный процесс», а забвение – «как резерв, условие восприятия нового» [3, c. 22]. Но если память процессуальна и изменчива, это ставит под сомнение ее способность выступать гарантом постоянства человеческой личности.
Указанные выше обстоятельства формируют особую социокультурную ситуацию, которую И. Лебедев и Г. Лебедева определяют как феномен «ускользающей», «множественной идентичности» [2, c. 114]. Речь идет об установке современной культуры на создание различных мемориальных практик, которые реализуются «в пространстве индивидуальных биографических проектов» [2, c. 112].
Эту тенденцию наглядно подтверждает современная русская проза, которая активно обращается к проблеме персональной памяти: «Всех ожидает одна ночь» (2001 г.), «Письмовник» (2010 г.) М. Шишкина, «Каждые сто лет. Роман с дневником» (2021 г.) А. Матвеевой и, конечно, романы Е. Водолазкина – «Авиатор» (2015 г.) и «Чагин» (2022 г.). Зеркально отражая друг друга, тексты Водолазкина позволяют взглянуть на проблему памяти и забвения с разных сторон. «Размороженный» в условиях новой России бывший зэк Соловецкого лагеря Иннокентий Платонов («Авиатор») страстно стремится воскресить прошлое, а Исидор Чагин не менее целенаправленно стремится к забвению.
Обзор литературы
Проблема памяти в «Авиаторе» уже достаточно хорошо исследованав работах Г. Аросьева [4], И. Б. Ни-чипорова [5], К. Э. Солдатовой [6], В. В. Абашева [7], В. И. Тюпы [8] и др. Добавим, что она решается автором в русле классической философской и жанровой традиции [7]: память – воскрешение прошлого и собственного «Я»2, а значит, подлинная жизнь и бессмертие, забвение – смерть и небытие. В «Чагине» Водолазкин предлагает нестандартное решение вечной проблемы, которое еще не получило должного научного осмысления.
В статье «Забыть нельзя запомнить (Евгений Водолазкин. Чагин)» А. М. Ранчин справедливо пишет о том, что мотив воспоминания является сквозным для творчества писателя и тесно связан с мотивами вины и прощения, любви и веры. Вместе с тем автор отмечает особенность воплощения мотива воспоминания в романе «Чагин», которую видит не только в смещении акцентов с воспоминания на забвение, но и в ином характере самих воспоминаний: «Тотальная память о прежде произошедшем, увиденном, прочитанном приводит к вытеснению живого, непосредственного переживания настоящего, убивает чувство жизни, предстающей, разворачивающейся здесь и сейчас» [10]. Как следствие, дневник Платонова в «Авиаторе» воспринимается как «подлинная явь», а дневник Чагина как недостоверный.
Прослеживая метаморфозы судьбы главного героя, Ранчин по-своему отмечает неопределенность его личности, правда, видит в этом скорее недостаток творческого решения, чем особенности авторского замысла: «В этих превращениях-переменах недостает стержня, единства я, и сами они часто выглядят немотивированными…» [10]. Не можем мы согласиться и с тем, что жизнь Чагина «проходит вне исторического контекста», поскольку самоизоляция героя, «футлярность» его жизни и есть свидетельство неприятия той биографии, которую во многом определила для него историческая эпоха.
К тому же сами механизмы памяти и забвения, их соотношение и роль в самоопределении героя детально Ранчиным не исследуются, что позволяет говорить скорее о постановке проблемы, чем о ее решении. Отсюда цель статьи – раскрыть особенности воплощения проблемы памяти и забвения в романе «Чагин», роль забвения в обретении персональной идентичности.
Методы исследования
В процессе исследования был использован комплекс культурно-исторического, структурного и сопоставительного методов.
Результаты и дискуссия
Память по своей природе опирается на «область пережитого», на человеческий опыт, который повторяет3. В романе Водолазкина это свойство доведено до предела: главный герой – человек, наделенный феноменальной памятью. С одинаковой легкостью Исидор Чагин воспроизводит ряды цифр, рисунки, текст любой сложности и стилистики – научный, публицистический, художественный, на любом языке. Когда профессор древнегреческого языка предложил Чагину запомнить две страницы «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, Исидор, не зная греческого, «…не смог этот текст произнести, зато написал его без единой ошибки, со всеми надстрочными знаками» [12, c. 36].
Память своего героя автор неслучайно называет фотографической. Значимость фотографического кода для текстов Водолазкина, обусловленная визуальным характером его поэтики, уже не раз отмечалась исследователями. В частности, О. Журавель справедливо пишет, что в «Авиаторе» «…фотография подтверждает непреложность, бесспорность запечатленного в кадре, актуализирует тему памяти и воскресения» [13, c. 99].
И действительно, воспоминания Чагина, зафиксированные в дневнике, переполнены подробностями и деталями, свидетельствующими о необычайно развитой зрительной памяти. Например, одно из ранних воспоминаний Исидора о детском саде: «Манная каша, вся в комках успевала остыть, еще не добравшись до стола. Пшенная каша, наводя на мысли о песке, хрустела на зубах. Окаменевшие бруски свеклы в борще. Слипшиеся, словно покрытые слизью макароны. Желеобразный кисель с застывшей пленкой наверху. Упреждая возможные протесты, воспитательницы говорили, что в голодные годы у людей не было и такого» [12, c. 26].
Кроме того, эти воспоминания явно имеют синестетический характер: «Запоминание осуществлялось по нескольким линиям, где одна как бы контролировала другую . Звуки у Чагина имели цвет, а цвета озвучивались; запахи окрашивались, а краски, соответственно, пахли» [12, c. 98]. На наш взгляд, это тоже проявляет неосознанное стремление Чагина передать точность и полноту картины, однако ей явно не хватает глубины и жизни.
Воспоминания Чагина безлики, лишены индивидуальности. Они скрупулезно воспроизводят увиденный объект, но не раскрывают сути, не передают впечатления и представления о нем субъ- екта. В этом плане показателен портрет любимой женщины Чагина Веры. В Дневнике есть несколько описаний, и, как справедливо замечает рассказчик, «…в некотором смысле это каталог примет: форма носа (чуть вздернутый), губ (тонкие), родинка на щеке. Это – Вера серьезна. Углы губ приподняты, морщинка на носу: Вера улыбается. Закрытые глаза, волосы рассыпаны по подушке: Вера спит» [12, c. 96].
Для наглядности сопоставим портрет возлюбленной Чагина с портретом возлюбленной Платонова из романа «Авиатор», который включает в себя и точные детали, и эмоции, и воображение. «Анастасия. Удивительное имя – полногласное и нежное одновременно, три “а”, два “с”. Она сказала: “Меня зовут Анастасия”. Стояла надо мною, как Снежная королева, на новеньких коньках Галифакс, руки в муфте, посреди Юсуповского сада. Что она сначала произнесла? Всё помню: <…> “Вы не ушиблись?” А я – на четвереньках. Смотрю на ее коньки, на полы пальто и меховую оторочку, из-под которой едва-едва, на какой-нибудь вершок, ноги в рейтузах. <…> Она мне подает руку – теплую, из муфты, и я ощущаю ее всей ладонью. И вот одна ладонь моя на льду, другая в ее руке, и такая в этом противоположность, такое схождение теплого и ледяного, живого и неживого, человеческого и… Почему я сравнил ее со Снежной королевой? Ее красота тепла» [14, c. 24–25]. В результате мы понимаем, что это взгляд по-настоящему влюбленного человека.
Вопрос об образной природе воспоминаний заслуживает отдельного внимания. В «Чагине» его решение Водолазкиным во многом оказывается родственным позиции П. Рикера. Последний различает «память, которая повторяет», и «память, которая воображает»: «Чтобы вызвать прошлое в виде образа, надо обладать способностью отвлекаться от действия в настоящем, надо уметь ценить бесполезное, надо хотеть помечтать. Быть может, только человек способен на усилие такого рода» [11, c. 208].
Чтобы запомнить, Чагин визуализирует информацию, т. е. всякому явлению, даже отвлеченным понятиям он «…придумывал оболочку и эту оболочку запоминал». «Например, при слове агрессия Исидор представлял себе танки, при слове религия – облака» [12, c. 311]. Но такой образ не является художественным, на что в романе прямо указывает авторитетный источник – профессор Спицын: «Выяснилось, что в основе восприятия у Исидора лежит именно образ, причем не художественный – просто образ. При упоминании генеалогического древа он видел елку, на которой вместо игрушек висели таблички с именами, а кристаллическая решетка являлась ему в виде решетки Летнего сада, заботливо украшенной разного размера кристаллами» [12, c. 101]. Иными словами, Чагин не чувствует и не понимает ино- сказательности, что делает невозможным восприятие им поэзии.
Причину такой ущербности Чагина сам Водо-лазкин объясняет в одном из интервью. «На самом деле ключевые вещи все существуют в парах. Памяти противостоит забвение, даже не противостоит, а соответствует. Слово существует только потому, что существует молчание, или, наоборот, молчание есть, потому что есть слово. Все ключевые понятия существуют как промежуточное звено между двумя полюсами. И нет ничего хуже, чем существование на одном из полюсов ». Как следствие: «… дар, доведенный до крайности, превращается в антидар » [15]. А потому фотографический код романа «Чагин» подчеркивает не только точность и достоверность воспоминаний героя, но и механистичность, шаблонность и, в конце концов, безжизненность .
На это указывают неоднократные сравнения памяти Чагина с техническими устройствами, причем разными рассказчиками. Заметим, что композиция и нарративная структура романа по-своему заостряют проблему «ускользающей» самоидентичности героя. Четыре части романа (в каждой свой рассказчик) – это четыре зеркала, в которых по-разному отражается личность Исидора Чагина4, различные варианты его социальной, исторической и профессиональной идентичности – студент, сотрудник института, агент спецслужб, известный мнемонист и артист Ленэстрады, архивист. Но ни в одной из частей романа герой не имеет прямого голоса и слова.
Уподобление памяти Чагина механизму мы видим в воспоминаниях его друга Эдуарда Грига: «С течением времени я всё больше убеждался в том, что Исидор не запоминал тексты – он их “ фотографировал” ». «Этим объяснялась способность Исидора называть ряды цифр от начала к концу и наоборот – от конца к началу» [12, c. 258]. А вот комментарий Мещерского к дословному (включая междометия) воспроизведению в дневнике Чагина диалога с профессором Спицыным: «Но Чагин – не писатель, он – мнемонист, и в данном случае мало чем отличается от диктофона » [12, c. 39]. И практически тут же: «Словно камера видеонаблюдения5 , он [Чагин – Е. Б.] фиксирует всё, что происходит на его глазах. Так, он описывает очередную просьбу ректора пересказать его, ректора, доклад, восхищение слушателей, затем их попытку остановить пересказ и многократные заверения в том, что сверхъестественные способности студента очевидны» [12, c. 41–42].
Забегая вперед, заметим, что и когнитивные расстройства героя Григ описывает как поломку «тонкого и сложного механизма», в который вдруг попала песчинка. «Задания, хранившиеся в его бедной голове, сталкивались и взаимодействовали. Случайное повторение идущих подряд элементов было для него непреодолимым препятствием. Он тут же перескакивал на другие задания, которые выполнял за несколько лет до этого» [12, c. 257].
К тому же в отличие от кино фотография статична, она не может создать иллюзию живой жизни, воскресить ушедшее. По этой причине в противоположность «Авиатору» для «Чагина» не актуален кинематографический код. И вновь эту особенность памяти главного героя в романе отмечают два рассказчика – сначала Мещерский: «…выяснилось, что Чагин не запоминал лиц. Точнее, запоминал, но в каком-то одном, статичном виде . Малейшее изменение выражения превращало для него знакомое лицо в незнакомое» [12, c. 96]. Затем, подтверждая справедливость оценки, ему вторит Эдуард Григ: «Как пишет в своей книге Спицын, для узнавания лица его подопечному требовалось повторение выражения и освещения – а в жизни, согласитесь, это бывает нечасто» [12, c. 283].
Для выявления специфики проблемы памяти важна не только формальная сторона воспоминаний, но и содержательная – на что направлена память, что именно герой запоминает или вспоминает. Для Иннокентия Платонова это «события сердца», которые в его картине мира оказываются гораздо важнее глобальных исторических событий.
Мнемонические усилия Чагина на первый взгляд лишены особого смысла, да и смысл воспроизводимого ему совершенно безразличен: «…для Исидора не было разницы между осмысленным текстом и бессмысленным – например, произвольным набором слов или цифр. Собственно, и текст становился для него осмысленным лишь тогда, когда он целенаправленно в него вникал. В запоминании содержание не играло никакой роли. Качество запоминания зависело исключительно от положения запоминаемого в пространстве» [12, c. 70]. Именно поэтому в третьей части романа Исидор предстает в роли мнемониста, выступающего на эстраде, что сродни фокуснику6.
Но все это справедливо лишь относительно той стороны его памяти, которую П. Рикер называет «вызыванием памяти» и противопоставляет «воскрешению памяти», Последнее случается непроизвольно и окрашено чувством [11, с. 51], в случае с Чагиным – чувством вины, которое мучит героя всю жизнь. Соблазнившись возможностью остаться после окончания института в Ленинграде, Чагин соглашается на предложение спецслужб стать доносчиком. С фотографической точностью он воспроизводит своим кураторам содержание разговоров Шлимановского кружка, что приводит к аресту его руководителя Вельского, которого обвиняют в распространении запрещенной литературы.
Так в романе открывается амбивалентная природа памяти – она осмысляется не только как величайший дар, но и как страшное проклятье . В результате мотив памяти осложняется ключевыми для творчества Водолазкина мотивами вины, преступления и наказания, греха, покаяния и искупления [6, 10], которые углубляют образ Чагина, проявляя его этическую (предатель) и христианскую (грешник) идентичности.
В отличие от Альберта, который «…стучал на Шлимановский кружок вдохновенно» [12, c. 343] и не испытывал угрызений совести, Исидор не может забыть и оправдать свой проступок. Но самым страшным наказанием становится для героя разрыв с Верой, которая не смогла простить предательства. В таких обстоятельствах забвение расценивается как благо – спасение, освобождение и прощение . Однако именно естественной для обычных людей способности забывать Чагин лишен абсолютно.
Итак, смыслом жизни героя, его конечной целью становится забвение, для достижения которого он использует различные техники.
Первый способ – «борьба с изображением». Следуя житейской мудрости (клин клином вышибают), Чагин буквально, т. е. зримо уничтожает листы бумаги с информацией (сжигает их в коробке для фокусов), стирая тем самым из своей памяти их содержание.
Второй способ, основываясь на логическом законе двойного отрицания, представляет собой путь «от обратного» – тщательное погружение в содержание текстов, которые Чагин, как известно, запоминал механически. «Исидор учился осмысливать всё, что запомнил. А с тем, что осмыслено, можно и попрощаться – так, видимо, считала память. Такие вещи она отдавала легко, оставляя себе лишь вывод, общую идею» [12, c. 318].
Третий способ «борьбы с памятью» наиболее важен для понимания позиции автора и его представлений о человеке, поскольку является творческим. В основе – смена субъектов действия, превращение ОН в Я: любой текст (переписка Шлимана с фон Краузе или пьеса Чехова) разыгрывался Чагиным и Григом по ролям, как в театре. «Блистательное незнание (текста наизусть)» Григом вынуждало его импровизировать. В свою очередь это «…разрушало общую ткань текста и заставляло Исидора переходить от известного к неизвестному» [12, с. 312], т. е. выдумывать: «Когда забываешь, всегда начинаешь выдумывать » [12, c. 314].
Нетрудно заметить, что два последних способа, предложенных профессором Спицыным, нацелены на нарушение автоматизма восприятия, а потому способствуют его углублению, развитию скрытых ранее возможностей и способностей, в том числе творческих.
В отличие от памяти, которая опирается на виденное и пережитое, воображение, по Рикеру, опирается на вымышленное и «…предполагает отвлечение от реальности » [11, c. 73]. Вместе с тем память и воображение имеют нечто общее - «... присутствие того, что отсутствует » [11, c. 73].
Практически вторя Рикеру, Водолазкин заявляет: «... вымысел - это род забвения, вымысел замещает действительность » [17]. Однако в отличие от Шлимана и Николая Ивановича, которые подменяют реальность вымыслом, Исидор ее преобразует. Подтверждением тому служит автобиографическая поэма «Одиссей», в которой, исправляя ошибки молодости, герой в конце жизни воссоздает свою «подлинную» биографию: в ней есть Вера, есть Шлимановский кружок, но нет предательства. Поэма проявляет все лучшее в Чагине, а еще завершает его самоопределение, собирая воедино различные проявления его «Я» и дополняя их тем, что П. Рикер называет «нарративной идентичностью».
По Рикеру, «…самоосмысление субъекта способно происходить исключительно “в форме рассказа”, поскольку “о единстве конкретной жизни” мы способны судить лишь “под знаком повествований, которые учат с помощью рассказа соединять прошлое и будущее”; именно “повествование созидает идентичность”» [8, с. 347].
В поэме Чагин по-прежнему тяготеет к исчерпывающим описаниям, но у поэмы есть ритм (гекзаметр) и настоящая образность. Например: «День исчезает за днем, превращаясь немедленно в память, // Багажной квитанции род, по которой едва ли получишь // То, что сдавалось в багаж. Но малые эти остатки // Как ока зеницу хранишь, поскольку другим не решишься // Вещи оставить свои - не понять никому красоты их: // Созданы лишь для тебя, другим они будут не впору» [12, c. 331]. А вот как герой описывает последний день тяжело больной Веры: «Покинувший дом обернулся. В расчерченном рамой квадрате // Увидел сидящих за чаем и всех их навеки запомнил. // Они говорили беззвучно, пожалуй что, даже безмолвно, // И пар самовара, клубясь, играл с бахромой абажура, // И в вазе бессмертник стоял, навеки прощаясь с ушедшим» [12, c. 375].
Название поэмы не случайно: образ Одиссея становится одним из литературных двойников7
Чагина. К нему отсылают строки И. Бродского из стихотворения «Одиссей Телемаку», взятые Водолазкиным в качества эпиграфа к роману. Как и Одиссей, за все свои мучения в конце жизни Чагин получает желаемое – забвение и прощение. Причем прощение на всех уровнях – Вельского, Веры, которая становится самой большой наградой Чагину, а самое главное, самого себя. Этого не случилось бы, если бы не было покаяния. Вот как об этом пишет сам автор: «Покаяние стирает грех. В романе упоминаются реки из «Божественной комедии» – Лета и Эвноя: одна дарует забвение грехов, другая воскрешает в памяти добрые дела. Чагин мечтает о том, чтобы грехи стерлись, а осталось лишь добро – проявленное им или к нему. И он этого достигает» [18].
Представлен в романе и другой род забвения – беспамятство, потеря собственного «Я». Его олицетворяет Авдей Прокопьевич, о котором рассказывает в письмах Нике Павел Мещерский. Дожив до девяноста лет, старик «ничего не помнит. Себя не помнит». Отрешенный от мира, неспособный к коммуникации, Авдей Прокопьевич вызывает не столько сострадание, сколько оторопь, почти испуг. «Среди ночи просыпаемся от прерывистых стонущих звуков. Поет Авдей Прокопьевич. Часть звуков проглатывается, как при плохой мобильной связи, так что слов не разобрать. Выйдя на середину комнаты, Авдей не только поет, но и танцует. С завораживающей медленностью вращается вокруг своей оси, хлопая себя по голенищам. Зрелище не сказать чтобы устрашающее, но особенное» [12, c. 358].
Выводы
Итак, рассмотрев особенности воплощения проблемы памяти и забвения в романе «Чагин», мы пришли к следующим выводам.
Уходя от упрощенного понимания мира и человека, Водолазкин не столько противопоставляет память и забвение, сколько сопоставляет их, отрывая сложную, амбивалентную природу и того, и другого.
Память может стать не только даром, но и проклятьем, наказанием за грехи, а забвение – спасением и освобождением. В этом плане, как справедливо замечает Э. Тышковска-Каспшак, забвение не столько «…отрицает или стирает память», сколько «…приводит к непростым и небесспорным вершинам понимания и прощения» [19, с. 276].
В результате именно забвение становится основанием для тождества личности, действенным способом обретения персональной идентичности и конструирования подлинной биографии.
Более подробно система двойников в романе «Чагин» будет рассмотрена нами в отдельной статье.
Список литературы Память и забвение в романе Е. Водолазкина "Чагин" в свете проблемы персональной идентичности
- Йейтс, Ф. Искусство памяти / Ф. Йейтс. -СПб., 1997. - 479 с.
- Лебедев, Д. В. Память как социокультурный феномен: о роли меморативных практик в процессе конструирования идентичности / Д. В. Лебедев, Г. В. Лебедева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2011. - № 7. - Ч. 3. - С. 112-115.
- Лебедева, Г. В. Память и забвение как феномен культуры: автореф. дис.... канд. филос. наук / Г. В. Лебедева. - Екатеринбург, 2006. - 25 с.
- Аросев, Г. Важнее настоящего / Г. Аросьев // Новый мир. - 2016. - № 7. - URL: http://magazines. mss.m/novyi_mi/2016/7/vazhnee-nastoyashego-evgenij-vodolazkin-aviator.html (дата обращения: 25.08.2024).
- Ничипоров, И. Б. Парадоксы памяти в современном русском романе: «Авиатор» Е. Водолазкина / И. Б. Ничипоров // Ученые записки Орловского государственного университета. - 2019. -№ 1(82). - С. 127-130.
- Солдатова, К. Э. Мотивная структура романа Е. Водолазкина «Авиатор» / К. Э. Солдатова. -URL: https://core.ac.uk/download/pdf/322817834.pdf (дата обращения: 25.08.2024).
- Абашев, В. В. «Проект грядущего восстановления мира...»: роман Евгения Водолазкина в контексте художественной сотериологии русской литературы / В. В. Абашев // Знаковые имена современной русской литературы. Евгений Водо-лазкин ; под ред. А. Скотницкой, Я. Свежего. -Краков, 2019. - Т. 2. - С. 319-332.
- Тюпа, В. И. Интрига идентичности в романе Водолазкина «Авиатор» / В. И. Тюпа // Знаковые имена современной русской литературы. Евгений Водолазкин ; под ред. А. Скотницкой, Я. Свежего. - Краков, 2019. - Т. 2. - С. 345-354.
- Аверин, Б. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции / Б. В. Аверин. - СПб.: Амфора, 2003. - 399 с.
- Ранчин, М. А. Забыть нельзя запомнить (Евгений Водолазкин. Чагин) / А. М. Ранчин // Новый мир - 2023. - № 8 - URL: https://nm1925.ru/ar ticles/2023/08-2023/zabyt-nelzya-zapomnit (дата обращения: 27.08.2024).
- Рикер, П. Память, история, забвение / П. Рикер ; пер. с франц. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. - 728 с.
- Водолазкин, Е. Г. Чагин / Е. Г. Водолазкин. - М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. - 378 с.
- Журавель, О. Визуальная поэтика Евгения Водолазкина / О. Журавель // Знаковые имена современной русской литературы. Евгений Водолаз-кин ; под ред. А. Скотницкой и Я. Свежего. - Краков, 2019. - Т. 2. - С. 97-108.
- Водолазкин, Е. Г. Авиатор / Е. Г. Водолазкин. - М.: АСТ, 2015. - 180 с.
- «Личность - это память»: Евгений Водо-лазкин о своем новом романе и мифологии человека. - URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/ 480767-licnost-eto-pamat-evgenij-vodolazkin-o-svoem-novom-romane-i-mifologii-celoveka (дата обращения: 28.08.2024).
- Белоусова, Е. Г. Волшебник и фокусник в эстетической и художественной системе В. Набокова (на материале рассказов 1920-1930-х гг.) / Е. Г. Белоусова // Вестник Томского государственного университета. Филология. - 2021 - № 69. -С. 209-225.
- Евгений Водолазкин: мы — свидетели грозной эпохи. - URL: https://tass.ru/interviews/ 15988077 (дата обращения: 28.08.2024).
- Водолазкин, Е. Миф - не ложь, а скорее, наше активное отношение к факту». - URL: https://www.fontanka.ru/2022/11/02/71786480/ (дата обращения: 25.08.2024).
- Тышковска-Каспшак, Э. Память / забвение в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь» / Э. Тышковска-Кашпак // Знаковые имена современной литературы. М. Шишкин. - Краков, 2017. - С. 265-276.