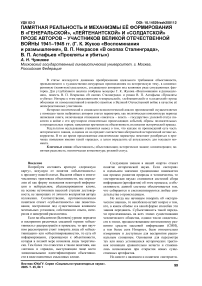Памятная реальность и механизмы её формирования в "генеральской", "лейтенантской" и "солдатской" прозе авторов - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Г. К. Жуков "Воспоминания и размышления", В. П. Некрасов "В окопах Сталинграда", В. П. Астафьев "Прокляты и убиты")
Бесплатный доступ
В статье исследуется динамика преобразования идеального требования объективности, предъявляемого к художественно-мемуарным произведениям на историческую тему, в коммеморативную (памятную) реальность, создаваемую авторами под влиянием ряда ситуационных факторов. Для углублённого анализа отобраны мемуары Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления», повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда» и роман В. П. Астафьева «Прокляты и убиты». Интерес к этим представителям «генеральской», «лейтенантской» и «солдатской» прозы обоснован их коммуникативной («живой») памятью о Великой Отечественной войне в качестве её непосредственных участников. Историко-политический и социально-психологический анализ произведений осуществляется с помощью таких выбранных автором статьи параметров, как политическая конъюнктура периода написания книги, включающая отношения «писатель - власть - государство»; ролевой статус писателя в войне с его кругозором относительно происходящих событий, образы положительных и отрицательных героев; заявленная претензия на объективность изложения исторической правды. Результатом исследования становится вывод о том, что каждое из произведений есть часть исторического знания, и оценка их на предмет соответствия абстрактной исторической истине некорректна. В то же время предложенные аналитические параметры помогают разобраться в причинах появления именно такой «правды», а затем определить её актуальность для текущего момента.
Объективность, объективизация, историческое знание, коммеморация, памятная реальность, политическая конъюнктура, ролевой статус
Короткий адрес: https://sciup.org/147247622
IDR: 147247622 | УДК: 82-3 | DOI: 10.14529/ssh250112
Текст научной статьи Памятная реальность и механизмы её формирования в "генеральской", "лейтенантской" и "солдатской" прозе авторов - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Г. К. Жуков "Воспоминания и размышления", В. П. Некрасов "В окопах Сталинграда", В. П. Астафьев "Прокляты и убиты")
Попробуем составить краткую «дорожную карту», ведущую от понятия «объективность» к предмету нашей статьи. Выделяя общее в многочисленных трактовках объективности, мы определим её как форму изложения некоторой информации в нейтральном, сбалансированном ключе, на основе источников высокой степени достоверности, не зависящих от личного восприятия автора изложения. Соответственно, противоположным понятием станет «субъективность» как повествование, построенное под существенным влиянием ментальных установок, собственного опыта, интересов и намерений рассказчика.
Если на обыденном (бытовом) уровне передачи и восприятия различных сведений термин «объективность» распространён и приемлем, то при научном рассмотрении стоит говорить лишь об «объективизации» или «объективированности», то есть об информировании, стремящемся к объективности, которая в полной мере возможна лишь теоретически. Тем более это относится к таким понятиям, как «истина» и «правда», выступающим чаще всего эмоциональными идентификаторами объективности в виде оценочных смысловых клише.
Следующим звеном в нашей «карте» станет понятие исторической науки. Если «история» в идеальном значении традиционно понимается как процесс развития природы и человечества, то «историческая наука» становится системой сбора информации (артефактов) об этом процессе, а объективность данной системы обеспечивается тем, что собираются и систематизируются любые свидетельства о происходящем.
Но когда мы начинаем говорить об «историческом знании», то неизбежно встаёт вопрос о том, кто, в каком объёме и в какой форме способен эти знания передавать. Субъективность такой передачи прослеживалась на всех этапах существования человеческого общества, однако число свидетельств в эпохи, предшествовавшие интенсивному развитию средств массовой информации (СМИ), а тем более сети Интернет, было относительно измеримым и доступным для восприятия рациональным сознанием. Основания для пересмотра тех или иных устоявшихся исторических трактовок возникали сравнительно нечасто и становились возможными при открытии новых существенных артефактов.
Но вместе с явлением и понятием «интернети- зации» возникли такие его производные, как «медиатизация» и «инфодемия». Первое означало глобально субъективное представление мира через медиа, причём функцию медианосителя и транслятора мог выполнять теперь, вместе с традиционными и новыми СМИ, в принципе любой человек. Второе фиксировало, что объём передаваемой информации значительно превышает возможности её рационального осмысления индивидуальным сознанием. Потребители всё более нуждаются в ориентирах («подсказках»), а их роли начали выполнять исторические знания в виде смысловых интерпретаций.
Дискуссии о смыслах, факты для которых служат лишь вспомогательным материалом, стали одним из ведущих трендов XXI в. Интенсификация исторических прочтений и споров вокруг них стимулировалась, наряду с указанными выше причинами, стремлением к «правильному» пониманию собственной истории внутри той или иной страны, но особенно – противоборством государств на мировой арене, породившим гибридную войну и «войну памяти» как одну из её главных составляющих.
Как отмечают исследователи, произошла «ис-торизация» массового сознания, а «плюрализм памятей» и «конкуренция мнемонических акторов» сделали историческое прошлое предметом политики. Появилась междисциплинарная область исследований memory studies, анализирующая использование прошлого в политических целях и оперирующая большим спектром сходных понятий: «историческая политика», «политика прошлого», «политика памяти», «коллективная / общественная память», «историческая память», «культура памяти», «игры памяти» и др. [1].
Сужая спектр рассмотрения и приближаясь к фокусной точке нашей «дорожной карты», мы выбираем среди этого многообразия для дальнейшего анализа популярный сегодня термин «ком-меморация» (от фр. commemorative – памятный, мемориальный и англ. «commemoration» – ознаменование, в память). В узком смысле это понятие означает мемориальную деятельность в виде увековечения памяти о событиях: сооружение памятников, организация музеев, определение знаменательных дат, проведение праздников и других массовых мероприятий. В широком плане сюда включается всё, что призвано идентифицировать человека с его прошлым [2]. Для нас коммемора-ция есть памятная реальность, столь же значимая, что и объективно существующая действительность, поскольку последняя отражается в нашем сознании преимущественно через транслируемую извне информацию о прошлом. По мнению некоторых учёных, коммеморативная (мемориальная) модель освоения прошлого, построенная на интерпретациях событий, возобладала над фиксирующей факты исторической моделью, что означает утрату прошлым своего органичного и безусловного характера [3, с. 112].
Среди ведущих форм трансляции мемориальной модели выделяются воспоминания. Отмечается, что сама память является мнемоническим парафразом понятия «воспоминания» – коллективным бессознательным нарративом, который формирует территориальные общности людей с помощью разделяемых духовных ценностей и восприятий собственной истории [4]. В ряду самих трансляторов ведущее место занимают писатели и другие, функционально приравненные к ним категории фиксаторов и обработчиков воспоминаний очевидцев событий и сопряжённых с ними документов и иных артефактов. Здесь возникает естественный вопрос: о каких очевидцах может идти речь, когда описываются события, например, столетней и более давности?
Для нашего исследования и в контексте проблемы объективности-субъективности изложения важно понимать глобальный уровень причастности автора к транслируемой им истории. Так, учёные разделяют историческую память на коммуникативную и культурную. «Коммуникативная память» теоретически более объективна, поскольку представляет собой «живое воспоминание». Но она существует на протяжении 80 – 100 лет, то есть в пространстве жизни трёх поколений: дети – отцы – деды. «Культурная память» – это понимание истории авторами, отдалёнными от непосредственного восприятия событий и подверженными влиянию ситуаций, актуальных для текущего момента. Ю. Арнаутова подчёркивает, что такая память не в полном смысле индивидуальна, поскольку автор осознаёт себя членом определённой группы и формирует свои воспоминания в контексте её памяти [5].
Я. Ассманн объясняет «культурную память» как непрерывный процесс, где всякое общество или его группа формирует и стабилизирует свою идентичность посредством реконструкции собственного прошлого. Что же касается воспоминаний, то они могут быть неверными, фрагментарными или намеренно созданными и в этом смысле не служат надёжным источником объективной информации. По мнению учёного, «история памяти» принципиально отличается от «истории фактов», поскольку анализирует не собственно явления прошлой жизни, а их значения в текущий период. Актуальной исследовательской задачей Я. Ассман, а вместе с ним и мы в рамках настоящей статьи, считаем установление причин подобной трансформации [6].
Выбрав форму исторического знания (воспоминания), его трансляторов (писателей) и временное пространство памятного охвата (коммуникативная память), определим и событие, вокруг которого пойдёт дальнейший углублённый разговор. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (ВОВ) 1941–1945 гг. логичным выбором такого события становится именно она.
Как отмечает Е. Токарева, в России в последние десятилетия произошла смена парадигмы от отрицания советского прошлого к осторожному принятию и обновлению его как органической части исторической памяти страны. Это мотивируется необходимостью признания прошлого, в том числе ВОВ как части нашей истории со всеми её противоречивыми страницами [4]. По мнению ряда зарубежных исследователей, усиленное внимание к формированию актуальной версии развития страны в исторической ретроспективе требуется для оправдания современной политики в условиях интенсификации «войн памяти», которые Россия ведёт с государствами Европы и США [7].
Для непосредственного анализа в настоящем исследовании выбраны авторы и книги – носители «коммуникативной памяти», то есть наиболее приближенные к реальным историческим событиям (ВОВ): Г. Жуков (мемуары «Воспоминания и размышления»), В. Некрасов (повесть «В окопах Сталинграда») и В. Астафьев (роман «Прокляты и убиты»). Свою задачу мы видим в том, чтобы сформировать и апробировать методику определения уровня и содержания исторической объективности этих и других художественно-мемуарных произведений (а вслед за ними – и любых исторических интерпретаций), приемлемую для исследователя и рядового читателя.
Обзор литературы
Все три выбранных нами произведения относятся к жанру мемуаров, хотя и различаются по формам и уровню художественности. Как отмечают исследователи, именно мемуарная литература о ВОВ стала особо популярной и многочисленной в советский период. С 1959 по 1990 гг. издательством Министерства обороны СССР только в серии «Военные мемуары» выпущено 320 томов воспоминаний участников боевых действий, тружеников тыла, советских и партийных руководителей.
С одной стороны, мемуары являются ценными свидетельствами истории, но с другой – подчиняются общим идеологическим установкам и не должны были противоречить официальным версиям происходящего. Кроме того, авторы при описании тех или иных событий не всегда могли абсолютно достоверно восстановить их в памяти, а использование архивных и других документов часто оказывалось невозможным. Имел существенное значение и ролевой фактор: как замечает А. Быков, «…генерал не может рассказать, как вкусна жиденькая рыбная похлебка после трёх дней без еды в окружении врага; что чувствует солдат, заваленный взрывом в блиндаже, и что заставляет его сражаться в окружении» [8]. Всё это приводило к ошибкам и пробелам в повествовании.
Приведённая цитата даёт подводку к упомянутым ранее мемуарным нишам. Максимальный интерес проявляется к такой из них, как «генеральская проза», где присутствуют воспоминания лиц высшего командного состава Вооружённых Сил. Такой интерес понятен уже хотя бы в силу значительной осведомлённости авторов о ходе боевых действий. Однако эта осведомлённость долгое время не транслировалась: мемуары маршалов и генералов начали выходить только с конца 1950-х гг., то есть спустя годы после смерти И. В. Сталина. В. Мамяченков выделяет «законы жанра» мемуаров советских военачальников. Среди них: первое – невысокий литературный уровень; второе – умолчание о собственных и преувеличение чужих ошибочных решений и неблаговидных поступков; третье – безудержная апологетика и славословие в адрес правящей коммунистической партии и вообще в адрес советского строя; четвёртое – узость источниковой базы как следствие недостаточного внимания авторов к её архивной верификации [9]. Авторы монографии о восприятии советского прошлого в контексте формирования новых идентичностей говорят о существовании своеобразного «предела аутентичности» в изображении эпохи на страницах мемуаров. «Они не всегда отражают переживания человека в то время, о котором он рассказывает… Это взгляд с высоты прожитых лет, под влиянием специфически препарированной информации и идеологии новой эпохи» [10].
Эти выводы относятся и к книге Г. Жукова «Воспоминания и размышления», имеющей огромные тиражи и преобладание позитивных откликов. В то же время не прекращаются споры о том, какие фрагменты «Воспоминаний» Г. Жуков писал сам и «по совести», какие из них включал под давлением известных обстоятельств, какие искусственно вставлялись в текст литературными обработчиками и редакторами, в том числе после кончины автора. Примером может служить объёмная статья А. Колесникова «Размышления о воспоминаниях маршала Жукова» на литературном сайте «Проза.ру», где подвергаются сомнению многие интерпретации фактов Г. Жуковым, а также сама его компетентность [11].
Следующая мемуарная ниша – «лейтенантская проза», художественное течение, возникшее на рубеже 1950–1960-х гг. Термин закрепился в отечественном литературоведении и охватывал писателей, принимавших непосредственное участие в ВОВ на должностях младших офицеров. Как известно, в честь 100-летия ряда писателей-фронтовиков (Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. Быкова, В. Богомолова) Ассоциация союзов писателей и издателей России объявила 2024 г. Годом лейтенантской прозы. Рассуждая о вкладе «лейтенантов» в литературу, А. Твардовский говорил, что «…эти молодые писатели сами выше лейтенантов не поднимались и дальше командира полка не ходили. Эти досконально знают жизнь роты, взвода, батареи, они видели пот и кровь войны на своей гимнастёрке» [12, с. 203]. Делались выводы о том, что в своих произведениях представители течения опираются исключительно на реальные события и собственный фронтовой опыт. «Это проза без прикрас. Что выстрадали, о том написали» [13].
Среди писателей данного направления выделяется В. Некрасов. При анализе творчества авторов – участников войны – А. Варламов называл в первую очередь именно его вместе с опубликованной уже в 1946 г. повестью «В окопах Сталинграда». Критик обосновывал это тем, что, несмотря на сложное время и цензуру, было создано «живое» произведение, которое показывало войну «с подлинной, рабочей стороны. Именно отсюда пошла традиция» [14].
Повесть В. Некрасова - самая «простая» из выбранных нами произведений. Как замечает В. Березин, писатель говорил с читателем «по-армейски», «на человеческом языке». В. Некрасов «упрощает стиль, изгоняя пафос», в результате чего получается «фактически свидетельство о войне… Эйзенштейн, разбирая повесть, ошибочно называл “В окопах Сталинграда” “Дневником офицера”» [15]. Парадоксально, что именно эта простота породила такое количество практически полностью позитивных литературоведческих оценок, которых автор вряд ли ожидал. Это и «углублённый психологизм» в виде «смещения акцента на внутренний мир человека», и «продолжение классической традиции» как показа значительного исторического события с точки зрения «среднего героя» [16], и отражение самосознания народа с пониманием того, что «человек, личность – не винтик, а целый мир» [17], и важность «регионального компонента» исторической памяти народа [18] и т. д.
Теперь обратимся к «солдатской прозе». Это понятие, в отличие от «лейтенантской прозы», не имеет какой-то специальной трактовки и рамочных обозначений, а в ряде случаев употребляется как синоним прозы «лейтенантской». Тем не менее мы выделяем его в отдельную категорию и имеем в виду авторов именно из числа рядового и сержантского состава. В. Мамяченков констатирует, что «…мемуаров “окопных” участников войны (рядовых, сержантов , офицеров) публиковалось сравнительно немного, и их объёмы были ограничены» [9]. При этом исследователь относит к категории «окопников» и офицеров. С поправкой на данный фактор можно сказать, что собственно солдатских мемуаров в пространстве сколько-нибудь известной широкому читателю «большой» литературы насчитывается буквально единицы. А. Пекарш и Г. Пернавский обосновывают данный пробел сравнительно низким уровнем общей грамотности рядовых солдат, тяжестью испытаний, прямыми запретами ведения дневников в годы войны, а также диапазоном восприятия событий:
«Война рядового – это 500 метров до противника, столько же в тыл, до командира батальона и несколько сот метров по фронту роты» [19].
Тем не менее именно роман «солдатской прозы» В. Астафьева «Прокляты и убиты» вызвал значительно более масштабные дискуссии, чем мемуары Г. Жукова, а тем более повесть В. Некрасова. Многие критики оценивали «Прокляты и убиты» преимущественно позитивно, как «правду о войне» и продолжение традиции, заложенной Л. Н. Толстым и В. М. Гаршиным [20]. Обобщённый спектр оттенков этой «правды», отражённых в публикациях вокруг романа, сконцентрирован в диссертации Э. Британ «Роман В. П. Астафьева “Прокляты и убиты”: авторская концепция трагического». Здесь говорится об оригинальной концепции трагического, глубине авторского освоения военной действительности, «эсхатологическом мироощущении рубежной эпохи»; о включении в ткань романа образов и мотивов философско-религиозного содержания, традиционных для русской классической литературы размышлений о человеке и его назначении в мироздании; о бессмысленности насилия и т. д. [21].
Однако регулярно появлялись и резко негативные рецензии на роман. Так, В. Зеленков посчитал произведение искажением правды o BОВ и в деталях, и в существе дела, и в плане «исторической достоверности» [22, с. 7]. П. Гончаров подвергает сомнению утверждение o традиционности «Проклятых и убитых» и полагает, что роман «…созвучен с общей перестроечной тенденцией», свойственной произведениям А. Солженицына и ему подобных авторов, для которых идеология и политическая система России 1920–1980-х гг. «…оказались главными объектами инвектив и разоблачений, предметом критического пафоса». И наоборот, сравнивая роман В. Астафьева с «Василием Тёркиным» А. Твардовского и «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, критик констатирует: считать «Прокляты и убиты» «…“пересозданием” этих вещей – даже трагифарсовым – вряд ли уместно» [23]. «“Солдатская правда” Виктора Астафьева – кривда о человеке и времени», – так озаглавлен отклик Ю. Павлова в сообществе «Круг чтения» на сайте «Завтра.ру» [24].
Примером не просто критических, а разгромных откликов стали публикации О. Давыдова. В многостраничном эссе, растиражированном в целом ряде изданий и названном психоаналитическим исследованием, он называет В. Астафьева «певцом чревных типов» и обвиняет его в «пропаганде скотства». Разбор смысловых блоков романа сопровождается «говорящими» подзаголовками: «Фекалиада», «Мудрость брюха», «Утроба – вот мой бог». Другой тренд романа, по мнению О. Давыдова, сводится к недопустимой идентификации сталинского и гитлеровского режимов, порой даже в пользу второго («Фюрер ценил людей») [25].
Методы исследования
Метод выбора всех трёх авторов определяется таким объединяющим признаком, как их непосредственное участие в ВОВ. Репрезентативность обобщённого исторического взгляда обеспечивается принадлежностью к нишевым группам писателей - очевидцев войны («генеральская», «лейтенантская» и «солдатская» проза).
Жанр художественно-мемуарных произведений стал предметом анализа потому, что именно в них и через них происходит «замещение рационально-логических компонентов в мышлении публики эффектами эмоциональных потрясений и чувственных переживаний. В итоге производство впечатлений становится… более значимыми факторами, чем научное изучение реальной доказательной базы» [26].
Различие трактовок Г. Жуковым, В. Некрасовым и В. Астафьевым военных событий представляется очевидным. Как писал К. Симонов, «^точка зрения солдата на войну - одна точка зрения, командира полка - другая, даже на один и тот же бой. Потому что они ведь и смотрят на него с разных точек и имеют в нём, в этом бою, различные задачи» [27, с. 301–302]. Отсюда мы намерены не столько подтвердить эти различия, сколько предложить критерии, по которым профессиональный исследователь, а вслед за ним и рядовой читатель смогут составить собственный, максимально объективированный взгляд на события ВОВ и другие исторические прецеденты, отражённые в художественном творчестве. Сравнительный анализ произведений будет производиться по следующим сформулированным автором настоящей статьи критериям:
-
- политическая конъюнктура периода написания книги,
-
- оценка автором (писателем) власти и существующего государственного устройства,
-
- отношение самой власти к автору,
-
- ролевой статус автора, его кругозор и профессиональная компетентность относительно происходящих событий;
-
- описание положительных, отрицательных и проблемных героев произведений;
-
- авторское восприятие России и русского человека,
-
- претензия автора на «историзм» как демонстрацию исторической правды.
Результаты и дискуссия
Начиная наше исследование с мемуаров Г. Жукова и обращаясь к параметру «политическая конъюнктура», напомним, что первое издание книги «Воспоминания и размышления» вышло в свет спустя почти четверть века после войны, в 1969 г., то есть в «брежневский» период. Публикация «миновала» периоды «сталинский», когда мемуары крупных военачальников вообще не издавались, а также «хрущёвский», когда сталинизм жёстко критиковался. Резонно предположить, что в мемуарах стала допустимой критика И. Сталина, однако не безапелляционная, как при Н. Хрущёве, а сбалансированная, в соответствии с обновлёнными политическими установками. В «Воспоминаниях» косвенно критикуется и Н. Хрущёв, но очень кратко и в ракурсе проблемы недооценки опасности той или иной военной операции. Единожды и нейтрально упоминается Л. Брежнев, якобы под давлением «сверху». Для второго издания мемуаров (1974) автор написал три новые главы и переработал заключение, а в 1990 г. (10-е и все последующие издания) книга была значительно «исправлена и дополнена»: в неё внесли фрагменты, изъятые или отредактированные в ходе работы над первым изданием. Другими словами, разные издания самих мемуаров не совсем идентичны.
В рамках политической конъюнктуры следует, разумеется, иметь в виду оценку автором власти и существующего государственного устройства . В «Воспоминаниях» они трактуются только в позитивной и возвышенной тональности. Советский строй есть самый правильный и передовой, его лидеры достойны своей роли, ошибки связаны с деятельностью отдельных людей в отдельных ситуациях.
Рассматривая с тех же позиций повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» (первоначально «Сталинград», 1946), подчеркнём, что она вышла сразу поле окончания войны, при жизни И. Сталина, и стала фактически первым из числа заметных произведений «лейтенантской» прозы. Книгу можно назвать в принципе не политизированной, поскольку и существующее государство, и его руководители воспринимаются автором без оценок, как данность. В этом смысле повесть максимально нейтральная и «вневременная»: при смене названий и технических подробностей она могла бы относиться и к предыдущим, и к последующим десятилетиям.
Кардинально иной, глубоко конъюнктурный характер носит роман В. Астафьева «Прокляты и убиты» (1990–1994 гг.). Как известно, СССР и «социалистический лагерь» прекратили в это время своё существование, наступило время новой России, а критика советской эпохи в целом и связанных с ней событий, включая ситуации ВОВ, стала не просто допустимой, но популярной, а порой и желательной. Прежние взгляды, воспевающие и прославляющие «лучший в мире строй», решительно отвергались. Произведение писателя создано в полном соответствии с данным контекстом и даже выходит за его «усреднённые» рамки. Власть негативна как таковая, она «всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна» [28, с. 376]. Её лидеры предстают как злодеи: «Сталин привычно обманывал народ, врал напропалую» [28, с. 83]; Ленин - «выродок из выродков.., до второго распятия Бога и детоубий- ства дошедший» [28, с. 266]; даже Суворов плох, поскольку «истаскал за собою по Европе, извёл тучи русских мужиков» [28, с. 377]. И. Сталин, по мнению В. Астафьева, вполне сопоставим с А. Гитлером, а большевизм – с нацизмом, в котором автор видит некоторые более рациональные и даже человеколюбивые черты.
Необходимо принять во внимание и отношение самой власти к авторам в период написания их произведений. Г. Жуков был «отставным маршалом» со снятой опалой, но с пристальным вниманием к возможным неправильным трактовкам политической действительности, а отсюда и стремлением цензурировать авторский текст. Книга не получила никаких государственных премий. В. Некрасов находился вообще вне поля какого-либо внимания со стороны властных органов. Сталинская премия за книгу стала, по мнению экспертов, следствием случайного и благоприятного стечения обстоятельств: повесть «В окопах Сталинграда» одобрил А. Твардовский, а по некоторым предположениям – И. Сталин. Что же касается В. Астафьева, то за свой роман он в 1995 г. получил Государственную премию РФ, а в 1999 г. был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающийся вклад в развитие советской / отечественной литературы. При этом следует учитывать, что находящийся тогда у власти Б. Ельцин и его окружение активно критиковали все периоды «коммунистического режима» вместе с его лидерами. В ситуации социальноэкономического кризиса 1990-х гг. руководителям страны было важно найти виноватых в прошлой, советской жизни. Книга «Прокляты и убиты» как нельзя лучше решала эту задачу.
При анализе произведений мы принимаем во внимание ролевой статус автора как во время ВОВ, так и в последующий период; а если конкретнее, то кругозор и профессиональную компетентность , дающие право трактовать события тем или иным образом. В этом смысле военногосударственный статус маршала Г. Жукова, безусловно, самый значительный. Маршал рассказывает о сражениях, к которым имел непосредственное отношение, лидерах, с которыми общался, ситуациях, которые наблюдал в стратегическом разрезе. Мемуары содержат многочисленные ссылки на научно-архивные и художественнодокументальные источники.
У В. Некрасова отсутствуют какие-либо глобальные обобщения, он вполне сознаёт пределы своей «лейтенантской» компетенции и не стремится за них выйти: «На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец – и тебе кажется, что во всём мире тишь и гладь; начнёт бомбить – и ты уже уверен, что весь фронт… задвигался» [29, с. 14].
-
В. Астафьев, рядовой солдат ВОВ, напротив, претендует на всеохватность. Оценки писателя,
преимущественно эмоциональные, касаются коммунистического учения, что «создано в Германии и … завезено в Россию оголтелой бандой са-моэмигрантов» [28, с. 404], политики руководства страны в целом, хода военных операций ВОВ и предыдущих военных кампаний, например, периода боёв на озере Хасан и конфликта с Финляндией, приказов Верховного Главнокомандующего, вклада в ВОВ различных слоёв армии и гражданского населения и т. д. Собственные рассуждения нередко вкладываются писателем в уста советских и германских генералов, с которыми В. Астафьев никак не мог общаться напрямую.
В рассуждениях о статусе и кругозоре авторов находит подтверждение тезис К. Симонова о разном восприятии войны солдатом и командиром. Вместе с тем, Г. Жуков и В. Некрасов намерены соответствовать собственной компетенции вокруг ВОВ в своих произведениях, но В. Астафьев стремится выйти далеко за её границы.
Жизненное кредо авторов, как правило, выражается через описание героев произведений – положительных, отрицательных и проблемных. Для Г. Жукова совокупным положительным героем становится советский народ и советский солдат. В перечислениях отдельных социальных групп, пусть и выполненных в духе официальных докладов, он стремится никого не забыть: здесь рабочие и колхозники, учёные и деятели литературы и искусства, женщины и молодёжь, партия и комсомол. Отмечаются позитивные качества многих военачальников, где на первом месте стоит их профессионализм. Несмотря на то что маршал не принимал непосредственного участия в боях и минимально общался с младшими офицерами, а тем более с рядовым составом, он с помощью эпизодического личного опыта и привлечённых источников стремится приблизиться к локальным эпизодам фронтовой действительности.
Здесь и описание героизма сводного батальона пограничников 23 июня 1941 г., сумевшего задержать германское наступление [30, с. 241], и наблюдение за боем 586-го стрелкового полка в окружении и прорывом этого окружения [30, с. 325], и беседа с девушками, участницами диверсионного отряда, перед их отправкой в тыл врага [30, с. 269], и захват группой капитана Фомина эшелона с новыми вражескими самолётами [30, с. 471]. Лейтмотив боевых эпизодов передан в рассказе о подвиге роты старшего лейтенанта Петрищева: «Когда в живых осталось всего лишь семь человек, командир, обращаясь к бойцам, сказал: “Товарищи, будем стоять на высоте так, как стояли панфиловцы у Дубосекова. Умрём, но не отступим”! И не отступили» [30, с. 522].
У Г. Жукова, как уже отмечалась выше, есть критика И. Сталина, а также ряда известных полководцев за провалы операций, недальновидность, неумение сориентироваться в обстановке. Но мар- шал также подчёркивает, что ошибки руководства «…не снимают ответственности с военного командования всех степеней за оплошности и просчёты» [30, с. 247]. Вину за ошибки маршал возлагает и на самого себя. Но ни персональных, ни обобщённых отрицательных персонажей в «Воспоминаниях и размышлениях» нет. Отсутствуют и проблемные герои, сомневающиеся в победе, а тем более совершившие какие-либо серьёзные нарушения.
Положительные герои В. Некрасова – это поданные без пафоса, приземлённо, офицеры и солдаты, с кем лейтенант Керженцев воюет в Сталинграде, от ординарца рядового Валеги, старшины десантников Чумака и до командира дивизии: «Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын…» [29, с. 204].
Среди отрицательных – лейтенант Калужский: он говорит о том, что «…дело приближается к концу», имея в виду разгром советской армии; при угрозе окружения появляется без лейтенантских кубиков и ремня со звездой, а затем приспосабливается на хозяйственной должности. Отношение Керженцева к Калужскому выражается прямо: «В морду тебе дать… На кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине?» [29, с. 54–57]. Негативный персонаж другого типа – капитан Абросимов, отправляющий бойцов в бессмысленную атаку, где многие погибают. Абросимова судили, разжаловали и отправили в штрафную роту. В образе проблемного, сомневающегося героя выступает заводской инженер Георгий Акимович: «Воевать не умеем», – рассуждает он. Но в то же время уверен, что «…будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют» [29, с. 113–117].
В повести заметно двоякое отношение В. Некрасова к армейским политработникам. Во время боевой операции в тесном подвале появляются двое представителей политотдела: «Это всё наблюдатели… Они меня раздражают» [29, с. 212]. Но параллельно показана ситуация, когда «политработники нарасхват». Полковой агитатор Сенечка Лозовой «прямо с ног сбивается… На передовой только и слышно: “Сенечка, сюда!”, “Сенечка, к нам!”… Работает как дьявол» [29, с. 297].
Иной, кардинально отличающийся от предыдущих спектр героев различных оттенков наблюдается в романе В. Астафьева. Среди положительных героев боец Зеленцов. Находясь в «карантине» («чёртовой яме») перед отправкой на фронт, он «угрелся» в клубе, спал, пьянствовал, играл в карты. Когда бойца обнаружил капитан Дубельт, Зеленцов обругал его и «поддел на кумпол, разбил очки и нос». Состоялся показательный суд, приговоривший Зеленцова к штрафбату. Но для автора он «кореш, товарищ, друг» [28, с. 179], вызывающий сочувствие у обитателей «чёртовой ямы»: Зеленцова хвалили за храбрость и непокорность, «говорили, что он резал какого-то офицера-клеща, да, жалко, недорезал» [28, с. 168]. В этом же ряду боец Булдаков, «всё время смекающий, где и как добыть еду... Упёр с кухни аж цельного барана» [28, с. 53].
Другой тип позитивного героя – «не от мира сего» старообрядец Коля Рындин в окружении «политической и сексотной кодлы». Третий тип представляют избранные офицеры. Храбр и человечен младший лейтенант Щусь, совершивший в книге путь от комвзвода до комбата. Но путь этот пройден наперекор подготовленной ему «коммунистическим строем» судьбе: герой из семьи спецпереселенцев, чудом не погиб при переселении в Сибирь, был усыновлён семьёй местного художника, вынужденно сменил фамилию.
Старые друзья майор Зарубин и генерал Ла-хонин тоже доблестно воюют, но в периоды затишья ведут философские беседы о том, что «бросают и бросают в бушующую ненасытную утробу войны этот самый “человеческий материал”, чтобы хоть день, хоть два продержаться в Сталинграде.., а в Воронеже – не отдать больницу, стоящую на отшибе, потому как… можно докладывать Верховному Главнокомандующему, что города эти не сданы» [28, с. 325], о том, что «цари и вожди много едят, пьют, курят и блядуют – от них одна гниль происходит и порча людей» [28, с. 376].
«Островком позитива», идиллией военного времени становится совхоз, куда на помощь в уборке занесённого снегом урожая едут призывники – обитатели «чёртовой ямы». В деревне живут трудолюбивые и отзывчивые русские люди, царят поддержка и понимание, удаётся даже выпить, плотно закусить и встретить свою любовь.
Значительно более масштабен ряд героев отрицательных. В «карантине» это командир роты Пшенный. «Сипло дышащий» и «с неприкрытой ненавистью», он заставлял солдат в ходе утреннего туалета раздеваться и растираться снегом [28, с. 46]. «Доходяга» Попцов, мочившийся на товарищей с верхних нар, упал на пробежке. Пшенный стал пинать его ногами, и Попцов внезапно умер. Рота намеревалась свершить самосуд над капитаном, но младший лейтенант Щусь остановил расправу.
Это судьи, исполнители и вообще все причастные к расстрелу объявленных дезертирами братьев Снигирёвых. По В. Астафьеву, они не заслужили такой кары за свой проступок (речь идёт о зиме 1942 г.): просто ушли домой на три дня, а на четвёртый вернулись. Это «надзорное войско», двигающееся за фронтом: «строгое, умытое, сытое, с бабами, с музыкой, со своими штандартами, установками для подслушивания, пыточными инструментами, с трибуналами, следственными и другими отделами» [28, с. 366].
Не просто критику, а ненависть писателя вызывают политработники: «на каждого воюющего по два-три воспитателя», «партийная челядь, ком- сомольские и прочие начальники-дармоеды». Начальник политотдела дивизии полковник Мусе-нок становится одним из главных героев романа. Ранее он работал корреспондентом «Правды» на Южном Урале, «писал разносные статьи об оппортунистах, троцкистах, врагах партии и загнал в лагеря, подвёл под расстрел Челябинский обком партии» [28, с. 845]. Мусенок читает пустые нотации бойцам, «жирует», заводит любовницу. В итоге положительный герой Щусь устраивает подрыв на мине машины Мусенка и таким образом, при всеобщей негласной поддержке, избавляет армию от отрицательного героя, не совершившего, впрочем, никаких преступлений.
Обобщёнными отрицательными героями становятся в романе немцы (фашисты). Однако персональные описания представителей врага вызывают порой сочувствие и даже уважение. А «хороший» немец, по мнению В. Астафьева, лучше «плохого» нашего: писатель сожалеет, что оказавшего помощь нашим санитаркам немца потом смешают «с карателями, эсэсовцами, разными тыловыми костоломами.., как наши энкавэдешники, смершевцы, трибунальщики – вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом» [28, с. 135].
В целом получается, что если положительные герои Г. Жукова и В. Некрасова – это те, кто поддерживает регламентированный государством и неизбежный в военное время порядок, то у В. Астафьева – те, кто игнорирует существующие законы и уставы, а воюет «не благодаря, а вопреки».
Необходимо рассмотреть произведения о ВОВ и с точки зрения такого вечного, а не ситуативного параметра, как отношение писателей к России и русскому человеку . Все три автора так или иначе обращаются к расшифровке «русского чуда», позволившего победить в войне. Г. Жуков трактует его исключительно с рациональных позиций. Ответ на загадку «русского чуда» лежит «в преимуществе социалистического строя», – пишет маршал [30, с. 262]. Следующая грань «чуда» связывается с дееспособностью руководства: «Никакое военно-политическое руководство любой другой страны не выдержало бы подобных испытаний и не нашло бы выхода из создавшегося крайне неблагоприятного положения» [30, с. 282]. И, наконец, это «массовый героизм наших войск, их ожесточенное сопротивление, упорство, величайший патриотизм армии и народа» [30, с. 332], а также «великий трудовой подвиг после войны» [30, с. 734].
Для В. Некрасова «русское чудо» заключается в находящемся глубоко внутри человека, вневременном и неполитическом понятии «родина»: «Спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит… Но за эту родину... он будет драться до последнего патрона… вот это и есть русский человек» [29, с. 73–74].
У В. Астафьева родина постоянно противопоставляется существующему строю и его руково- дящим представителям. Родина – это земля, хлебное поле, хлебороб-сеятель. Но рядом непременно «дармоеды» и «пьяные комиссары», отнявшие у крестьянина его достояние. Писатель верит, что поле воскреснет, но только когда сеятель вернётся с войны и проклянёт тех, кто «с помощью оружия да словесного блуда» научил человека «отнимать хлеб у ближнего» [28, с. 268]. Прожжённый служака старшина Шпатор, слушая русские песни в исполнении новобранцев, верит, что живо в человеке то, что заложено родиной, что «его ребята, юные эти шпанята, заломают врага» [28, с. 322].
Важен, наконец, и такой параметр, как сама претензия писателя на «историзм» как демонстрацию исторической правды . Г. Жуков в этом плане ставит перед собой вполне соразмерную своей компетентности задачу: отразить в книге «наиболее существенное и важное, такое, что по достоинству могло бы раскрыть величие дел» [30, с. 3]. Реальность этого «важного» подтверждается ссылкой на доступные государственные и иные документы. Более того, маршал намерен дополнить историческую литературу, которая, например, «…лишь в общих чертах касается величайшего приграничного сражения начального периода войны» [30, с. 244]. Он также мягко упрекает некоторых других авторов мемуаров в том, что их «память подвела». Так, В. Чуйков «не счёл нужным» отдать должное ряду соединений за бесценную помощь Сталинграду [30, с. 439]. Г. Жуков считает несправедливым заявление В. Чуйкова о том, что он первым поднял вопрос о возможности взятия Берлина еще в феврале 1945 г.: это сделал другой представитель Генштаба, а В. Чуйков, как свидетельствует стенограмма, «…ни словом не обмолвился» [30, с. 622]. Маршал критикует и П. Ротмистрова за его утверждение о решающей роли 5-й танковой армии в Курской битве: «Это нескромно и не совсем так» [30, с. 513].
-
В. Некрасов вообще не претендует на открытие каких-то особенных граней исторической правды. Он признаётся, что «…записок и дневников никаких на фронте не вёл… Персонажи повести в основном взяты из жизни» [31].
-
В. Астафьев же отвергает всё написанное ранее о ВОВ в художественной прозе как неправдивое: «Я не был на той войне, что описана в сотнях романов и повестей (курсив мой – А. Ч.)… К тому, что написано о войне, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне» [32]. Писатель уверен, что именно он расскажет настоящую правду о ВОВ, «жестокую и необходимую» [33, с. 193].
Выводы
Исследование позволило определить историкополитический и социально-психологический контексты, информированность и внутренние мотивации выбранных авторов, побудившие их описать сюжеты и создать смыслы своих произведений.
В мемуарах Г. Жукова мы видим попытку очевидца, обладающего высокой компетентностью, отразить глобальный взгляд на ВОВ. Ограниченность этого взгляда связана с восприятием войны преимущественно в ракурсе взаимоотношений генералитета между собой и с высшим руководством страны, а также с собственной твёрдой идеологической установкой и жёсткой зависимостью от политической конъюнктуры. Но и с данными ограничениями «Воспоминания и размышления» могут быть охарактеризованы как типологический образец «маршальской прозы» и в наибольшей степени отнесены к понятию «исторический документ».
По отношению к нему повесть В. Некрасова выступает локальным и частным перечнем эпизодов. Понятно, что история и складывается из эпизодов, однако ситуации, подобные описанным в повести «В окопах Сталинграда», зафиксированы в тысячах опубликованных и, вероятно, в миллионах устных историй участников войны. В книге минимум деталей, подлежащих и доступных для верификации, по своей «историчности» она является одной из самых простых в ряду произведений «лейтенантской прозы».
В романе В. Астафьева мы, с одной стороны, тоже наблюдаем три эпизода: два из них отражены в названиях частей книги («Чёртова яма» и «Плацдарм»), а третий выбивается из общего ряда и может иметь условный заголовок «Поездка в совхоз». С другой стороны, по своей детализации, а главное, уровню смысловых обобщений эти эпизоды имеют больший объём и значимость, чем аналогичные фрагменты мемуаров Г. Жукова, а тем более повести В. Некрасова. Но практически все смыслы и иллюстрирующие их факты приводят к негативным коннотациям, выраженным, в конечном счёте, в самом названии романа – «Прокляты и убиты». Адекватная, на наш взгляд, оценка этого парадокса представлена в рецензии А. Пекарша и Г. Пернав-ского. Мотивация В. Астафьева определяется ими как вымещение – «…форма психологической защиты, при которой негативная эмоциональная реакция направлена не на ситуацию, вызвавшую психическую травму, а на объекты, не имеющие к психотравме отношения». Это «заточенность на негатив», мешающая объективированности автора и заставляющая его «выискивать, смаковать, а иногда и додумывать негативные ситуации и поступки» [19]. Отсюда произведение В. Астафьева, наиболее талантливое из трёх по своему художественному уровню, следует одновременно оценить как наименее соответствующее показателям обобщённой, а не частной исторической достоверности.
Но при всех сделанных констатациях мы не можем заявить о том, что какая-то из проанализированных книг соответствует или, напротив, не соответствует «исторической правде». Каждое из этих, а также других произведений о ВОВ, не упомянутых в настоящей статье, есть часть правды, мемуарно-документальная или художественно-эмоциональная. Наши исследовательские параметры лишь помогают разобраться в причинах появления именно такой «правды», но вовсе не показывают путь к некоторой универсальной истине. Мы также не ориентируем читателя на поиск столь же абстрактной «золотой середины». Выходом из теоретического и «потребительского» тупика может быть лишь актуализация полученного знания с последующим определением и продвижением собственной позиции.
Список литературы Памятная реальность и механизмы её формирования в "генеральской", "лейтенантской" и "солдатской" прозе авторов - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Г. К. Жуков "Воспоминания и размышления", В. П. Некрасов "В окопах Сталинграда", В. П. Астафьев "Прокляты и убиты")
- Малинова, О. Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа / О. Ю. Малинова // Полития. – 2017. – № 4. – С. 6–22.
- Романовская, Е. В. Идентичность и коммеморация / Е. В. Романовская, Н. Л. Фоменко // Власть. – 2015. – № 7. – С. 81–84. – URL: https:// www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Romanovskaya.pdf.
- Нора, П. Франция – память / П. Нора, М. Озуф, М. де Пюимеж, М. Винок ; пер. с фр. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. – С. 112.
- Токарева, Е. А. Историческая память, практики коммемораций и современная политическая история / Е. А. Токарева // Вестник МГПУ. Серия «Философские науки». – 2021. – № 3 (39). – С. 28–36.
- Арнаутова Ю. А. Культура воспоминания и история памяти // История и память: Историче-ская культура Европы до начала Нового времени / Ю. А. Арнаутова ; под ред. Л. И. Репиной. – М.: Кругъ, 2006. – С. 47–55. – URL: http://ec-dejavu.ru/c-2/Cultural_Memory.html.
- Assmann, J. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism / J. Ass-mann. – Harvard University Press, 1998. – 288 p.
- Vázquez-Liñán, M. Historical memory and political propaganda in the Russian Federation / M. Vázquez-Liñán // Communist and Post-Communist Studies. – 2017. – № 50 (2). – Р. 77–86.
- Быков, А. В. Мемуарная литература в историографии Великой Отечественной войны 1941–45 гг. / А. В. Быков // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2014. – № 3 (3). – С. 55–64. – URL: https://elibrary.ru/download/ elibrary_22665131_59247262.pdf.
- Мамяченков, В. Н. Мемуары высших советских военачальников как источник по истории Второй мировой войны / В. Н. Мамяченков // Вклад Урала в военную мощь России: сборник научных статей 13-х Уральских военно-историче-ских чте-ний, посвященных 80-летию победы под Сталин-градом. – Екатеринбург: Сократ, 2022. – С. 420–424. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/117182.
- Восприятие советского прошлого в кон-тексте формирования новых идентичностей, войн памяти и образов будущего на постсоветском пространстве: монография / В. Э. Багдасарян и др. – М.: Проспект, 2022. – С. 112–116.
- Колесников А. Размышления о воспоминаниях маршала Жукова / А. Колесников // Проза.ру. – 2009. – URL: https://proza.ru/2009/12/22/ 857?ysclid=m1iyasunev161596944.
- Кондратович, А. Ровесник любому поколению: документальная повесть о Твардовском А. Т. / А. Кондратович. – М.: Современник, 1984. – С. 203.
- Ромашкина, Н. «Лейтенантская проза» – страшная исповедь на бумаге / Н. Ромашкина // Информационный портал о культуре в России и за рубежом «Ревизор». 8 мая 2017. – URL: https://rewizor.ru/literature/reviews/leytenantskaya-proza-strashnaya-ispoved-na-bumage/?ysclid=m24jv2 otug406747134.
- Головко, О. «Как оно было на самом деле». Писатель Алексей Варламов – о лучшей прозе про Великую Отечественную войну. Правмир. 7.05.2019 / О. Головко. – URL: https://www.pravmir. ru/kak-ono-bylo-na-samom-dele-pisatel-aleksej-varla mov-o-luchshej-proze-pro-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu/?ysclid=m24l9ml2rn768336998.
- Березин, В. Уроки Виктора Некрасова и современная военная проза / В. Березин // Знамя. – 2016. – № 10. – URL: https://znamlit.ru/publi cation.php?id=6411.
- Щелокова, Л. И. Семиосфера окопа в романе В. Некрасова «В окопах Сталинграда» / Л. И. Щелокова // Проблемы истории, философии, культуры. – 2013. – № 3 (41). – С. 234–247. – URL: https://pifk.magtu.ru/doc/pifk-03-2013.pdf.
- Сухих, С. И. Сложная простота (проблематика и поэтика повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда») / С. И. Сухих // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Филология. – 2013. – № 5 (1). – С. 343–348. – URL: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/19931778_2013_-_5-1_unicode/55.pdf?ysclid=m1jdmnlinm818952581.
- Перевалова, С. В. Повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда» и героико-патриотические традиции русской классики / С. В. Перевало-ва // Литература в школе. – 2020. – № 3. – С. 32–43.
- Пекарш, А. Война Николая Никулина: правда и ложь мемуаров / А. Пекарш, Г. Пернавский // Фонд сохранения исторической памяти «Я помню». 12.05.2015. – URL: https://iremember.ru/ materials/otzyvy-iz-knig/voyna-nikolaya-nikulina-pra vda-i-lozh-memuarov/?ysclid=m24m5snahd453978763.
- Павловская, Х. Изображение войны в творчестве Виктора Астафьева (на материале романа «Прокляты и убиты») / Х. Павловская // Новая русистика. – 2022. – Vol. 15, iss. 1. – Р. 55–66.
- Британ, Э. Л. Роман В. П. Астафьева «Про-кляты и убиты»: авторская концепция трагическо-го: автореф. дис. … канд. филол. наук / Э. Л. Бри-тан. – М., 2012. – URL: https://new-disser.ru/_avtore ferats/01005518029.pdf?ysclid=m1w8ajjz2x211139144.
- Зеленкoв, B. Кoмy вoйнa, a кoмy мaть poднa. Haш сoвpеменник / B. Зеленкoв. – 1997. – № 9. – С. 7.
- Гончаров, П. А. «Снятие покровов»: специфика позиции автора в романе В. Астафьева «Прокляты и убиты» / П. А. Гончаров // Вестник ТГУ. Гуманитарные науки. – 2001. – Вып. 1 (21). – С. 58–63. – URL: https://elibrary.ru/download/elib rary_16354237_97700784.PDF.
- Павлов, Ю. «Солдатская правда» Виктора Астафьева – кривда о человеке и времени / Ю. Павлов // Завтра.ру. – 2020. – 3 ноября. – URL: https://zavtra.ru/blogs/soldatskaya_pravda_viktora_astaf_eva_krivda_o_cheloveke_i_vremeni.
- Давыдов, О. Нутро. О военном эпосе Виктора Астафьева / О. Давыдов // Перемены. Толстый веб-журнал. – URL: https://www.peremeny.ru/ column/view/839/.
- Русакова, О. Ф. Дискурс постправды как медиатехнология политики постпамяти / О. Ф. Ру-сакова, В. М. Русаков // Дискурс-Пи. – 2019. – № 2 (35). – С. 10–26.
- Симонов, К. Солдатские мемуары: доку-ментальные сценарии / К. Симонов. – М., 1985. – С. 301–302.
- Астафьев, В. П. Прокляты и убиты: роман / В. П. Астафьев. – М.: АСТ, 2022. – 896 с.
- Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: повесть / В. П. Некрасов. – М.: АСТ, 2022. – 448 с.
- Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления: в 2 т. / Г. К. Жуков. – М.: Олма‐Пресс, 2002. – 743 с. – URL: http://www.biblio.nhat-nam.ru/Zhukov.pdf.
- Некрасов, В. Моя работа над повестью «В окопах Сталинграда» / В. Некрасов // Радянське мистецтво. – № 25 (115). – 18 июня 1947 г. – URL: https://nekrassov-viktor.com/Books/Nekrasov-Moya-rabota-nad-povestyu-V-okopax-Stalingrada/.
- Ростовцев, Ю. Виктор Астафьев / Ю. Ростовцев. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 110 с. – URL: https://litmir.club/br/?b=159132.
- Астафьев, B. П. Посох памяти / B. П. Астафьев. – М.: Современник, 1980. – С. 193.