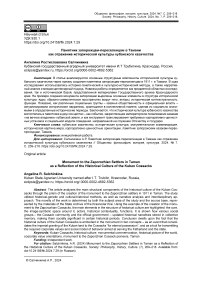Памятник запорожцам-переселенцам в Тамани как отражение исторической культуры кубанского казачества
Автор: Салчинкина Ангелина Ростиславовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные структурные компоненты исторической культуры кубанского казачества через призму создания памятника запорожцам-переселенцам в 1911 г. в Тамани. В ходе исследования использовались историко-генетический и культурно-исторический методы, а также нарративный анализ и междисциплинарный подход. Новизна работы определяется как предметной областью исследования, так и источниковой базой, представленной материалами Государственного архива Краснодарского края. На примере создания монумента запорожцам выделены основные элементы в структуре исторической культуры: ядро, образно-символическое пространство вокруг него, акторы, историческая контекстуальность, функции. Показано, как различные социальные группы - казачья общественность и официальная власть - актуализировали исторические нарративы, хранящиеся в коллективной памяти, сделав их социально значимыми в определенные исторические периоды. Заключается, что историческая культура кубанского казачества воплотилась в памятнике в двух концептах - как событие, закрепляющее императорское пожалование казакам «на вечное владение» кубанской земли, и как инструмент транслирования требуемых корпоративно-ценностных установок и социальной модели поведения, направленной на служение Отечеству и государю.
Кубанское казачество, историческая культура, монументальная коммеморация, историческая картина мира, корпоративно-ценностные ориентации, памятник запорожским казакам-первопроходцам, тамань
Короткий адрес: https://sciup.org/149145569
IDR: 149145569 | УДК: 930.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.7.29
Текст научной статьи Памятник запорожцам-переселенцам в Тамани как отражение исторической культуры кубанского казачества
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т Трубилина, Краснодар, Россия, ,
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia, , 0000-0002-4692-5362
Проблема исторической культуры, которая включает в себя отношение коллективной общности к прошлому, а также механизмы формирования и каналы транслирования представлений о нем, определяет новое направление отечественных социально-гуманитарных исследований (История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени …, 2006; Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом …, 2012; Историческая культура белорусов и россиян: формирование представлений о национальном и общем прошлом (памяти профессора В.Е. Козлякова) …, 2023). В монографиях, посвященных данной тематике, вне поля зрения ученых остались практики монументальной коммеморации. Исключением является статья С.А. Еремеевой о памятниках писателям, в которых отразились общезначимые для российского общества XIX в. ориентиры (Еремеева, 2012). В то же время изучение монументальной политики с позиции концепции исторической культуры представляется весьма интересным, поскольку памятники олицетворяют наиболее знаковые фигуры и значимые события с точки зрения исторической картины мира социальной группы или общества в целом.
В XIX в. на Кубани, как и по всей Российской империи, происходил поиск героических символов для увековечивания их в общественных монументах. В казачьей системе ценностей родная земля имеет непреходящее значение, поэтому в исторической картине мира кубанских казаков одним из ключевых событий выступает получение в вечное владение территории, расположенной на правом берегу Кубани и на Таманском полуострове.
Важную роль в процессе создания символического образа переселения черноморцев на Кубань играли монументальные ансамбли. Среди них выделяется памятник запорожским казакам-первопроходцам, установленный в 1911 г. в Тамани.
В марте 1894 г. выборное общество казаков станицы Таманской обратилось через атамана Темрюкского отдела, полковника В.И. Родзевича к начальнику Кубанской области и наказному атаману Кубанского казачьего войска, генерал-майору Я.Д. Маламе с просьбой разрешить открыть подписку для сбора пожертвований на сооружение памятника на месте, где впервые в 1792 г. высадились запорожские казаки, образовавшие впоследствии Черноморское казачье войско1. В ответ на это представление в декабре 1895 г. в штаб Кавказского военного округа поступил отзыв от Главного управления казачьих войск, свидетельствующий, что дело это получило одобрение императора Николая II, и военный министр позволил начать сбор добровольных пожертвований в Кубанской области, но при этом отметил, что наказной атаман должен установить порядок подписки, сбора и хранения денежных средств, а также представить на утверждение проект и смету для создания и установки памятника2. На докладе канцелярии начальника Кубанской области и наказного атамана имеется резолюция Я.Д. Маламы следующего содержания: «Опубликовать это разрешение с кратким историческим пояснением и деньги хранить в Штабе… Найти художника и строителя такого памятника. 23 января 1896 года»3.
В том же году были составлены проекты исторической справки «Об обстоятельствах образования Черноморского, ныне Кубанского казачьего войска» и воззвания «О подписке на сооружение памятника в ст. Таманской в ознаменование этого события»4. Автором текстов стал есаул Иван Иванович Дмитренко. Его кандидатура идеально подходила для этой миссии. Согласно послужному списку5, он был потомственным казаком, сыном войскового старшины Кубанского казачьего войска. Его попытка получить среднее образование в Керченской Александровской гимназии не увенчалась успехом (Матвеев, 2023: 113), а вот обучение во Втором военном Константиновском училище оказалось куда более результативным. После его окончания в 1883 г. И.И. Дмитренко приступил к службе в Первом Екатеринодарском полку Кубанского казачьего войска. Первоначально он был назначен исполнять обязанности делопроизводителя полкового суда, через год – переведен на должность полкового адъютанта, в 1890 г. – зачислен в Кубанское казачье войско. В 1891 г. подъесаул И.И. Дмитренко был назначен помощником начальника войсковой мастерской, а с 1895 г. до 1899 гг. уже в чине есаула возглавлял ее. За эти неполные 9 лет он был награжден Орденом Св. Станислава 3 степени (1891) и серебряной медалью в память царствования императора Александра III (1896).
Выполнение своих служебных обязанностей И.И. Дмитренко совмещал с активной исследовательской деятельностью. К моменту составления исторической справки и воззвания он уже проявил себя как кропотливый историк, исследующий материалы Военно-ученого архива Главного штаба и Московского отделения Общего архива Главного штаба, в результате чего в свет вышел «Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска» (1896–1898)1.
Навыки научной работы и любовь к истории кубанских казаков позволили И.И. Дмитренко подготовить необходимые документы, сопровождающие открытие подписки для сбора пожертвований на сооружение мемориала. В исторической справке он передает казачью версию наделения черноморцев землями на Таманском полуострове и правом берегу Кубани. Изложение событий начинается с русско-турецкой войны 1787–1791 гг., когда князь Г.А. Потемкин-Таврический решил призвать бывших запорожцев на службу. В декабре 1878 г. С.И. Белый учреждает Кош в урочище Василькове, расположенном на реке Буг. С этого времени начинается история войска под именем «верных казаков запорожских», которое с января следующего года возглавил нареченный указом Екатеринославского наместнического правления войсковой атаман С.И. Белый. В исторической справке отмечается, что восстановленное войско, получившее от Г.А. Потемкина название «Черноморское», достойно себя показало и отличилось как в сухопутных, так и морских действиях против Турции. Благодаря ходатайству князя они приобрели новые земли между реками Бугом и Днестром. Смерть «всемогущего покровителя черноморцев» Г.А. Потемкина не позволила решить возникшую проблему, связанную с нехваткой земель для возросшего Черноморского войска, и тогда, как повествует И.И. Дмитренко, на переговоры в столицу была отправлена делегация во главе с войсковым судьей А.А. Головатым, который уже не раз бывал «с подобными ходатайствами пред очами царицы»2. Результатом стала грамота императрицы Екатерины II, пожалованная казакам 30 июня 1792 г. в Царском Селе. Позже, в проекте исторической справки, утвержденной войсковым наказным атаманом в 1897 г., появилась выдержка из нее, согласно которой Черноморскому войску были переданы в вечное владение «состоящий в области Таврический остров Фанагория со всею землею, лежащею на правой стороне реки Кубани от устья ея к Усть-Лабинскому редуту так, чтобы с одной стороны – река Кубань, с другой же – Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли»3. Заключительная часть исторической справки была посвящена отправке на Тамань Черноморской гребной флотилии, состоящей из 51 лодки с 3 847 казаками на борту. 25 августа 1792 г. флотилия под начальством С.Л. Белого и под руководством капитана 1 ранга П.В. Пустошкина успешно достигла берегов Таманского полуострова, и первые казаки-переселенцы вступили на свою землю.
В судьбоносном для черноморских казаков переселении И.И. Дмитренко вслед за народной традицией отводит особую роль Сидору Белому, Захару Чепеге и Антону Головатому, отмечая, что они «были первыми правителями восстановленного казачьего войска, первыми его организаторами и военачальниками»4. В образах этих атаманов он подчеркивает важнейшие категории казачьей системы ценностей – отвагу, преданность воинской службе, масштаб поступков, самопожертвование. В тексте исторической справки прослеживается и такое качество культурного героя, которое современный историк О.В. Матвеев обозначил как организацию единения, – санкционирующее право на занимаемую территорию (Матвеев, 2008: 61). Не отходит И.И. Дмитренко и от общепринятой версии, в которой ключевая роль в получении жалованной грамоты отводится А.А. Голова-тому. Как отмечает историк Б.Е. Фролов, войсковой судья не мог вести прямые переговоры с императрицей (Фролов, 2005: 10), однако народная легенда оказалась весьма популярной в массовом сознании. Ее мы встречаем на страницах полковых историй и памяток, где говорится о том, что через А.А. Головатого государыня передала казакам не только Высочайшую грамоту, новое белое знамя, две серебряные трубы, две литавры и печать, но и хлеб с солью на золотом блюде с такой же солонкой5. Еще более красочно представлена встреча главы войсковой делегации с Екатериной II в «Истории Кубанского казачьего войска» дореволюционного кубанского историка Ф.А. Щербины, который заключает, что именно А.А. Головатый, обладающий «самообладанием и умением оратора», добыл черноморцам землю на Кубани (Щербина, 1910: 524).
Историческая справка И.И. Дмитренко сопровождалась воззванием о подписке, в котором было указано, что инициатором последней выступил общественный сбор станицы Таманской под председательством атамана В.И. Толстопята, ассигновав со своей стороны 500 рублей. Открытие подписки в 1894 г. было приурочено к 100-летию со дня основания церкви во имя Покрова
Пресвятой Богородицы, «в которой верные казаки могли излить свои мольбы Подателю всех благ и от всей благодарной души молиться о здравии и благоденствии Матери-Царицы, давшей верным казакам новую землю и возможность в течение трех четвертей века доказывать, что они никогда не щадят живота своего на защиту Веры, Царя и Отечества»1. В тексте воззвания акцентируется внимание, что на возведение памятника было получено Высочайшее одобрение. А дальше следовал призыв каждому внести посильную лепту в увековечивание знаменательного события высадки черноморцев в 1792 г. на дарованную землю. «Как бы ни был мал взнос каждого на исполнение общего нам желания, – отмечалось в воззвании, – но все они в общей сложности могут дать сумму, вполне достаточную для устройства памятника»2. Как видим, И.И. Дмитренко грамотно выстраивает текст и использует формулировки, в которых зафиксированы опорные корпоративные ценности казачества – товарищество, ответственность, преемственность поколений, уважение к истории своей малой родины, чувство долга перед верой, царем и Отчизной.
5 августа 1897 г., составляя атаману Кавказских казачьих войск, генерал-адъютанту Г.С. Голицыну рапорт с исторической справкой о высадке первых черноморских казаков на Таманском полуострове, наказной атаман Кубанского казачьего войска, генерал-лейтенант Я.Д. Ма-лама изложил порядок сбора и хранения денежных средств, пожертвованных на сооружение памятника. Собранные суммы станичные атаманы должны были отправлять в Войсковой штаб, далее – на текущий счет в Екатеринодарское отделение Государственного банка с объявлением каждый раз в «Кубанских областных ведомостях» от кого поступили деньги и в каком размере3. 12 сентября 1897 г. из штаба Кавказского военного округа пришло одобрение процедуры подписки, а также текстов исторической справки и воззвания о сборе пожертвований.
В 1897 г. начался поиск идей по поводу облика памятника. С этой целью были отправлены письма почетным лицам с просьбой изложить свои соображения относительно внешнего вида монумента и его символического наполнения. В список адресатов попали генерал-майор И.И. Мазан, полковники П.П. Бурсак, А.Е. Кухаренко, В.С. Скакун, М.П. Бабыч и Л.Я. Вербицкий, войсковые старшины Ф.В. Соляник-Красса и М.И. Посполитаки, надворный советник П.С. Косолап, сотник В.И. Толстопят, хорунжий Е.И. Посполитаки4. Из 11 человек ответ был получен от двух – генерал-майора, атамана Екатеринодарского отдела Ивана Ивановича Мазана и есаула, художника, преподавателя правописания и каллиграфии в Кубанском Мариинском женском училище Петра Сысоевича Косолапа.
Первый предложил поставить на четырехугольный пьедестал «запорожца с непокрытой головой, несущего в обеих руках блюдо и на нем хлеб, соль и грамоту», дарованные императрицей Екатериной II на пожалованную землю и новоселье. Четыре стороны пьедестала должна были украсить песня «Ой, годи ж нам журытыся», барельеф, изображающий море и берег Тамани, чертеж подаренной земли, год, месяц и число прибытия запорожцев5. В случае высокой стоимости памятника И.И. Мазан предлагал поставить обелиск наподобие тому, который был открыт в Екатеринодаре в память 200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска.
Потомственный казак П.С. Косолап в своей записке рекомендовал на постаменте разместить бронзовую фигуру «типичного запорожского казака во всем боевом вооружении того времени, выходящего из лодки, ступивши одной ногой на берег, другая же еще находится на борту лодки; в одной руке держит знамя екатериновских времен, а другая рука должна лежать на груди, изображая этим благодарность Богу; при этом голова и глаза немного приподняты вверх»6. Лодку должны были украшать пушка, якорь, канат и бандура, «которая была постоянной спутницей казаков и служила им утешением в печалях, радостях и весельях»7. Для отражения особенностей местности П.С. Косолап предлагал к постаменту в виде полуострова Фанагория добавить разбитую колонну в коринфском стиле. В память о доблестном участии черноморских казаков в войне против Турции в нижней части постамента рекомендовалось поместить сломанное турецкое знамя и пушку без лафета. Среди надписей значились «Тамань», «1792 год. 25 августа», тексты грамоты Екатерины II и донесения полковника Саввы Белого войсковому судье Антону Головатому о благополучном прибытии флотилии к таманскому берегу. Вся эта скульптурная композиция должна была стоять на гранитном пьедестале в окружении старинных пушек, соединенных цепями.
Как видим, в отличие от проекта И.И. Мазана, где акцент был сделан на преклонении перед Екатериной II и ее решением, П.С. Косолап предпочел отразить в памятнике героизацию подвига самих черноморцев, вступивших с Божьей помощью на землю, дарованную им за военные заслуги и доблесть. Эта идея больше понравилась свободолюбивому казачеству, и к ее реализации приступили после того, как в приказе Кубанскому казачьему войску от 28 октября 1898 г. было объявлено о начале подписки на создание памятника. Войсковой штаб разослал 523 подписных листа во все станицы, хутора, войсковые учреждения, строевые части, льготные полки и батальоны1.
Ни И.И. Мазан (ум. в 1901), ни П.С. Косолап (ум. в 1910) не увидели открытия памятника, поскольку сбор средств и само создание монумента заняли много времени. По подсчетам областного архитектора, воплощение в жизнь проекта П.С. Косолапа должно было обойтись в 15 тыс. руб., что, по мнению наказного атамана Я.Д. Маламы, было слишком большой суммой. Побывав в 1901 г. на Кавказской юбилейной выставке сельского хозяйства и промышленности в Тифлисе, он решил обратиться к владельцу Паровой фабрики цементных и мозаичных изделий в Батуми Н.С. Фандееву с предложением изготовить монумент из более дешевого бетона. С 1901 по 1902 гг. велась переписка между Кубанским областным правлением и Н.С. Фандеевым2, в результате которой стоимость изготовления памятника удалось снизить с 5 до 2,5 тыс. руб. Поскольку к 1902 г. общественностью было собрано 2 583 руб. 95 коп., Войсковой штаб рекомендовал сделать заказ на батумской фабрике. В последних письмах Н.С. Фандеев просил доставить ему для образца одежду и вооружение казака, а также приблизительный эскиз памятника художника П.С. Косолапа. Была составлена и окончательная смета на 2 570 руб., из которых 70 руб. должны были уйти на оплату составления проекта. Велись ли дальнейшие переговоры с Н.С. Фандеевым – неизвестно, но уже в 1903 г. войсковой штаб поручил продолжить работу по детальной разработке памятника запорожцам художнику-скульптору Б.В. Эдуардсу, трудившемуся в это время над монументом Екатерине II в кубанской столице.
Позже, описывая историю создания памятника, есаул К.П. Гаденко отмечал, что отказ от сооружения монумента из осколков кирпича и песка был правильным решением, поскольку недолговечный бетон через несколько десятков лет превратил бы скульптурную фигуру предкам в «ка зна що» с отбитым носом и руками3. Перед казаками же стояла задача увековечить память отцов и дедов в достойном памятнике, который «будет служить наглядным напоминанием потомкам на многие и многие годы о славных делах далекого прошлого»4.
В начале 1904 г. Б.В. Эдуардс подготовил смету по будущему памятнику, стоимость которого с оградой достигла 24 195 руб. 30 коп. Тогда же он был персонифицирован, и запорожец получил имя конкретной исторической личности – Антона Андреевича Головатого. В пояснительной записке к проекту памятника Б.В. Эдуардс аргументировал высокую сумму за работу тем, что «памятник сооружается лицами, получившими место в истории страны благодаря своей деятельности и благородным заслугам перед обществом и государством. Очевидно, что общество, сооружая памятник такому выдающемуся сочлену, желает, чтобы это сооружение было назидательно для многих грядущих поколений, следовательно, он должен быть исполнен из таких материалов, которые могли бы простоять столетия…»5. Однако при наличии всего 2,5 тыс. руб. наказной атаман Я.Д. Малама не мог поручить скульптору приступить к работе, и переговоры с Б.В. Эдуардсом были временно приостановлены.
Дело сдвинулось с места после того, как во главе Кубанского казачьего войска стали активные руководители – генерал-майор, начальник войскового штаба Андрей Иванович Кияшко (с 1907 г.) и генерал-лейтенант, наказной атаман Михаил Павлович Бабыч (с 1908 г.). Потомственные казаки, радеющие за сохранение исторической памяти и развитие культуры в Кубанской области, в 1908 г. они возобновили подписку на сооружение памятника, взывая к сочувствию кубанцев к «этому признательному нашему чисто казачьему делу»6. В рапорте наказному атаману Кавказского казачьего войска М.П. Бабыч и А.И. Кияшко отмечали, что доведение до конца задуманного «необходимо как в благодарность нашим предкам, трудами коми мы пользуемся, так равно и в назидание последующим поколениям», а скромные пожертвования по подписке 1898 г. объяснялись тем, что в течение последующего десятилетия общественности не напоминали о продолжении сбора денежных средств7. Памятник должен был воплотить в себе образ Антона Головатого, «благодаря трудам и энергии коего последующие поколения запорожцев пользуются щедрым даром милостивой царицы»1. Предполагалось, что надпись на барельефе будет содержать благодарность первым запорожцам, прибывшим на Таманский полуостров, от казаков Кубанского казачьего войска, а песня А. Головатого считалась обязательной к размещению на пьедестале, поскольку имела «глубокий исторический смысл, так как он исчерпан из Высочайшей грамоты, пожалованной Черноморскому войску 30 июля 1792 г.»2.
Обращение М.П. Бабыча к землякам и открытие новой подписки дало результат. Пожертвования стали поступать от станиц, строевых частей и отдельных лиц Кубанского казачьего войска; к августу 1909 г. собранная сумма достигла 12 996 руб. 49 коп. В 1910 г. в своем подробном докладе атаману Кубанского казачьего войска генерал-майор А.И. Кияшко отмечал, что приказ от 1908 г. о возобновлении подписки оправдал предположение, «что сердце кубанца всегда отзывчиво к благожелательному делу, и если оно и молчало до сего времени, то только лишь потому, что к нему не обратились и его не затронули»3. За два с небольшим года войсковой штаб собрал более 20 тыс. руб., и итоговая сумма составила 24 147 руб. 82 коп., которая, по мнению А.И. Кияшко, указывала на то, «что задуманное дело любо казачьему сердцу и пользуется его сочувствием»4.
Параллельно администрация войска вела политику по снижению стоимости памятника. Вначале она давала положительные результаты, о чем свидетельствуют сметы Б.В. Эдуардса5. С 24 195 руб. 30 коп. в 1904 г. стоимость сооружения памятника упала до 22 750 руб. 15 коп. в 1908 г., а затем – до 18 304 руб. 31 коп. в 1909 г. Однако после посещения Б.В. Эдуардсом станицы Таманской 5 июля 1909 г. смета опять начала расти, достигнув 22 845 руб. 56 коп. Поскольку указанная сумма была собрана войском, проект памятника был отправлен на рассмотрение в Императорскую академию художеств. Получив замечания от А.И. фон Гогена и пересчитав смету с учетом их устранения, Б.В. Эдуардс запросил уже 35 229 руб. 3 коп. Несмотря на то, что Кубанское областное правление утвердило проект памятника, скорректировав сумму до 31 754 руб. 32 коп., инженерный комитет Главного инженерного управления посчитал сумму необоснованно завышенной и рекомендовал проект «сдать по конкуренции между несколькими фирмами»6. Опасаясь единолично принимать решение об отказе от услуг известного и опытного скульптора, А.И. Кияшко предложил М.П. Бабычу учредить строительный комитет памятника, который и появился в 1910 г.
В том же году Войсковой штаб окончательно определился с местом под установку мемориала в станице Таманской. Поиски велись с 1901 г., и уже в начале 1902 г. старший помощник атамана Темрюкского отдела Кубанской области, войсковой старшина П.С. Рубан докладывал в Войсковой штаб войска, что лучшим и удобным местом для памятника будет сквер, напротив которого находились две пристани, «привлекавшие к себе ежедневно до обеда, ко времени прибытия пароходов, разнообразных жителей, в том числе и приезжий торговый люд, а после обеда те же пристани служили местом гулянья для значительной части местной и приезжей для морских купаний публики»7. Расположение сквера рядом с Вознесенской церковью дало бы возможность проводить станичные праздники и парады вблизи войскового памятника, а поездка по улице возле сквера, являющейся ключевой в маршруте между окрестными населенными пунктами через Таманскую в Керчь, позволила бы, как отмечал П.С. Рубан, «пропагандировать известность» монумента для жителей и гостей Таманского полуострова8. Приговор станичного сбора от 14 мая 1902 г. постановил отвести сквер под установку памятника9. В 1910 г., желая сохранить обзор к монументу открытым, войско приобрело за 1600 р. плановое место у сына губернского секретаря Г.А. Афанасьева, за что приговор станичного сбора Таманской от 3 октября 1910 г. благодарил «Кошеваго Батька генерал-лейтенанта Михаила Павловича Бабыча» и передавал это место Кубанскому казачьему войску «в полное его распоряжение и на вечные вре-мена»10. По той же причине член строительного комитета И.П. Высочин уступил и свою часть плана, которая находилась на территории сквера, но уже на безвозмездной основе.
В 1910 г. было принято еще одно важное решение. Наказной атаман Кубанского казачьего войска доложил начальнику штаба Кавказского военного округа, что поставленная на пьедестал фигура «будет изображать собой не Антона Головатого, а запорожца со знаменем, радостно вступившего на твердыню каменистого и пустынного берега Фанагории, после долгого странствования на утлых челноках по бурному Черному морю»1. Объяснялось это желанием сохранить историческую правду, поскольку первая партия переселенцев высадилась на Таманском полуострове под начальством полковника Саввы Белого»2 (правда, в документе была допущена ошибка, и вместо Саввы был указан Сидор Белый). В изданной в 1911 г. работе «Кубанский памятник запорожским казакам» ее автор, секретарь строительного комитета, есаул К.П. Гаденко пояснял, что в изображении рядового «братчика»-запорожца заложена глубокая мысль, отсылающая к уникальному укладу и управлению казаков, основанном на равенстве и братстве3. Тем не менее образ войскового судьи А.А. Го-ловатого, который в сознании населения был «главным ходатаем запорожцев перед императрицей Екатериной II о пожаловании черноморских земель», благодаря особым стараниям которого «означенное пожалование и состоялось», также был зафиксирован в мемориале через размещение на задней стороне пьедестала «знаменательно исторической песни атамана Головатого»4.
Затянувшиеся на несколько лет переговоры с Б.В. Эдуардсом завершились письмом А.И. Кияшко в марте 1911 г., в котором художнику сообщалось, что строительный комитет отказал ему в продолжении работы над памятником в связи с невозможностью ее окончания в текущем году из-за чрезмерно высокой сметы. Маститый художник эмоционально отреагировал на это решение, написав письмо председателю Комитета по сооружению памятника в станице Таманской Кубанской области. В нем Б.В. Эдуардс отметил, что Императорская академия художеств возложила исполнение утвержденного проекта именно на него, о чем была договоренность и с двумя атаманами – Я.Д. Маламой и М.П. Бабычем. Передачу художественных моделей и бронз другому лицу он считал нарушением авторского права, а решение комитета – кровной обидой5.
Однако работы по сооружению монумента все же были поручены другому скульптору – эстонскому самородку, академику Петербургской академии художеств Аманду Ивановичу Адамсону. Далекий от казачьего духа, он был выбран по трем прагматичным причинам. Во-первых, А.И. Адамсон был уже признанным и востребованным мастером, в копилке работ которого были следующие: памятник броненосцу «Русалка» (1902, Ревель), скульптурная композиция «В память кораблям, затопленным в 1854–1855 гг. для заграждения входа на рейд» (1905, Севастополь), скульптура «Мисхорская русалка» (1907, Мисхор), памятник Петру I (1909, Полтава) и др. Во-вторых, его кандидатуру рекомендовали авторитетные архитекторы И.К. Мальгерб и А.И. фон Гоген. Ну, и в-третьих, смета А.И. Адамсона была меньше, чем у Б.В. Эдуардса, и составила 23,5 тыс. руб.
Довольно быстро был создан макет монумента, получивший одобрение со стороны строительного комитета и правления Кубанского казачьего войска. Весной 1911 г. выдалась возможность представить творческую идею А.И. Адамсона российскому императору Николаю II. Казачья делегация во главе с атаманом М.П. Бабычем, будучи на торжествах в Петербурге, посвященных 100-летию Собственного Его Императорского Величества Конвоя, решила подарить государю модель памятника запорожцам, которую за 6 дней должен был изготовить скульптор. 17 мая кубанские и терские казаки предстали перед самодержцем и его семьей – наследником престола и великими княжнами. Кубанские делегаты в составе М.П. Бабыча, А.И. Кияшко, П.Н. Камянского, В.И. Толстопята, К.Т. Агирова и др. вручили Николаю II книги, посвященные истории и культуре кубанского казачества6. Затем государю была продемонстрирована модель памятника, представлен скульптор и зачитана краткая историческая справка «по сооружению Кубанским войском памятника своим доблестным предкам запорожцам».
Как отмечалось в проекте описания поездки кубанской делегации в Ливадию, Николай II «соизволил милостиво высказать полное одобрение, как по поводу идеи кубанцев почтить память своих незабвенных предков, так равно и в отношении весьма удачного осуществления этой идеи представленной моделью»1. Автор текста проекта есаул К.П. Гаденко отмечал, что воодушевленная отзывом «своего Державного Вождя» казачья делегация решила преподнести ему реалистичную модель монумента как знак «первого идейного, а вместе с тем и признательного дела в отношении наших дивных предков-запорожцев, давших нам не только жизнь, но и добывших нам своею кровью и потом теперешнее наше благополучие»2. На фабрике К.Ф. Верфеля под непосредственным наблюдением А.И. Адамсона была создана точная копия памятника запорожцам, изготовленная из патинированной бронзы и красного камня высотою более одного аршина (более 70 см) и весом около 6 пудов (около 98 кг). Разрешение на прием делегации императором было получено в конце октября 1911 г., когда в станице Таманской уже стоял памятник казакам-запорожцам.
Долгожданное открытие мемориала первым казачьим переселенцам состоялось в день тезоименитства Августейшего атамана и войскового праздника – 5 октября 1911 г. По этому случаю накануне в Таманскую станицу прибыли наказной атаман М.П. Бабыч и архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор. На торжественном мероприятии, согласно сохранившемуся списку почетных гостей, присутствовали представители Кубанского казачьего войска и духовенства, общественные и культурные деятели3.
Церемониал открытия памятника был наполнен символическим смыслами и демонстрировал тесную историческую связь казачества с православием как основополагающей духовной ценностью. Именно поэтому мероприятие началось со всенощной службы в Покровской церкви, откуда вынесли казачьи регалии, которые, по выражению собирателя кубанской старины В.И. Лихоносова, «из рода в род освящали славу казачью» (Лихоносов, 1989: 82). Затем в церкви Вознесения Господня прошла торжественная литургия, после окончания которой участники мероприятия под звуки народного гимна «Коль славен наш Господь в Сионе» прошествовали к памятнику запорожцам.
Освятив монумент, архиепископ Агафодор обратился к присутствующим казакам с благодарственной и в то же время наставнической речью. Он напомнил о трудностях жизни первых поселенцев на Кубани, отметив, что «своею храбростью и своими дивными воинскими добрями, ныне хранимыми в памяти народной, они совершили великий исторический подвиг и оставили своим потомкам поучительный пример мужества и воинской отваги»4. Процветание края и града Екатеринодара он связал с трудолюбием казаков, сохранением обычаев, преданностью царю и Отечеству. В свей речи Агафодор заметил, что возведение памятника является лучшим примером увековечивания памяти о предках и их славных делах. Взывая к мирной и благочестивой жизни, архиепископ напомнил казакам и о мече, «который может еще понадобиться для защиты веры, православной Церкви и Отечества»5. В условиях нестабильной политической ситуации после революции 1905–1907 гг. подобное обращение к важнейшим духовным установкам казачества было актуально как никогда.
Официальная часть церемонии завершилась парадом воинских частей, которые отдали честь предкам, запечатленным в бронзе. Атаман Екатеринодарского отдела, полковник П.Н. Камянский позже отмечал: «Всем нам понравилась статная фигура казака-градчика, а особенно выражение его лица – гордо радостное; всей фигурой символизировалась уверенность, что, где теперь казак водрузил свое знамя, там его земля “на вики”, а с нею “не згине” и само казачество»6.
После окончания официальной церемонии состоялся праздничный обед, на котором подавали борщ с мясом, свиные котлеты и фрукты, а вечером следующего дня в станичном летнем театре показали пьесу талантливого драматурга Г.В. Доброскока «Казачьи прадеды»7. Завершилось празднество ночным салютом.
Практически через месяц, 1 ноября 1911 г. девять делегатов – наказной атаман, генерал-лейтенант М.П. Бабыч, начальник войскового штаба и председатель строительного комитета по сооружению памятника, генерал-майор А.И. Кияшко, секретарь комитета, есаул К.П. Гаденко, председатель Таманского отдела комитета, подъесаул В.И. Толстопят, академик А.И. Адамсон, станичные атаманы Е. Булах, К. Юхно, О. Назаренко и Е. Овсянник – предстали перед «Державным Вождем Великой Русской земли» в Ливадийском дворце. В своей речи наказной атаман произнес, что «верноподданное Кубанское казачье войско имеет высокое счастье с сыновьей любовью поднести Вашему Императорскому Величеству модель открытого 5 октября сего года в станице Таманской памятника своим доблестным рыцарям долга, “Первым запорожцам, высадившимся 25 августа 1792 года у Тамани при переселении на ныне занимаемую войском землю, всемилостивейше пожалованную блаженныя памяти императрицей Екатериной II”»1. Император поблагодарил кубанских казаков как за поднесенную модель, так и за верную службу, о чем М.П. Бабыч доложил в своей телеграмме войсковому наказному атаману Терского и Кубанского казачьих войск, генерал-адъютанту И.И. Воронцову-Дашкову.
Таким образом, памятник запорожцам-переселенцам в Тамани как пример реализации монументальной коммеморативной практики демонстрирует сложную многокомпонентную структуру исторической культуры кубанского казачества. В нее входят взаимосвязанные между собой элементы:
-
– ядро, которое включает в себя историческое событие или историческую личность;
-
– образно-символическое пространство вокруг него, состоящее из коллективных представлений о прошлом и групповых ценностных установок;
-
– акторы, выступающие в качестве субъектов и объектов коммеморативных практик;
-
– историческая контекстуальность, определяющая выбор и смысловое наполнение ядра;
-
– функции, выполняющие социальный и/или государственный заказ.
В случае с памятником запорожцам ядром является историческое событие – вступление первых черноморских казаков в свои владения на Таманском полуострове в 1792 г. В процессе комме-морации оно трансформировалось в символ, в котором был зафиксирован образ «отца-основателя». И, несмотря на решение строительного комитета увековечить образ рядового казака-переселенца, неформальное название памятника до сих пор связано с именем войскового судьи Антона Головатого, которому народная традиция приписывает исключительную роль в получении кубанских земель. На первом этапе (с 1894 г.) инициатором возведения монумента выступила казачья общественность при поддержке начальства войска. На втором (с 1908 г.) – образ преданных казаков оказался особенно востребован официальной властью. В условиях постреволюционной нестабильности монарху и православной церкви требовалась поддержка и защита со стороны казачества. И если казаки стремились увековечить в памятнике событие, закрепляющее пожалование им «на вечное владение» кубанской земли, то официальные власти рассматривали монумент как инструмент транслирования требуемых корпоративно-ценностных установок и социальной модели поведения казачества, направленной на служение Отечеству и государю.
Список литературы Памятник запорожцам-переселенцам в Тамани как отражение исторической культуры кубанского казачества
- Еремеева С.А. Каменные гости: монументальные памятники коммеморации // Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом. М., 2012. С. 499-532.
- Историческая культура белорусов и россиян: формирование представлений о национальном и общем прошлом (памяти профессора В.Е. Козлякова) / под ред. П.С. Крючека, О.В. Матвеева. Краснодар, 2023. 382 с.
- Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом / под ред. А.Н. Дмитриева. М., 2012. 551 с.
- История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. 768 с.
- Лихоносов В. Наш маленький Париж: ненаписанные воспоминания. Красноярск ; Краснодар, 2008. 558 с.
- Матвеев О.В. «Мы, сыны Кубани, должны вспомнить и помолиться…»: из жизни и историко-литературного наследия казачьего офицера // Отрадненские историко-краеведческие чтения. Армавир, 2023. С. 112-130.
- Матвеев О.В. Атаманы-основатели в исторической картине мира кубанского казачества // Культурная жизнь Юга России. 2008. № 2 (27). С. 61-62.
- Фролов Б.Е. Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань. Краснодар, 2005. 88 с.
- Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска : в 2 т. Краснодар, 1910. Т. 1. 736 с.