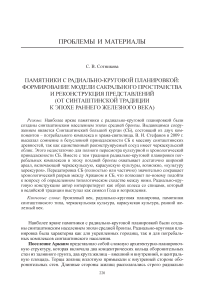Памятники с радиально-круговой планировкой: формирование модели сакрального пространства и реконструкция представлений (от синташтинской традиции к эпохе раннего железного века)
Автор: Сотникова С.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Проблемы и материалы
Статья в выпуске: 248, 2017 года.
Бесплатный доступ
Наиболее яркие памятники с радиально-круговой планировкой были созданы синташтинским населением эпохи средней бронзы. выдающимся сооружением является Синташтинский большой курган (СБ), состоящий из двух компонентов - погребального комплекса и храма-святилища. В. И. Стефанов в 2009 г.высказал сомнение в безусловной принадлежности СБ к массиву синташтинских древностей, так как единственный реконструируемый сосуд имеет черкаскульский облик. Этого недостаточно для полного пересмотра культурной и хронологическойпринадлежности СБ. вместе с тем традиция радиально-круговой планировки погребальных комплексов в эпоху поздней бронзы охватывает достаточно широкий ареал, включающий черкаскульскую, карасукскую культуры, возможно, «культуру херексуров». Передатировка СБ (полностью или частично) значительно сокращает хронологический разрыв между Аржаном и СБ, что позволяет по-новому подойти к вопросу об определенном типологическом сходстве между ними. Радиально-круговую конструкцию автор интерпретирует как образ колеса со спицами, который в ведийской традиции выступал как символ Года и возрождения.
Бронзовый век, радиально-круговая планировка, памятникисинташтинского типа, черкаскульская культура, карасукская культура, ранний железный век
Короткий адрес: https://sciup.org/143163945
IDR: 143163945
Текст научной статьи Памятники с радиально-круговой планировкой: формирование модели сакрального пространства и реконструкция представлений (от синташтинской традиции к эпохе раннего железного века)
Наиболее яркие памятники с радиально-круговой планировкой были созданы синташтинским населением эпохи средней бронзы. Радиально-круговая планировка была характерна как для укрепленных городищ, так и для погребальных комплексов синташтинского населения.
Поселение Аркаим представляло собой сложную архитектурно-планировочную структуру, которая включала два концентрических кольца оборонительных стен из заливного грунта, два круга жилищ – внешний и внутренний, и центральную площадь. Торцы жилищ вплотную примыкали к внутренней стороне оборонительных стен. Длинные стороны жилищ располагались строго радиально по отношению к дуге оборонительных укреплений, что придавало поселению четкую радиально-кольцевую планировку (Зданович Г., 1995. С. 24–27).
Укрепленное Синташтинское поселение (СП) значительно разрушено изменившимся руслом реки. В древности оно имело кольцо оборонительных сооружений, которые окружали сплошные кварталы крупных жилых построек. Исследователи предполагают, что Синташтинское поселение также имело радиально-круговую планировку ( Генинг и др. , 1992. С. 13).
Радиально-круговая конструкция нашла отражение в архитектурно-планировочном решении синташтинских погребальных сооружений.
Могильник Восточно-Курайли I (Актюбинская область Республики Казахстан). В могильнике исследован курган, планировка которого имеет радиальную структуру. Курган был окружен кольцевым рвом шириной до 2 и глубиной до 1 м. С внутренней стороны рва была выявлена каменная конструкция круглой формы, представлявшая собой кромлех из вертикально поставленных плит. Диаметр оградки составлял 12,5 м. В центре кургана располагалась могильная яма, окруженная внутренним кромлехом, сохранившимся только в юго-восточном секторе. Между двумя кромлехами зафиксировано пять радиальных выкладок-«лучей». Автор раскопок отмечает, что в плане каменная конструкция имела вид колеса, и считает, что она символизировала Солнце. Умерший, захороненный в центре радиально-круговой конструкции, сопровождался бронзовым теслом и двумя ножами, которые исследователь рассматривает как орудия для совершения жертвоприношений ( Ткачев , 1992. С. 158, 160–162).
Большекараганский могильник (Южный Урал). Погребальный комплекс синташтинского кургана 25 представлял собой круглое (диаметр около 19 м) могильное поле, окруженное широким и достаточно глубоким рвом. Ров был не сплошной, во многих местах между стенками рва имелись узкие, радиально ориентированные грунтовые перемычки. По мнению исследователей, ров прерывался 12 раз ( Зданович Д. , 1995. С. 45, 51).
Синташтинский большой курган (СБ) (Южный Урал). Наиболее грандиозным, но и «наиболее загадочным» погребальным сооружением с радиальнокруговой конструкцией является храм-святилище Синташтинского большого кургана. В составе кургана «представляется возможным выделить два составляющих компонента, различных по своей функции, – это погребальный комплекс, в котором основным было захоронение умершего вождя, и храм-святилище (выделено авторами. – С. С.) – когда над погребальным комплексом было возведено грандиозное сооружение, служившее местом совершения определенных обрядов, связанных с культом умерших, причем не только вождя» (Генинг и др., 1992. С. 360). Погребальный комплекс включал три объекта: собственно камеру из бревен, толос с погребальной платформой и подкурганную подсыпку. «По истечении некоторого времени…, когда погребальное сооружение утратило первоначальные очертания, на его площади был возведен храм-святилище, причем также не единовременно…» (Там же. С. 365). По завершении строительных работ сооружение приобрело вид ступенчатой усеченной пирамиды. Радиально расходящиеся деревянные клети образовывали 9 ярусов, храм имел высоту более 9 м. На поверхности площадок каждого яруса совершались обряды и разводились «священные огни», от которых сохранились прокалы. Наверху располагалась площадка, на которой был выложен бревенчатый накатник и сооружен круглый купол с основанием в 18 м. На вершине, возможно, было установлено «древо жизни» (Генинг и др., 1992. С. 367). Исследователи Синташтинского комплекса отнесли все сооружения большого кургана к синташтинскому времени.
В 2009 г. В. И. Стефанов, исходя из результатов анализа вещественных остатков из Большого Синташтинского кургана, полевой документации, данных из отчетов и опубликованных материалов, приходит к выводу, что заключение о безусловной принадлежности памятника СБ к массиву древностей синташтин-ской культуры представляется «по меньшей мере очень и очень сомнительным» ( Стефанов , 2009. С. 23). Исследователь обращает внимание на то, что единственный сосуд, форму и, отчасти, орнаментацию которого удалось восстановить, имеет черкаскульский или черкаскульско-федоровский облик. Более того, в отчете за 1973 г. о раскопках данного кургана В. Ф. Генинг предположил его связь с позднебронзовой черкаскульской культурой. Однако В. И. Стефанов считает, что, опираясь только на материалы раскопок 1972 и 1976 гг., «нельзя удовлетворительно обосновать и черкаскульскую принадлежность Большого кургана в целом... равно как и любую другую. К сожалению, таково качество источников» (Там же). В то же время он полагает, что поскольку памятник СБ состоит из двух различных по своей функции компонентов, то, рассматривая «их в качестве самостоятельных, отстоящих друг от друга во времени и не связанных между собой археологических объектов, возможно, мы найдем ключ к решению загадки Большого Синташтинского кургана. При этом нельзя утверждать, что образующие этот памятник компоненты… будут иметь отношение к синташтинскому культурно-хронологическому комплексу» (Там же. С. 24).
Значимым представляется утверждение о двух самостоятельных комплексах (погребальном и храме-святилище) Синташтинского большого кургана. Вопрос о том, связаны ли они друг с другом культурно и хронологически, пока носит спорный характер. В то же время культурно-хронологическое определение этого кургана как позднебронзового черкаскульского имеет дополнительное подтверждение. В период поздней бронзы в Южном Зауралье радиально-круговая планировка культовых сооружений встречается и на других черкаскульских памятниках. В черкаскульском кургане 5 могильника Приплодный Лог I под насыпью обнаружены две вписанные друг в друга ограды. Внешняя ограда подпрямоугольной формы (8,0 × 7,5 м) была ориентирована по сторонам света. Она сооружена из вертикально установленных камней. Внутренняя ограда отделена от внешней галереей шириной 2,0–0,7 м. Стены внутренней ограды сложены горизонтальной кладкой в два-три ряда. Ограда сохранилась отдельными участками. На кладку внутренней ограды опиралась шести- или семиугольная конструкция, сложенная из трех-четырех «венцов» бревен. Деревянная конструкция, вероятно, повторяла форму внутренней оградки. По мнению Т. С. Малютиной, конструкция имела вид усеченной пирамиды, высота которой вместе с каменным основанием составляла не менее 1,3–1,5 м. В центре сооружения располагалась яма в форме креста, ориентированного по странам света. Размеры камеры по осевым линиям – 3,3 и 3,5 м, ширина лопастей – 0,9–1,2 м, глубина – 0,75 м. Заполнение ямы составляли мощные слои угля и прокалы. На полу ямы обнаружено семь сосудов в разных отсеках. Все сосуды сильно обожжены. В западном отсеке на материковом выступе найдено несколько кальцинированных костей. На уровне погребенной почвы яма была перекрыта двумя рядами взаимно перпендикулярных бревен, концы которых опирались на торцовые стенки «креста». С восточной стороны в погребальную камеру вел коридорообразный вход шириной 1 м, он был обозначен каменной кладкой, которая соединяла стенки внутренней и внешней оград. Т. С. Малютина полагает, что наличие входа, его детальное и надежное оформление свидетельствуют о неоднократном посещении крестообразной камеры, что было связано, прежде всего, с отправлением культа огня. Огонь неоднократно горел как в самой камере, так и внутри полой пирамидальной конструкции. В конечном итоге вся конструкция погибла от огня (Малютина, 1984. С. 63, 64, 71, 72).
В период поздней бронзы радиально-круговая конструкция культовых сооружений встречается не только у черкаскульского населения Южного Урала, но и у карасукского Южной Сибири. Следует отметить, что в генезисе того и другого населения в качестве одного из компонентов принимало участие ан-дроновское (федоровское) население. В Хакасии радиально-круговая конструкция погребального сооружения прослежена на памятнике Анчил чон, который относится к карасукской культуре (XII–XI вв. до н. э.). Погребальный комплекс состоял из центральной круглой ограды диаметром 7,5 м, сооруженной из вертикально вкопанных плит, от которой радиально отходили восемь «лучей», образующих стенки других каменных оград. В центре вкопан каменный ящик, где было сооружено основное захоронение. Между вертикальными лучами, отходящими от центральной круглой ограды, в древности было произведено еще семь захоронений взрослых и детей в каменных ящиках. Характерной особенностью конструкций и погребений Анчил чона является их четкая ориентация на восход и заход солнца, Полярную звезду. Н. А. Боковенко, анализируя материалы этого памятника, пришел к выводу о возможной генетической связи с андроновской культурой и привел параллели с Аркаимом и Синташтой ( Боковенко , 1999).
В период поздней бронзы имелась еще одна область, где были представлены погребальные сооружения с радиально-круговой конструкцией. Это – Центральная Азия, где получили широкое распространение курганы-херексуры. Это своеобразные курганы с округлой каменной насыпью в центре, обнесенной кольцевой или квадратной оградой, соединенной с насыпью радиальными перемычками из камней. Подобные сооружения изучены на территории Монголии, Забайкалья, Алтая и Тувы. Ю. С. Худяков выделил самостоятельную «культуру херексуров и оленных камней» и отнес ее к периоду развитой бронзы ( Худяков , 1987). Большинство исследователей относят херексуры к периоду поздней бронзы. К. В. Чугунов отмечает, что «понятие “культура херексуров”, вероятно, включает множество родственных культурных образований, которые пока не могут быть дифференцированы внутри большой общности» ( Чугунов , 2002. С. 149). В статье, посвященной выяснению истоков традиции строительства херексуров, он сопоставляет их с Синташтинским курганом-храмом, с круглоплановыми городищами типа Синташты и Аркаима, с погребальным комплексом кургана 25 Большекараганского могильника, с курганом могильника Восточно-Курайли I. Он считает, что в основе концепции радиальных погребальных конструкций находится индоиранская модель мира, восходящая к синташтинскому населению.
В то же время исследователь отмечает, что андроновские памятники, генезис которых связан с синташтинским и несколько более поздним петровским населением, не столь ярко демонстрируют традицию радиальной планировки погребальных сооружений. Однако этот перерыв в развитии традиции строительства радиальных погребальных конструкций он объясняет тем, что «идеология индоиранских племен – носителей андроновской культуры – в своей основе не претерпела существенных изменений. Именно они в процессе своего расселения по степным просторам Евразии были проводниками традиций, фиксируемых на огромной территории» ( Чугунов , 2002. С. 144, 146). По его мнению, в пользу версии, что транслировались не идеи, а имела место миграция носителей определенных традиций, свидетельствует ряд фактов. Прежде всего, то, что в период поздней бронзы фиксируются находки андроновских (или андроноидных) вещей и керамики на территории Северного Китая. Кроме того, на могильнике Гумугоу (Синьцзян) выявлен протоевропеоидный антропологический комплекс II тыс. до н. э. и первоначально внутри него – даже андроновский компонент, коррелирующий с определенным типом погребальных конструкций в виде радиально расходящихся от могилы линий деревянных столбов. Появление колесниц в иньском Китае также связывают со степными культурами (Там же. С. 146, 147).
Д. Г. Савинов придерживается другой точки зрения, согласно которой в районах Центральной Азии, не затронутых андроновской экспансией, складывается особый (наряду со срубным и андроновским) «третий» мир культур эпохи бронзы. Для него в основном были характерны безынвентарные захоронения – херексуры и погребения монгун-тайгинского типа. В то же время население Центральной Азии, находившееся между двумя потоками движения андроновских племен, испытало определенное влияние с их стороны ( Савинов , 1994. С. 172).
В период раннего железного века традиция радиально-круговых погребальных конструкций нашла наиболее яркое воплощение в кургане Аржан. Д. Г. Савинов сравнивал деревянные конструкции Аржана с курганом-храмом в Синташте, представлявшим собой своеобразный «зиккурат». Он отмечает, что деревянная платформа Аржана – это как бы «спрессованная проекция» большого кургана-храма из Синташты. По мнению Д. Г. Савинова, это свидетельствует, с одной стороны, о преемственности между ними, с другой – о происшедшей трансформации культурной традиции. Возможно, это объясняет, почему абсолютное большинство камер-клетей на площади Аржана (кроме тех, в которых находились сопроводительные захоронения коней) оказались «пустыми»: строителями кургана они осмыслялись, в первую очередь, как семантически значимая конструктивная основа сооружения. Оленный камень из Аржана, найденный над камерой 34а внешнего яруса платформы, по условиям своего нахождения соответствует столбам, обнаруженным на площадках ярусов кургана-храма из Синташты. Сама идея ряда, характерная для расположения оленных камней, как обозначение пути в «верхний мир», в многоступенчатом варианте синташтинского храма пространственно отражена наиболее выразительно. «Во всем этом, – отмечает Д. Г. Савинов, – можно видеть проявление единого пласта мировоззрения и его наиболее значимых атрибутов» (Там же. С. 171, 172).
В то же время он отмечает, что памятники, материалы которых типологически предшествовали бы Аржану, в Центральной Азии неизвестны, а этносоциальная среда, «подготовившая» появление такого мегакомплекса, как Аржан, остается неопределенной. В русле решения этой проблемы он обращает внимание на достаточно четко выраженные элементы андроновской культурной традиции, представленные в обряде погребения и конструктивных особенностях кургана Аржан, связанных с ним погребениях шанчигского типа и алды-бельской культуры в Туве (наземные сооружения в виде цисты, юго-западная ориентировка, положение погребенных скорченно на левом или правом боку со сложенными перед лицом руками). Соответственно, он приходит к выводу, что традиция совершения «элитных» курганов была воспринята «древнейшими скифами» в определенном конструктивном решении и семантическом значении составляющих их компонентов от предшествующего индоиранского населения андроновской этнокультурной общности. Именно в этой среде происходили процессы социогенеза, «подготовившие» появление больших курганов в восточной части Евразийских степей. Для объяснения приведенных параллелей из памятников, имеющих значительный хронологический разрыв, он ссылается на то, что «культурные традиции дольше всего сохраняются в сфере идеологических представлений» ( Савинов , 1994. С. 170, 173, 174).
Передатировка Синташтинского большого кургана и отнесение его (полностью или частично) к эпохе поздней бронзы, к черкаскульской культуре, переводит проблему значительного типологического сходства между Аржаном и Синташтин-ским курганом-храмом в совершенно иную плоскость. Значительный хронологический разрыв между ними существенно сокращается. Отпадает необходимость объяснять сходство радиальной конструкции Аржана и Синташтинского большого кургана исключительно консервативностью идеологических представлений. Традиция радиально-круговой планировки погребальных комплексов в эпоху поздней бронзы предстает охватывающей достаточно широкий ареал, включающий черкаскульскую, карасукскую культуры, возможно, «культуру херексуров». Появляется возможность проследить некую культурную преемственность с анд-роновской, хотя, безусловно, этот вопрос требует дополнительного изучения.
В то же время следует согласиться с К. В. Чугуновым, что собственно анд-роновские памятники не столь ярко демонстрируют традицию радиальной планировки погребальных сооружений. Не исключено, что эта идея имела какие-то иные формы выражения. В алакульских могильниках традиция радиально-круговой планировки погребальных сооружений могла проявляться в планиграфи-ческом расположении могил под курганной насыпью. Представляют интерес наблюдения А. В. Матвеева над планиграфическим распределением погребений в многомогильных курганах алакульского Чистолебяжского могильника. Центральную часть подкурганной площадки занимала крупная гробница, на периферии по окружности располагались малые и, реже, большие могильные ямы. Головные части периферийных могильных ям были обращены, в большинстве случаев, по линии окружности в одну и ту же сторону – либо в направлении хода часовой стрелки (курганы 8, 10, 16, 17), либо против хода часовой стрелки (курганы 19, 21). По мнению А. В. Матвеева, многомогильные курганы сооружались по заранее определенному плану, и расположение основных структурных элементов – центральной гробницы и периферийных могил – было заранее предопределено. Половозрастной состав погребенных восстановить сложно из-за разграбленности могил, но не приходится сомневаться, что малые периферийные могилы предназначались для погребения детей, большие периферийные – для захоронения подростков, центральные содержали как захоронения взрослых, так и взрослых с детьми (Матвеев, 1998. С. 185–188, 222–237).
Памятники с радиально-круговой планировкой и реконструкция представлений
Многие исследователи сопоставляли круглоплановые городища типа Синта-шты и Аркаима с авестийской Варой ( Jettmar , 1981. Р. 226; Пьянков , 1999. С. 281; Медведев , 1999. С. 283–285; и др.). И. В. Пьянков высказал предположение, что такие памятники, как Аркаим, являлись культовыми объектами, посвященными Йиме / Яме. Он обратил внимание на такую деталь: в Аркаиме обнаружены следы металлургического производства. Известно, что металлургия у индоиранцев часто носила характер культового действа и ее возводили к Йиме, а кузнецы занимали высокое положение и были связаны с воинской кастой и с царской властью ( Пьянков , 1999. С. 281). Ю. И. Михайлов сравнивал с Варой курган-храм Синташтинского большого кургана ( Михайлов , 2000).
Для интерпретации конструкций с радиально-круговой планировкой несомненный интерес представляет второй фрагард Видевдата, где дается описание крепости, возведенной мифическим царем Йимой для спасения всего живого от грядущих катастроф – долгих зим со смертельными холодами и сильными снегопадами, наводнений от таяния снегов. Это описание содержит указания на конкретные черты сооружения, что позволило исследователям сравнивать его с различными археологическими объектами. В первых переводах «Авесты» Вара (Вар) описывалась как ограда «длиною в лошадиный бег по всем четырем сторонам» (Залеман, 1880. С. 179, 180. Цит. по: Авеста…, 1998. С. 83), поэтому в Варе видели квадратное в плане укрепление (Лелеков, 1976. С. 12–15; 1997а. С. 215 и т. д.). Л. Л. Гуревич обратил внимание на то, что схема «квадратной Вары» обнаруживает несоответствия с текстом Видевдата (Гуревич, 1983. С. 31). Для выяснения деталей И. М. Стеблиным-Каменским был выполнен новый перевод второго фрагарда (Авеста…, 1993. С. 176–180) и, соответственно, внесены уточнения в описание Вары (Вид. II. 33): «И вот Йима сделал Вар размером в бег на все четыре стороны и принес туда семя мелкого и крупного рогатого скота, людей, собак, птиц и красных горящих огней. И Йима сделал Вар размером в бег на все четыре стороны для жилья людей и размером в бег на все четыре стороны для помещения скота». Согласно примечаниям, сделанным И. М. Стеблиным-Каменским к уточненному переводу, Вар состоял из трех концентрических кругов стен. Бег (имеется в виду «лошадиный бег») – мера длины, равная двум хатрам, т. е. около двух тысяч шагов (Авеста…, 1993. С. 196, 197. Прим. 5, 6). Л. Л. Гуревич отмечает, что нет оснований утверждать, что сооружение было квадратным, так как «Йима сделал Вар размером в бег на все четыре стороны», т. е. ограда возводилась на постоянном удалении от центра и потому могла быть и ломаного контура, и круглой (Гуревич, 1983. С. 31). К этому следует добавить, что новый перевод в большей степени соответствует традициям мифологического мировоззрения, согласно которому творение пространства вообще, а тем более сакрального пространства, всегда происходит из центра.
Представления о Варе тесно связаны с культом Йимы / Ямы. Во втором фра-гарде, по мнению Л. А. Лелекова, нашла отражение глубочайшая индоиранская архаика. Йима здесь выступает как первопредок человечества, культурный герой, владыка мира в эпоху тысячелетнего золотого века. Важнейшее отличие второго фрагарда от остальных частей «Авесты» в том, что Йима здесь божество, демиург, а не простой смертный, место действия которого разворачивается на земле, среди людей ( Лелеков , 1979. С. 180, 181; 1997б. С. 599). В индийской мифологии ему соответствует Яма. Л. А. Лелеков неоднократно отмечал, что описание обители Ямы в одном из гимнов «Ригведы» (РВ IX. 113. 7–8) является определенным аналогом Вары ( Лелеков , 1976. С. 13–15; 1997а. С. 215). Яма – господин над Питарами – обожествляемыми умершими предками, пребывающими на небе. К Питарам относили первых, древних прародителей, проложивших путь, по которому следуют и недавно умершие ( Топоров , 1997. С. 316).
Для выяснения роли индоиранской крепости типа Вары, построенной первопредком Йимой / Ямой, значительный интерес представляет мифология кафиров Гиндукуша, в которой сохранились многие черты древних индоиранских верований. Йима / Имра был верховным божеством в пантеоне кафиров Гиндукуша. В мифологии кафиров сохранилось представление о божественной крепости, предназначенной, однако, не для богов, а для душ – вероятнее всего, для душ умерших. Эта крепость упоминается не в связи с Имрой, а в связи с женским божеством Дизани / Дисни. Но Дизани тесно связана с Имрой – она появилась на свет из правой стороны его груди. Дизани построила золотой замок с четырьмя углами и семью воротами. Согласно другому тексту, она воздвигла башню, от которой расходилось 7 улиц. По мнению К. Йеттмара, если сопоставить эти тексты, то можно реконструировать план центральной крепости и план окружающей ее территории с радиально расходящимися улицами К. Йеттмар сравнивал постройку Йимы с деревней кафиров Гиндукуша, в центре которой хранят останки предков и празднуют Навруз (Новый год), а также с сооружением эпохи бронзы Дашлы III в трех концентрических стенах и с курганом раннего железного века Аржан. Он считает комплексы такого рода церемониальными центрами для празднования Навруза ( Jettmar , 1981. Р. 223–227; Йеттмар , 1986. С. 191–193). В центральной ограде празднующие в экстатических песнях и танцах достигали состояния общения с душами предков ( Гуревич , 1983. С. 32).
Мнение К. Йеттмара о связи сооружений, имеющих радиально-круговую конструкцию, с празднованием Нового года имеет дополнительное подтверждение. В «Ригведе» содержится знаменитый «Гимн-загадка» (I, 64), который представляет собой собрание так называемых брахмодья ( brahmodya ) – аллегорий и загадок о происхождении Вселенной, о времени, о богах, человеческой жизни. Т. Я. Елизаренкова и В. Н. Топоров считают, что brahmodya по своему происхождению связаны с ритуалами, приуроченными к стыку старого и нового года, началу нового солнечного цикла и т. д. ( Елизаренкова, Топоров , 1997. С. 327). В этом гимне содержится ряд загадок о времени, как о годе (РВ I, 64.
11–13, 48), причем год загадывается через образ колеса со спицами (Ригведа…, 1999. С. 200–205, 646).
Примечательно, что в загадках о годе используется исключительно образ колеса со спицами, а не простого дисковидного колеса. Более того, количество спиц в колесе имеет самостоятельное семантическое значение. Ставится цель путем перечисления деталей колеса и их количества воссоздать не реальный образ, а космический символ.
Можно предположить, что укрепленные поселения типа Синташты и Аркаима, культовые сооружения типа храма-святилища Синташтинского большого кургана и кургана 5 могильника Приплодный Лог I являлись церемониальными центрами, которые соответствовали мифической крепости типа Вары. Они воспроизводили образ колеса со спицами, как символа Колеса Времени, равного Году, который должен был возродиться в новогоднем ритуале.
Вероятно, рассмотренные погребальные комплексы также воспроизводили образ колеса со спицами. Можно предположить, что такая конструкция надмогильного сооружения была связана с представлениями о возрождении жизни человека (вероятно, имевшего высокий социальный статус), подобно тому как происходило возрождение Времени в ходе новогоднего ритуала, проводимого в церемониальных центрах.
Список литературы Памятники с радиально-круговой планировкой: формирование модели сакрального пространства и реконструкция представлений (от синташтинской традиции к эпохе раннего железного века)
- Авеста в русских переводах (1861-1996)/Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И. В. Рака. 2-е изд., испр. СПб.: Журнал «Нева», Летний Сад, 1998. 480 с.
- Авеста: Избранные гимны; Из Видевдата/Пер. с авест., предисл, примеч. и словарь И. М. Стеблина-Каменского. М.: Дружба народов: КРАМАС -Ахмед Ясови, 1993. 207 с.
- Боковенко Н. А., 1999. Новые памятники радиальной конструкции эпохи поздней бронзы в Центральной Азии//Комплексные общества Центральной Азии в III-I тыс. до н. э.: региональные особенности в свете универсальных моделей: материалы к конф./Ред.: Д. Г. Зданович, Н. О. Иванова, И. В. Предеина. Челябинск: Челябинский гос. ун-т. С. 175-176.
- Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В., 1992. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во. 408 с.
- Гуревич Л. Л., 1983. Авестийская «Вара» (О взаимоотношениях мифопоэтического образа и формы сооружения)//Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке: тез. докл конф., посвящ. 10-летию Южно-Таджикистанской археол. экспедиции/Ред. Б. А. Литвинский. М.: Наука. С. 31-32.
- Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н., 1997. О ведийской загадке типа brahmodya//Из работ московского семиотического круга/Сост. Т. М. Николаева. М.: Языки русской культуры. С. 303-338.
- Зданович Г. Б., 1995. Аркаим. Арии на Урале или несостоявшаяся цивилизация//Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия/Под ред. Г. Б. Здановича. Челябинск: Каменный пояс. С. 21-42.
- Зданович Д. Г., 1995. Могильник Большекараганский (Аркаим) и мир древних индоевропейцев Урало-Казахстанских степей//Аркаим: исследования. Поиски. Открытия/Под ред. Г. Б. Здановича. Челябинск: Каменный пояс. С. 43-53.
- Йеттмар К., 1986. Религии Гиндукуша. М.: Восточная литература. 524 с.
- Лелеков Л. А., 1976. Отражение некоторых мифологических воззрений в архитектуре восточноиранских народов в первой половине I тыс. до н. э.//История и культура народов Средней Азии (Древность и средние века)/Ред.: Б. Г. Гафуров, Б. А. Литвинский. М.: Наука. С. 7-18.
- Лелеков Л. А., 1979. Ранние формы иранского эпоса//НАА. № 3. С. 173-188.
- Лелеков Л. А., 1997а. Вара//Мифы народов мира. Т. 1/Глав. ред. С. А. Токарев. М.: Российская энциклопедия. С. 215.
- Лелеков Л. А., 1997б. Йима//Мифы народов мира. Т. 1/Глав. ред. С. А. Токарев. М.: Российская энциклопедия. С. 599.
- Малютина Т. С., 1984. Могильник Приплодный Лог 1//Бронзовый век Урало-Иртышского междуречья/Отв. ред. С. Я. Зданович. Челябинск: Башкирский ун-т. С. 58-79.
- Матвеев А. В., 1998. Первые андроновцы в лесах Зауралья. Новосибирск: Наука. 417 с.
- Медведев А. П., 1999. Авестийский «Город Йимы» в историко-археологической перспективе//Комплексные общества Центральной Азии в III-I тыс. до н. э.: региональные особенности в свете универсальных моделей: материалы к конф./Ред.: Д. Г. Зданович, Н. О. Иванова, И. В. Предеина. Челябинск: Челябинский гос. ун-т. С. 283-287.
- Михайлов Ю. И., 2000. Авестийская Вара и архитектурная композиция Большого Синташтинского кургана//Пятые исторические чтения памяти М. П. Грязнова/Ред. В. И. Матющенко. Омск: Омский гос. ун-т. С. 90-92.
- Пьянков И. В., 1999. Аркаим и индоиранская вара//Комплексные общества Центральной Азии в III-I тыс. до н. э.: региональные особенности в свете универсальных моделей: материалы к конф./Ред.: Д. Г. Зданович, Н. О. Иванова, И. В. Предеина. Челябинск: Челябинский гос. ун-т. С. 280-283.
- Ригведа. Мандалы I-IV/Пер., коммент. Т. Я. Елизаренковой. М.: Наука, 1999. 767 с.
- Савинов Д. Г., 1994. Синташта и Аржан//Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху: материалы заседаний «круглого стола» (22-24 декабря 1994 г., Санкт-Петербург)/Ред. А. Ю. Алексеев и др. СПб: Фонд фундаментальных исследований РАН. С. 170-175. (Археологические изыскания; вып. 18.)
- Стефанов В. И., 2009. О культурной принадлежности Большого Синташтинского кургана//РА. № 1. С. 18-24.
- Ткачев В. В., 1992. Погребение жреца в Актюбинской области (к вопросу о социальной структуре арийского общества)//Древняя история населения Волго-Уральских степей/Отв. ред. А. Т. Синюк. Оренбург: Оренбургский пед. ин-т. С. 156-165.
- Топоров В. Н., 1997. Питары//Мифы народов мира. Т. 2/Глав. ред. С. А. Токарев. М.: Российская энциклопедия. С. 316.
- Худяков Ю. С., 1987. Херексуры и оленные камни//Археология, этнография и антропология Монголии/Отв. ред.: А. П. Деревянко, Ш. Нацагдорж. Новосибирск: Наука. С. 136-162.
- Чугунов К. В., 2002. Херексуры Центральной Азии (к вопросу об истоках традиции)//Северная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура/Отв. ред.: Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 142-149.
- Jettmar K., 1981. Fortified «Ceremonial Centres» of the Indo-Iranians//Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности/Ред. М. С. Асимов и др. М.: Наука. С. 220-229.