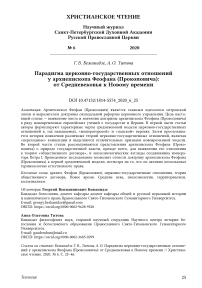Парадигма церковно-государственных отношений у архиепископа Феофана (Прокоповича): от Средневековья к Новому времени
Автор: Бежанидзе Георгий Вениаминович, Титова Анна Олеговна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 6 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
Архиепископ Феофан (Прокопович) является главным идеологом петровской эпохи и выразителем доктрины синодальной реформы церковного управления. Цель настоящей статьи - выявление места и значения доктрины архиепископа Феофана (Прокоповича) в ряду нововременных европейских учений о государстве и Церкви. В первой части статьи авторы формулируют характерные черты средневековой модели церковно-государственных отношений в, так называемых, «императорской» и «папской» версиях. Затем прослеживается история появления различных теорий церковно-государственных отношений, включая «переходные» концепции и выделяются отличительные признаки нововременной модели. Во второй части статьи рассматриваются представления архиепископа Феофана (Прокоповича) о природе государственной власти, прежде всего, для выявления его отношения к теории «общественного договора», и экклезиологические взгляды сподвижника императора Петра I. Проведенное исследование позволяет отнести доктрину архиепископа Феофана (Прокоповича) к первой средневековой модели, несмотря на то, что он активно использовал терминологию естественного права.
Архиеп. феофан (прокопович), церковно-государственные отношения, теория общественного договора, новое время, средние века, экклезиология, территориализм, коллегиализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140250835
IDR: 140250835 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_6_25
Текст научной статьи Парадигма церковно-государственных отношений у архиепископа Феофана (Прокоповича): от Средневековья к Новому времени
Anna Olegovna Titova
Candidate of Philosophy, Senior Researcher at the Scienti^c Center for the History of ^eology and ^eological Education at St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities.
Переход от Средневековья к Новому времени характеризуется не только кардинальными изменениями в религиозной, социальной, культурной и экономической жизни Европы, но и возникновением национальных государств с принципиально новой идеологией.
Появляется юридическая доктрина государственного суверенитета и концепция общественного договора, отрицающая Божественное происхождение государства и власти. Средневековое понимание церковно-государственного единства уходит в прошлое: Церковь и государство начинают восприниматься как два отдельных института с разными целями.
Московское царство, конечно, не могло быть свободно от европейского влияния, резко усилившегося в петровскую эпоху. Однако в какой степени указанные идеи были восприняты на Руси? Этот вопрос важен не только для понимания изменений, происходивших в России, но и для более полного осмысления процессов, которые определяли переход Европы от Средневековья к Новому времени.
Архиепископ Феофан (Прокопович) по праву считается главным идеологом петровской эпохи и выразителем доктрины синодальной реформы церковного управления. Парадигма церковно-государственных отношений, которую он выстраивает, неоднократно привлекала внимание историков и богословов. Некоторые исследователи фокусировали свое внимание на отдельных заимствованиях архиеп. Феофана у теоретиков естественного права, которые этот сподвижник Петра так или иначе использовал в своей аргументации [Карташев, 1959, 341].
Такой подход, однако, оказался непродуктивным, ибо не удалось доказать, что архиеп. Феофан является последователем теории общественного договора. Уже Георгий Гурвич пришел к однозначному выводу о том, что, «не восприняв у своих западноевропейских образцов теории общественного договора, автор „Правды“ тем самым оставил место в своей доктрине для теократической идеи» [Гурвич, 1915, 76]. Выводы Гурвича о значимости богословской аргументации для архиеп. Феофана (Прокоповича) были подтверждены последующими исследователями1.
Иной методологический подход был предложен П. В. Верховским. Верховской указывал, что отличие ситуации Нового времени от средневекового миропорядка определялось сразу несколькими факторами, которые в совокупности обусловили переход к иной модели церковно-государственных отношений2. Но сам П. В. Верховской, похоже, отказался последовательно следовать намеченной схеме, вследствие чего нередко допускал противоречивые высказывания. Так, например, он утверждал, что «так же, как все его предшественники, и все вообще монархи, Петр считал себя обладающим властью Божьей милостью, а не волею народною», и в то же время «как государь христианский, т. е. европейский, Петр принимал ту же теорию происхождения и сущности своей власти, которая господствовала тогда в Европе, т. е. теорию абсолютной монархии, основанной на договоре» [Верховской, 1916, Т. 1, 87, 184]. Более цельными представляются труды Роберта Штуппериха и Ханса Хертеля, которые, полемизируя с Верховским, пришли к выводу, что взгляды архиеп. Феофана (Прокоповича) о соотношении между государством и Церковью опираются более на византийский, чем на западный пример [Stupperich, 1936, 70–87; Härtel, 1970, 84–95]. К схожему выводу пришла в своей диссертации О. В. Несмиянова. «Светский государь Феофана Прокоповича ближе к традиционному византийскому василевсу (подчеркнем, речь идет только о его отношении к Церкви), чем к абсолютному монарху в теории естественного права», — утверждала петербургская исследовательница [Несмиянова, 1998, 130].
Даже, пожалуй, самый жесткий обличитель архиеп. Феофана (Прокоповича), прот. Г. Флоровский интуитивно нащупал неоднородный характер идеологии петровской эпохи, но по причине недостаточной проработки указанной проблематики и источников не смог сделать обоснованных выводов [Флоровский, 84–105]3. Показательно, что прот. Г. Флоровский назвал характер церковно-государственных отношений в эпоху Петра «неким „цезарепапизмом“ в духе Реформации», соединяя, таким образом, средневековую и нововременную модели [Флоровский, 2006, 90].
Эту двойственность в полной мере показали в своих работах Б. А. Успенский и В. М. Живов, утверждавшие, что в петровскую эпоху «византинизация не только уживается с европеизацией, но в том, что касается сакрализации царской власти, даже усиливается. В развивающемся культе монарха византиизация и европеизация переплетаются, образуя единое целое. Это переплетение восходит еще к допетровской эпохе» [Успенский, 1996, 228–229].
Итак, для раскрытия заданной в статье темы необходимо выделить так называемые средневековую и нововременную модели церковно-государственных отношений и сформулировать их характерные черты. А затем сопоставить с ними взгляды архиеп. Феофана (Прокоповича).
Средневековая модель, которую можно назвать regimen christianum, подразумевает существование единого христианского общества, организованного одновременно политически и церковно, управляемого, таким образом, мирской и духовной вла-стями4. Обозначим основные положения этой базовой модели5: и духовная и свет- ская власти являются Божественными установлениями; они имеют общую конечную цель — спасение6; предполагается религиозное единство христианского мира; действенное участие Бога в истории.
Неизбежное напряжение между двумя властями в рамках этого единства приводит и теоретически, и исторически к двум версиям этой модели, которые можно назвать, ввиду наиболее яркого момента полемики между ними, «папской» и «императорской».
«Императорская» версия также имеет множество отличающихся друг от друга авторских теорий и исторических примеров7, тем не менее можно выделить ряд общих положений:
-
1. Верховный светский правитель (король/император) получает свою власть непосредственно от Бога, находится с Ним в особых отношениях, выделяющих его из чисто профанной сферы, ответствен пред Ним за свое правление вверенным народом — что выражается в часто употребительных формулах «викарий Бога/Христа», «образ Бога/Христа», «коронованный Божьей милостью»8. При этом воля Бога относительно персоны правителя могла быть явлена как через наследственный принцип, так и через выбор знати.
-
2. Верховный правитель имеет задачу исправления нравов и воспитания вверенного ему народа, а также защиты и распространения христианской веры. Он таким образом участвует в душепопечении о своем народе9. Его власть имеет патерналистский характер10.
-
3. Исходя из первого, верховный светский правитель ответствен за внешнее устроение земной Церкви и имеет в ней определенные полномочия и статус. При этом нельзя говорить о его квазисвященническом статусе, т. к. его власть иной природы и не сакраментальна11. Наличие такого статуса и полномочий в Церкви противоречит ее строгой клерикализации и монархическому восприятию власти первоиерарха (прежде всего речь, конечно, о Католической Церкви и папе), поэтому неслучайно, что в эпоху исторического главенства папы приверженцы императорского лагеря в споре папы и светской власти одновременно были склонны к тем или иным епископальным течениям; а в эпоху исторического господства на Западе императорской версии модели regimen christianum превалировала экклезиологическая модель Церкви как собрания христиан, а не корпорации клириков.
«Папская» версия свое наиболее полное воплощение получила в Европе конца XI–XV вв., она является более однородной, хотя и в ее рамках есть крайние и более умеренные позиции. Она предполагает:
-
1. Монархическую власть папы в Церкви и клерикализацию Церкви12.
-
2. Духовная власть не только превосходит светскую по своему совершенству, но папа имеет прямую и/или косвенную политическую власть в мире, вплоть до инструментализации светской власти, которая получает свое высшее оправдание и легитимацию от своего служения Церкви13.
Соответственно, potestas iurisdictionis в Церкви принадлежит только папе и от него передается епископам, т. е. внешнее устроение земной Церкви принадлежит только духовной власти.
В исторической практике обе версии могли сосуществовать в различных соотношениях, как на Западе, так и на Востоке. Неограниченная, абсолютная монархическая власть (ряд исследователей для ее характеристики использует термин «цезарепа-пизм») могла иметь место в рамках средневековой модели и не является признаком ее замены нововременной моделью.
Таким образом, несмотря на различия в понимании существа духовной и светской власти, их полномочий, юрисдикций и соотношения, общим для обеих версий данной модели остается единая область управления — христианский мир (или земная Церковь в широком смысле, совпадающая с respublica christiana, populus christianus), и единая конечная цель, определяющая в конечном итоге обе власти, которые имеют единый Божественный источник и патерналистский характер, а защита Церкви признается в обеих вариантах важнейшей задачей светской власти.
К разрушению средневековой базовой модели отношений Церкви и государства привело множество сложных культурно-исторических процессов, часть которых объединяется понятием секуляризации, а также дополнительный ей процесс корпоративизации Церкви, начатый еще с григорианской реформы14, складывание национальных государств, развитие рационализма и права. Реформация, разрушив церковное единство западного христианства, стала катализатором уже существующих процессов и создала новые исторические условия, которые на первое место поставили проблему религиозного мира и религиозной толерантности, что оказало существеннейшее влияние и на отношения властей. Вторым важнейшим в рамках нашей темы фактором влияния стало складывание и быстрое распространение в политической мысли эпохи теории общественного договора. И третьим — развитие связанной, но не совпадающей с ней теории государственного суверенитета.
Разрушение конфессионального единства поставило целый ряд правовых проблем: статус князей-епископов, права светского князя по отношению к новообразовы-вающейся церковной организации, действенность канонического права, положение конфессий в империи и княжествах, соотношение теологического и политического определения ереси, веротерпимости. Эти проблемы должны были решаться на фоне главной насущной задачи времени — установления религиозного мира. Первые попытки решения данной проблемы оставили теологическое рассмотрение вопросов за скобками и носили скорее юридический характер [Heckel, 1968]15.
власть — духовной» (Mirbt, 372). Ср.: Фома Аквинский (который создал наиболее обоснованную и взвешенную теорию разделения светской и духовной властей, но тем не менее): «верховный священник, преемник Петра и наместник Христа, Римский понтифекс, которому все короли христианских народов должны повиноваться так же, как Самому нашему Господу Иисусу Христу» (О правлении государей, I, 14). Множество аналогий, рисующих превосходство духовной власти — тело и душа, луна и солнце, искусство делать уздечку и искусство верховой езды, — выражают разные смыслы этого превосходства: духовная власть дает смысл светской, находится ближе к Богу, властвует. Беллармин — сторонник косвенной власти папы: «Папа не имеет прямо и непосредственно никакой временной власти, но только духовную; тем не менее, по причине духовного авторитета, он косвенно обладает, по крайней мере, определенной высшей властью в мирских делах» [Tutino, 2010, 40]. Косвенно обладать властью папа может также по разным основаниям: ratione peccati; благодаря соподчиненности целей (когда «цель мирской власти некоторым образом зависит oт цели духовной власти»); или тому, что главная задача светской власти — способствовать процветанию Церкви; наконец, ввиду положения конечной инстанции в случае династического спора или чрезвычайного положения (см., например, прекрасный образец политико-правовой мысли позднего Средневековья: (Франсиско де Витория, 2014, 136–192)).
-
14 См. во многом спорную, но заслуживающую внимания статью о процессе корпоративизации Церкви, в которой автор отталкивается от двух типов обществ: сообщества (общежития) и корпорации (communal and corporate bodies): [Barshack, 2006].
-
15 Хекель показывает, как имперские юристы стараются уйти от теологической оценки ради сохранения мира и целостности империи, прежде всего в вопросах определения ереси,
Самой ранней подобной попыткой можно считать так называемую епископальную теорию 16, согласно которой на князя реформированной, вышедшей из-под юрисдикции Католической Церкви территории, как временная (до еще ожидаемого конфессионального воссоединения) мера переносится епископская potestas iurisdictionis. При этом важно, что это происходит в силу светского имперского закона о религиозном мире, но не в силу государственного суверенитета, не как часть государственной власти. Более того, авторы этой теории порой утверждали, что князь в одном лице является одновременно сувереном и епископом, таким образом, его власть в Церкви не проистекает из его полномочий и прав как суверена. Епископство здесь не более чем публично-правовой институт, князь-епископ не обладает духовной властью в Церкви, а имеет в ней власть управления, санкционированную чисто государственно-правовым образом [Heckel, 1987, 728]17. Возникшая несколько позже ранне-территориальная теория отдавала церковную юрисдикцию правителю земли как jus maiestatis (т. е. отталкивалась от понятия суверенитета и суверенных прав светского правителя), но, в отличие от позднего территориализма, она еще не исходила из теории общественного договора и оставалась также в рамках историко-прагматических категорий. Аргументы обеих теорий имели юридический характер и были направлены в основном против папской церковной юрисдикции, в поиске аргументов они активно обращались к ранневизантийскому законодательству, средневековому имперскому праву, к положениям имперской партии времен борьбы за инвеституру, к праву королей Испании и Франции18. Также характерно для этого периода продолжение использования понятия respublica christiana по отношению не только к империи (теперь не имеющей религиозного единства), но даже к отдельным территориальным княжествам (не имеющим универсальности) [Heckel, 1968, 282]. Т. е. происходит выхолащивание теологического содержания этого понятия (ключевыми пунктами которого как раз и были универсальность и религиозное единство).
Приведенные выше правовые теории встречали у ряда теологов определенную оппозицию. Рассмотрение обозначенных вопросов с точки зрения протестантской эк-клезиологии19 стремилось сформулировать границы мирской власти в Церкви исходя из теологических посылок; но также демонстрировало определенную преемственность правового положения еретиков. Такое самоустранение имперских властей от обсуждения теологических вопросов позволило заключить Аугсбургский мир, избежав открытого разрыва с прежними принципами, но вместо этого разрушение системы началось изнутри. Таким образом, ситуация оказалась парадоксальной: желание сохранить империю (наиболее архаичное государственное образование) привело к возникновению наиболее современного принципа веротерпимости.
с византийскими идеями, с их теологической составляющей20. Светскому властителю принадлежит cura religionis как божественный долг (а не исходя из интересов государства), это понятие уточняется в понятии custodia utriusque tabulae — задаче правителя заботиться о нравственной жизни подданных (первая скрижаль) и чистоте богослужения (вторая скрижаль), здесь князь имеет санкцию вмешательства в церковные дела как богоустановленная светская власть, исходя из заботы о Церкви (упоминаются законы византийских императоров и средневековое advocatia ecclesiae императора). Все эти права (призвание клириков, визитация, защита, инспекция) соединяются в концепте potestas regia circa ecclesiastica, в отличие от принадлежащей духовным лицам potestas ecclesiastica interna (проповедь, таинства). Этот ход рассуждений находился вполне в традиционном русле, собственно же протестантской стала доктрина трех статусов в Церкви (status politicus, status ecclesiasticus u status oeconomicus), в соответствии с которой каждый статус имеет свои права и не должен узурпировать права других, церковные вопросы касаются всей Церкви, которая управляется не монархически, а аристократически и коллегиально21. Светский князь является membrum praecipuum ecclesiae, которому принадлежат особые права уже лично как члену Церкви, но не в силу богоустановленности его власти.
Одновременное присутствие в правовом поле обоснований светской власти и ее юрисдикции, исходящих из принципиально различающихся посылок: из богоуста-новленности светской власти и божественного долга, из личной принадлежности Церкви, из неделимости своей верховной власти над территорией; а также попытки удержать старые концепты, лишенные своего прежнего содержания, — свидетельствует о переходном, неустойчивом характере первых протестантских теорий.
Эта неустойчивая система довольно быстро сдалась перед рационалистическими теориями Нового времени. Мощнейшим толчком к развитию теории территориа-лизма как политической теории, обосновывающей систему государственной Церкви, стали идеи общественного договора и суверенитета.
В учениях Жана Бодена и Гуго Гроция происходит формирование понятия суверенитета, основанного на идее неделимости верховной власти, когда вся принудительная власть должна находиться в одних руках. Сама по себе идея государственного суверенитета не обязательно предполагала отказ от Божественного происхождения государства и власти22, затрагивая лишь вопрос о положении верховной власти по отношению к остальным властным агентам в государстве, что исторически было связано с ликвидацией отношений вассалитета, проблемой соотношений прав императора и королей/ князей, а также власти папы в мирских делах. Вывод о том, что верховный правитель имеет церковные права именно как часть своего суверенитета, делает территориализм, выводя власть государя по отношению к Церкви не из теологически обоснованных задач, а из его государственного суверенитета. Государство становится абсолютным сувереном и проникает во все сферы человеческой жизни, в том числе религиозную, так что не может быть признано существование независимого правового поля Церкви. И в отличие от первой базовой модели вмешательство светской власти происходит не в силу Божественной санкции (происхождения), сакрального характера, ответственности и общих целей, а в силу идеи государственного суверенитета, согласно которой в государстве должен быть один суверен, обладающий полнотой неделимой власти.
Принципиально же новой легитимацией и обоснованием государства и государственной власти в целом является теория общественного договора. Согласно ей, источником легитимации становится не природа, традиция или Божественное установление, а свободная воля индивидов. Государство возникает в результате общественного договора, при котором народ передает суверену все свои права. Конкретные мотивы и цели создания государства, также как и описание «естественного» состояния, различаются у представителей этой концепции, но общим является определение конечной цели государства как «общего блага», это собственная цель государства, в достижении которой оно не направляется религией и церковью23. Варианты теории общественного договора также расходятся в вопросе полноты и обратимости передачи прав индивидов к суверену, но идея неизменна: государство возникает в результате общественного договора, при котором народ передает суверену все свои права, в том числе религиозные.
Здесь важно отметить влияние протестантской почвы, на которой возникает эта теория. Кроме очевидного изменения понимания государства (а вернее, появления собственно современного его понятия) свой вклад в изменение отношений церковной и государственной власти внесла и соответствующая экклезиология: разделение на видимую и невидимую Церковь, понимание духовной власти как исключительно непринудительной, включающей в себя только проповедь и преподание таинств, всеобщее священство и отсутствие сакраментального барьера между клириками и мирянами, отсутствие апостольского преемства и включения в некую единую структуру иного по отношению к государству порядка. Так, Гроций, создатель одной из первых теорий договорного происхождения государства, полагает, что при негласном или гласном договоре с отказом прав, в том числе религиозных, в пользу правителя, последний приобретает ius circa sacra, которое до того принадлежало отцам семейств24, при этом власть священника — исключительно учительская и совещательная. Наиболее выпукло связь между практически неограниченной властью суверена в церковных делах и отрицанием какой-либо необходимой социальной организации как неотъемлемого и характерного свойства истинной Церкви предстает в сочинениях Гоббса (1588–1679)25 и Томазия26. Спиритуализация «истинной Церкви» оборачивается секуляризацией «видимой» Церкви, рассмотрением ее как религиозного сообщества (легитимного собрания) и передачей всей ее социальной организации в руки суверена. Исключительно индивидуалистической связи Бога и человека соответствует понимание всей социальной структуры Церкви как «адиафоры»27, по выражению Томазия (см. его сочинение «De jure principis circa adiaphora», 1695).
Таким образом, в теории территориализма обосновывается право суверена смещать и поставлять епископов, проводить литургические реформы, контролировать церковную дисциплину и экскоммуникацию, управлять церковным имуществом, созывать синоды [Heckel, 1968, 213; 1987, 3603].
Определение Церкви как коллегии характерно и для теории коллегиализма , возникновение которой связано с именем Пуфендорфа28, а окончательное формирование произошло в середине XVIII в29. Права Церкви в государстве и их отношение к правам суверена относительно нее определяются ее положением как сообщества и проистекают из понимания прав в государстве любого сообщества. Отталкиваясь от того же «коллегиального/общественного» определения Церкви, что и территориализм, коллегиализм делает иные выводы. Созданное на основе общественного договора и передачи гражданами своих прав суверену государство тем не менее оставляет им часть прав (право собственности и свободу вероисповедания) и определенное пространство для общественных институтов, одним из которых и является Церковь. Церковь как «свободное общество тех, кто собирается для общественного богослужения согласно предписаниям Христа»30, находится под высшей властью суверена, которому принадлежит внешний государственный надзор, но помимо этого существуют еще равные общественно-коллегиальные права всех членов Церкви: принятия церковных уставов, касающихся богослужения, исполнения церковной дисциплины и отлучения от Церкви, назначения проповедников и имущества церковной собственности. Они переданы ради целей этого общества в доверительное управление суверену как члену общества-Церкви, т. о., их он осуществляет не силой своего суверенитета, уважая устав и действуя ради блага Церкви [Jeand’Heur, 1991, 448–449; Schlaich, 1997, 196–200]. Разделение, которое делает коллегиализм между этими двумя видами власти и правами суверена относительно Церкви, стало шагом на пути к автономии Церкви и современному церковно-государственному праву. Также именно в рамках коллегиализма развивалась идея религиозной толерантности, в то время как террито-риализм, руководствуясь принципом «чья власть, того и вера», тяготел к моноконфес-сианальности, видя именно в ней залог религиозного мира.
Т. о., Реформация ставит новые вызовы, создает ситуацию, когда император не может восприниматься дальше как защитник истинной веры и Церкви (т. к. нет церковного и религиозного единства империи), когда светский правитель и подданные могут даже принадлежать к разным конфессиям31, встает вопрос о иной легитимации государства, о его происхождении. Теории суверенитета и общественного договора — ответ со стороны рационального, секулярного мышления. Вопрос, насколько они отвечали взглядам самого Лютера и протестантской ортодоксии, является дискуссионным32, но для нас важнее отметить, что отсутствие всеобъемлющей организационной структуры новых церквей, спиритуализация собственно церковной власти из опасения создания «нового клира» (а присвоение мирской власти — одно из важных обвинений папы), в целом протестантская экклезиология33 способствовала созданию системы государственной Церкви, в которой видели как раз не смешение, а разделение властей. Эта система только внешне может быть похожа на «имперскую» версию средневековой модели. Т. к. суть отношений Церкви и государства не исчерпывается вопросом степени подчинения одного другому, важнее то, чем это вмешательство и подчинение мотивировано. Гораздо большее значение имеют вопросы источника власти и ее цели, а также само понимание Церкви, значение ее «видимой», социальной организации, признания у нее своей собственной правовой организации и «правительственной власти».
В нововременной модели происходит отрицание Божественного происхождения государства и светской власти; отсутствие у нее религиозно мотивированных целей и теологического обоснования (см. теорию общественного договора и веротерпимости); отсутствие теологического требования конфессионального единства христианского мира, отношение светской власти к Церкви с точки зрения государственной пользы. Таким образом, происходит разрушение прежнего единства «Божьего установления, включающего в себя светскую и духовную жизнь человечества»34. Светский правитель вмешивается в церковные вопросы не в силу богоустановленности его власти и религиозной задачи, а в силу государственных интересов и суверенитета (а в коллегиализме еще и на основании принципа всеобщего священства, но опять-таки его положение первенствующего члена Церкви основывается не на его особой миссии и отношениях с Богом, а на его светском положении в обществе).
Переходя к основной части статьи, следует отметить, что труды идеологов теории позднего территориализма Томаса Гоббса и Томазия, по всей видимости, не привлекали архиеп. Феофана (Прокоповича)35. Не интересовал Гоббс и императора. Как справедливо пишет Киселев, «к настоящему времени отсутствуют свидетельства, которые бы позволили утверждать, что Петр хоть что-нибудь слышал о Т. Гоббсе, не говоря уже о том, что он знал его концепцию» [Бугров, 2016, 103].
В отличие от Гоббса, основоположник теории коллегиализма Самюэль Пуфендорф был хорошо известен в петровскую эпоху. Сочинение Пуфендорфа «О должностях человека и гражданина» было рекомендовано Духовным Регламентом в качестве учебного пособия для духовных училищ, а затем переведено на русский язык по указанию императора Петра. Названное сочинение является сокращенным вариантом масштабного труда «О законах естества и народов», знакомство с которым архиеп. Феофана также не вызывает сомнений [Бугров, 2016, 103–104]. Однако интерес к трудам Пуфендорфа не стоит переоценивать. Пуфендорф был известен императору прежде всего как историк и юрист. Богословские сочинения Пуфендорфа вовсе не интересовали царя — в указе Святейшему Синоду о переводе вышеупомянутого трактата он писал: «Посылаю при сем книгу Пуфендорфа, в которой два трактата, первой о должности человека и гражданина, другой о вере християнской. Но требую, чтобы первый токмо переведен был, понеже в другом не чаю к ползе нужде быть» (Воскресенский, 1945, 148).
Не вызывает сомнения и знакомство архиеп. Феофана с трудами Гуго Гроция. В трактате «Правда воли монаршей» присутствует несколько ссылок на одного из основоположников теории естественного права, но большинство из них содержательного значения не имеет. Собственно, единственной значимой цитатой в достаточно обширном труде является определение, которое голландский юрист дает верховной власти36. Однако архиеп. Феофану (Прокоповичу), в отличие от Гроция, совершенно чуждо понятие о государстве как союзе свободных людей — первоначальном и общем носителе верховной власти37. Соответственно, и правитель у архиеп. Феофана — не орган государства, а собственник власти.
Однако основным камнем преткновения для исследователей является упоминание о договоре между народом и правителем, который архиеп. Феофан кладет в основу разных форм государственного устройства, в том числе наследственной монархии: «была к первому Монарху воля народная, аще не словом, но делом изъявленная. Согласно вси хощем, да ты к общей нашей пользе, владеши над нами вечно… мы же единожды воли нашеи совлекшеся, никогда же оной впред, ниже по смерти твоей употребляти не будем, но как тебе, так и наследником твоим по тебе повино-ватися клятвенным обещанием одолжаемся, и наших по нас наследников тымжде долженством обязуем» (Феофан Прокопович, 1722а, 30).
Но договор архиеп. Феофана — это отнюдь не общественный договор (pactum cojunctionis), а договор подчинения или господства (pactum subjectionis)38. Согласно концепции подобного договора между народом и правителем, договорное обоснование получало не государство и не власть вообще, но ее носители, той или иной формы государственного устройства.
Идея договора подчинения появилась в эпоху папы Григория VII и впоследствии получила свое развитие в трудах различных средневековых богословов и юристов, которые активно использовали для аргументации своих построений библейские тексты (избрание царем Саула, союз Давида с израильскими племенами в Геброне и т. п.) и римское право [Эллинек, 2004, 109–110].
Учение о договоре подчинения вполне совместимо с традиционно-аристотелевским пониманием политики и представлениями о Божественном происхождении власти: народ, уже организованный в общество естественным образом и обладающий суверенитетом, посредством договора устанавливает своего правителя и договаривается в нем о правах и границах господства, а также о послушании и защите подчиненных. Эта структура во многом соответствовала преданности господина и вассала и априори подразумевала волю Создателя. Решающим источником легитимации, следовательно, был не свободный, равный и разумный индивид, а Божественная воля и традиция. Напротив, учение об общественном договоре развилось в резкой оппозиции к политическому аристотелизму и христианскому учению о происхождении власти. Согласно идее общественного договора сувереном является не народ в целом, а каждый индивидуум в отдельности, отчуждающий свои прирожденные права в пользу общественного союза. Следовательно, такой союз есть только человеческое учреждение, а потому государство и власть как таковая уже не происходят от Бога [Schölderle, 2011].
Таким образом, библейское учение о происхождении власти и доктрину общественного договора невозможно совместить, что совершенно естественно отразилось в трудах ее основоположников: Гуго Гроция, Томаса Гоббса и Самуэля Пуфендорфа, которые полностью отвергли теократические основания власти. В свою очередь, архиеп. Феофан, «не восприняв у своих западноевропейских образцов теории общественного договора, тем самым оставил место в своей доктрине для теократической идеи» [Гурвич, 1915, 76].
Архиеп. Феофан отнюдь не задавался проблемой соединения идеи общественного договора с библейским учением, как пытались убедить своих читателей некоторые исследователи [Карташев, 1959, 341–342]. Его последующие рассуждения («ведати же подобает, что народная воля, как в избирательной, так и в наследной Монархии и в протчих правительствах образах, бывает не без собственнаго смотрения Божия… но Божиим мановением движима действует, понеже ясно учит Священное Писание… что несть власть аще не от Бога») посвящены иной цели: изложить механизм появления тех или иных правителей государства вполне в духе средневековых концепций.
Подобных концепций было несколько. Акты введения во власть (наследование, выборы, утверждение, коронация) осуществлялись непосредственно Богом либо через народ, князей или папу. Например, у легистов и канонистов в ходу была формула «империя (власть) установлена Богом, а император — народом» («Omnis potestas a Deo per populum»). То есть народ определяет персону, а саму власть эта избранная персона получает непосредственно от Бога (как и папа) [Kosuch, 2011, 292–298].
Архиеп. Феофан (Прокопович) выбрал наиболее отвечающую своей основной цели модель народного избрания правителя, когда воля народа, по сути, заменяется Божественной волей. Подобным образом описывается избрание Михаила Романова в Уложенной грамоте собора 1613 г.: после победы ополчения бояре и воеводы собрали собор представителей всех городов, чтобы «с их земского совету выбрати… государя царя и великого князя всея Руси, кого Господь Бог даст из Московских из русских родов. <…> И всещедрый в Троице славимый Бог наш… послал Свой Святой Дух в сердца всех православных христиан всего великого Российского Царствия… единомышленный невозвратный совет» (Утвержденная грамота, 1904, 13)39. Принцип «vox populi est vox Dei», используемый архиеп. Феофаном, также встречается в указанной грамоте: «последуем убо хрестианских царей древних преданиям, яко искони мнози хрестианстии цари, недоведовыми судьбами Божиими и не хотяше скипетроцарствия предержати, царствоваху, на се наставляющу народ единогласие имети, о нем же Бог во ум положити им изволи, якоже пишет глас Божии глас народа», — увещали посланцы собора Михаила Феодоровича (Утвержденная грамота, 1904, 16).
Однако при общем сходстве пафос архиеп. Феофана (Прокоповича) и логика Уложенной грамоты все же отличаются. На соборе 1613 г. не столько выбирали правителя, сколько выявляли Божию волю о нем через молитву и родственные связи избранника с предыдущей династией [Иоанн Максимович, 1936, 45–46]. По мысли архиеп. Феофана, Бог действует при избрании народом того или иного правителя в любой форме государственного устройства: монархии, аристократии или демократии. Таким образом, задача народа — избрать «доброго мужа», а не взыскать Божественной воли. В худшем случае голоса избирателей могут даже покупаться недобросовестными искателями власти (Феофан Прокопович, 1722а, 43).
Рассуждая об обязанностях правителя, автор «Правды воли монаршей» упоминает о том, что всякая власть должна иметь попечение об «общей пользе». Это соответствует общим тенденциям Нового времени, которые предполагают обязанность монарха перед государством и «связанность правителя законом» [Stupperich, 1936, 26–27].
Более того, исследователи уже давно заметили, что все три «долженства» монарха — о правосудии, защите от внешней агрессии и о надзирании за искусными духовными и гражданскими учителями — взяты архиеп. Феофаном из вышеупомянутого труда Пуфендорфа [Гурвич, 1915, 84].
Однако если первые две обязанности почти дословно совпадают, в изложении третьей имеется весьма существенное отличие. Пуфендорф постулирует необходимость следить за чистой христианского вероучения только в целях обеспечения внутреннего мира, дабы подданные сознательно соблюдали государственные законы (Пуфендорф, 2011, 182). Архиеп. Феофан (Прокопович) же пишет, что главная обязанность царя — заботиться о благочестии народа; при этом он отсылает читателя к своей книге «Первое учение отроком», где благочестие определяется как пребывание в истинной вере и любви ко Христу (Феофан Прокопович, 1722а, 26–27, 36–37)40. Цель такой заботы — способствовать спасению души подвластных: «Всяк монарх христианский носит в себе апостольское долженство, но не всяк оное исполняет, а исполняющий то государь, то есть не токмо о временном народа своего благополучии, но и о вечном спасении радящий и пекущийся» (Феофан Прокопович, 1761, 256)41. Таким образом, попечение монархов об «общей пользе» не ограничивается заботой о внешнем и внутреннем мире в государстве и народном благополучии42.
Концепция архиеп. Феофана предполагает, что воля правителя в рамках наследственной монархии отождествляется с Божественной волей43. Определение преемства власти не принадлежит народу и не совершается через наследственные родственные связи, но всецело отдается на усмотрение самого правителя, который может объявить своим наследником любого человека и таким образом явить волю Божию. Только при невозможности для народа узнать или даже угадать последнюю волю самодержца вступает в силу «естественный закон» (Феофан Прокопович, 1753, 532–536). Государь должен соблюдать заповеди Божии, но за свои грехи отвечает только перед Богом: «власть царская весьма в повелениях и деяниях своих свободна есть и ничьему истязанию о делах своих не подлежит» (Феофан Прокопович, 1722а, 22). В своем пафосе архиеп. Феофан заходит настолько далеко, что слова Священного Писания о Боге Вседержителе прямо относит к царю [Хондзинский, 2010, 39–40].
Последнее связано, как кажется, не только с заказным характером «Правды воли монаршей», но и с особенностями богословского учения архиеп. Феофана о государстве, с которым он связывает действие Бога в Священной истории44.
По мысли архиеп. Феофана (Прокоповича), Бог устроил государство, распределив в нем чины, для того чтобы человек мог делом исполнить вторую часть главной заповеди о любви к Богу и ближнему. Таким образом, каждому христианину поручается от Бога исполнять дело своего звания и в нем пребывать. Служения эти определяются Богом, а не правителем государства. Не понимать, какой у каждого чин и должность, есть крайнее невежество, а пренебрегать своими обязанностями ради церковной молитвы — ханжество: «Судия, например, когда суда его ждут обидимые, он в Церкви на пении. Да, доброе дело. Но аще само собою и доброе, обаче понеже не во время и с презрением воли Божия, како богоугодное быти может» (Феофан Прокопович, 1961, 97).
Таковым чином является и апостольское служение, а затем и деятельность их преемников — священнослужителей. Однако архиеп. Феофан (Прокопович) нигде не пишет, что священники исполняют государственное служение. Архиеп. Феофан определяет «чин апостольский» и «священническое звание» как «служителей Божиих и строителей Его таин», задача которых — пасти словесное стадо: «пастырь ли духовный еси, смотри чесого требует от тебе пастыреначальник Христос: испражняй суеверие, отметай бабия басни, корми Словом Божиим овцы врученные и оберегай от волков, кожами овчими одеянных» (Феофан Прокопович, 1961, 97–98). Главное «непосредственное» призвание пастырей — спасение душ своих пасомых (Феофан Прокопович, 1961, 138).
Итак, по логике архиеп. Феофана, священнослужители не являются государственными чиновниками: они принадлежат к духовному чину в государстве и исполняют порученное им Богом служение. Для него важно только то, что контролировать, как исполняет каждый, в том числе и священник, свой чин в государстве, должен Богом поставленный царь. Если и можно говорить о том, что священники исполняют государственное служение, то только в том смысле, что их деятельность служит к достижению Небесного Царства для подданных монарха.
Государству придается особое значение также в связи с десакрализацией быта и легализацией мирских удовольствий. Архиеп. Феофан (Прокопович) последовательно доказывает равнозначность мирской и монашеской жизни для спасения.
Тем не менее, спасение совершается не в государстве, а в Церкви. Чтобы подчеркнуть это, архиепископ использует образы — Ноев ковчег и дом Раав-блудницы. В русле сложившийся экзегетической традиции архиеп. Феофан истолковывает их как прообраз Новозаветной Церкви, которая, очистившись от языческой скверны Кровию Сына Божия, является единственным спасительным пристанищем для грешников45.
Архиеп. Феофан (Прокопович) постулирует невозможность спасения вне Православной Церкви для иноверцев, под которыми сподвижник Петра понимает не только язычников и мусульман, но и католиков и протестантов. Все они «неизследимым судом Божиим от благодати Его отвержены суть»46. Также от Церкви могут быть отлучены действием церковной власти нераскаявшиеся грешники: «анафемой бо отсекается человек от мысленного тела Христова, то есть от Церкви, к тому христианин пребывает, отчюжден всех благ смертию Спасителевой нам приобретенных» (Духовный Регламент. II. 17). Жесткая позиция архиепископа в отношении церковного учения сочетается с его широкой веротерпимостью в государственном отношении. Этот факт еще раз доказывает, что архиеп. Феофан разделял внутрицерковные и церковнополитические вопросы.
И в систематических богословских трудах, и в проповедях архиеп. Феофан подчеркивает необходимость приобщения к искупительным Страстям Христовым через та-инства47, особо выделяя Таинство Евхаристии, которое «едино есть нам жизни вечныя виновное» (Феофан Прокопович, 1961, 139).
Земная, воинствующая Церковь является только преддверием Торжествующей Небесной Церкви, истинного отечества христиан: «не отвержет кротких Бог, но сподобит наследити Христовы отечество, то есть причтенными быть святей и истинней Церкви, зде на земли верою радущейся, потом же на небеси самим делом царствовати имущей» (Феофан Прокопович, 1722б, 23). Воинствующая Церковь пребывает в молитвенном единстве с Торжествующей48, подкрепляется благодатью Божией и «в самых злейших гонениях не только непобедима пребывает, но и, побеждая, торжествует» (Феофан Прокопович, 1774, 29).
Важнейший признак истинной Церкви — ее апостоличность, выражаемая в сохранении апостольской веры и апостольского преемства рукоположения [Несмиянова, 1998, 80–81]. Священнослужители, преемники апостолов, образуют «видимое правительство» Церкви, имея власть разрешать грехи и совершать таинства от Господа Иисуса Христа, управляющего Церковью «верховным невидимым правлением» (Феофан Прокопович, 1796, 81)49. Правители государства (архиеп. Феофан особенно подчеркивает это), несмотря на сакральный статус, священнической властью не обладают. Таким образом, кроме священников, никто власти в Церкви не имеет.
Священническая власть епископов и пресвитеров, по мнению архиеп. Феофана, в древней Церкви существенно не отличалась, только впоследствии исторически сложились три степени священства. Епископ для архиеп. Феофана (Прокоповича) — в первую очередь блюститель, надзиратель над пресвитерами. Митрополиты и архиепископы надзирают за епископами, а патриархи, в свою очередь, «и самих архиепископов надсматривают и судят» (Феофан Прокопович, 1796, 85).
Наблюдение высшего духовенства над низшим, по всей видимости, архиеп. Феофан относит к внутренним церковным делам, которые являются прерогативой только архиерейской власти: «Внутренняя же епископов дела нарекл Константин дела собственная звания епископскаго, именно посещения церквей, наставления и наказания меншых пастырей, и в coбopе разсуждения, объяснения догматов» (Феофан Прокопович, 2013, 343).
Однако члены Церкви, по мысли архиеп. Феофана, одновременно являются подданными Богом поставленного правителя государства. В православных странах, подобных Киевской Руси, русская Церковь, будучи частью Вселенской Церкви, практически отождествляется с государством50. Внешнее надзирание над Церковью в государстве принадлежит царской власти: «Константин внешная епископства своего дела, не гражданское управление но церковное нарекл. Внешная же нарекл дела, превосходное свое над духовными делами надсмотрение, уставы, повеления, соборов созывания, суды, и наказания на противляющыхся истинному богочестию, как мирских так и духовных, и самих епископов» (Феофан Прокопович, 2013, 343). Обоснования для внешнего епископства правителей государства архиеп. Феофан (Прокопович) видит прежде всего в Божественном происхождении власти. Кроме того, он ссылается на византийскую традицию, согласно которой сакральная власть языческого императора была принята Церковью, исключая его Божественное и священническое достоинство. Приняв христианство, императоры, по мнению архиеп. Феофана, совершенно естественно стали заботиться о благочестии своих подданных, из числа которых не исключался и епископат.
Тем не менее, архиеп. Феофан допускал обличение царей со стороны святых мужей и ревностных архипастырей. Так, он хвалит дерзновение свтт. Григория Богослова и Амвросия Медиоланского, обличавших византийских императоров (Феофан Прокопович, 2013, 336). Допускал подобные действия уважаемых им архиереев, например свт. Митрофана Воронежского, и сам император51. Решение подчиниться таким обличением, впрочем, остается за монархом. Архиеп. Феофан полностью ис- ключает возможность суда над царем со стороны народа или иерархии, ссылаясь на толкование Феодора Вальсамона: «царь ниже канонам, ниже законам подвержен есть» (Феофан Прокопович, 1722а, 25).
Более того, никакой социально-политической значимости в государстве у иерархии нет и быть не может. Епископат, включая патриарха, в аспекте внутригосударственных отношений — только подданные императора [Бухаркин, 2009, 119]. Всякое проявление активной позиции со стороны архиереев, будь то ходатайство за осужденных стрельцов или просьба о помиловании царевича Алексия, воспринималось императором и его ближайшим сотрудником как посягательство на прерогативы правителя государства [Живов, 2004, 130].
Это унижение церковной иерархии, находящее свое отражение даже в увеселениях петровской эпохи, стало, пожалуй, основным поводом для причисления ближайшего сотрудника царя к последователям автора «Левиафана». Однако сходство только внешнее. Абсолютизм Томаса Гоббса органически связан с идеями светского государства, которое совершенно чуждо архиеп. Феофану (Прокоповичу).
Конечно, нововременные идеи так или иначе проникали на Русь, и сам архиеп. Феофан был, без сомнения, человек своего времени. Абсолютизм императорской власти, который он отстаивал, действительно был подкреплен теорией государственного суверенитета. Однако, как справедливо указывают Штупперих и Хертель, архиеп. Феофан (Прокопович) пытался синтезировать традиционное богословское учение о власти с идеями Нового времени, выстроить на основании естественного права христианскую надстройку с элементами византийской и древнерусской традиций, а его обращения к терминологии и нововременным идеям остались лишь внешним способом выражения и украшением его мысли [Härtel, 1970, 70; Stupperich, 1936, 70].
Архиеп. Феофан не выводит права суверена относительно Церкви из суверенитета власти, как это делает территориализм и, оставаясь в рамках православной догматики, не дает императору прав в Церкви на основании идеи всеобщего священства, как это делает коллегиализм. Следовательно, император не получил тех прерогатив преемников апостолов, которые позволяют именовать их главами местных Церквей. Православная догматика, в рамках которой развивалось богословие архиеп. Феофана (Прокоповича), не разделяет видимую и невидимую Церковь и не позволяет отнести управление и социальное устройство Церкви к «адиафоре», оставляя «правительственную власть» иерархии.
Постулируя Божественное происхождение светской власти, наличие у нее религиозно мотивированных целей (активно реализуемых, например, в развитии православной миссии в петровскую эпоху) и теологического обоснования (даже когда он писал об устройстве чинов в государстве), архиеп. Феофан (Прокопович) мыслил в рамках первой (средневековой) модели. А стремление полностью исключить влияние иерархии в церковно-политических вопросах позволяет отнести концепцию архиеп. Феофана к императорской версии.
Список литературы Парадигма церковно-государственных отношений у архиепископа Феофана (Прокоповича): от Средневековья к Новому времени
- Воскресенский (1945) - Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники. Т. I: Акты о высших государственных Установлениях. М.; Л., 1945.
- Пуфендорф (2011) - Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону естественному: Русский перевод 1726 г. / Лингвистическое издание, словоуказатель, комментарии подг. В. М. Круглов. СПб., 2011.
- Утвержденная грамота (1904) - Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова / С предисл. С. А. Белокурова. М., 1904.
- Феофан Прокопович (2013) - Феофан Прокопович. Розыск исторический коих ради вин и в яковом разуме были и нарицалися императоры римские, как и языческие, так и христианстии, понтифексами… // Хондзинский П., прот. "Ныне мы все болеем теологией…": из истории русского богословия предсинодальной эпохи. М., 2013. С. 326-352
- Феофан Прокопович (1722а) - Феофан Прокопович, архиеп. Правда воли монаршей. М., 1722.
- Феофан Прокопович (1722б) - Феофан Прокопович. Христовы о блаженствах проповеди толкование. СПб.,1722
- Феофан Прокопович (1753) - Феофан Прокопович. Первое учение отроком. Киев, 1753.
- Феофан Прокопович (1761) - Феофана Прокоповича… слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные: в 3 ч. СПб., 1761.
- Феофан Прокопович (1774) - Феофан Прокопович. Рассуждение о книзе Соломоновой, нарицаемой Песнь Песней. М., 1774.
- Феофан Прокопович (1796) - Феофан Прокопович. Диалогисм, сиесть Беседа о догматех Православныя Церкви. М. 1796.
- Феофан Прокопович (1961) - Феофан Прокопович. Сочинения. М., 1961.
- Франсиско де Витория (2014) - Франсиско де Витория. Первая лекция о церковной власти / Пер. Марей А. В. // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 3.
- Церковные новеллы (2007) - Церковные новеллы св. императора Юстиниана I (527-565 гг.) в современном русском переводе: Из опыта работы над проектом // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2007. Вып. 17.
- Mainzer Ordo (1935) - Mainzer Ordo // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung). 1935. Bd. 24.
- Mirbt (1934) - Mirbt C. Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus. Tübingen, 1934.
- Бугров (2016) - Бугров К. Д., Киселев М. А. Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру ХVIII века. Екатеринбург, 2016.
- Бухаркин (2009) - Бухаркин П. Е. Феофан Прокопович и духовно-интеллектуальные движения петровской эпохи // Христианское чтение. 2009. № 9-10.
- Верховской (1916) - Верховской П. В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. К вопросу об отношениях Церкви и государства в России: в 2 т. Ростов-на-Дону, 1916.
- Гурвич (1915) - Гурвич Г. "Правда воли монаршей" Феофана Прокоповича и ее западноевропейские источники. Юрьев, 1915.
- Живов (2004) - Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого. М., 2004.
- Карташев (1959) - Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1959. Т. 2.
- Лотман (1982) - Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции "Москва - Третий Рим" в идеологии Петра I // Художественный язык Средневековья. М., 1982.
- Лысяков (2004) - Лысяков В. Б. Людовик XIV и церковь // Французский ежегодник, 2004.
- Иоанн Максимович (1936) - Иоанн (Максимович), свт. Происхождение закона о престолонаследии. Шанхай, 1936.
- Несмиянова (1998) - Несмиянова О. В. Учение о церкви Феофана Прокоповича: Историко-религиоведческая реконструкция: дис. … канд. филос. наук. СПб., 1998.
- Суини (2006) - Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 2:. Средневековая политическая философия Запада. М., 2006.
- Титова (2019) - Титова А. О. Сакральность королевской власти и ее отношение к экклезиологии в оттоновско-салиевское время // Монарх и монархия. К 150-летию со дня рождения императора Николая II и 100-летию убиения царской семьи М., 2019. С. 59-74.
- Успенский (1996) - Успенский Б. А. Избранные труды. Т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996.
- Флоровский (2006) - Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006.
- Фуко (2011) - Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году. СПб., 2011.
- Хондзинский (2010) - Хондзинский П. свящ. Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. М., 2010.
- Хондзинский (2013) - Хондзинский П., прот. "Ныне мы все болеем теологией…": из истории русского богословия предсинодальной эпохи. М., 2013.
- Эллинек (2004) - Эллинек Г. Общее учение о государстве. М., 2004.
- Barshack (2006) - Barshack L. The communal body, the corporate body, and the clerical body: an anthropological reading of the Gregorian reform // Sacred and Secular in Medieval and Early Modern Cultures. New York, 2006. P. 101-121.
- Congar (1971) - Congar Y. Die Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abenländischen Schisma. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd III/c. Herder, 1971.
- Dagron (1996) - Dagron G. Empereur et prêtre. Étude sur le "césaropapisme" byzantine. Paris, 1996.
- Dunning (1905) - Dunning W. A. A History of Political Theories from Luther to Montesquieu. London, 1905.
- Dvornik (1966) - Dvornik F. Early Christian and Byzantine Political Philosophy: Origins and Background. Vol. II. Washington, 1966.
- Erkens (2003) - Erkens F. Vicarius Christi - sacratissimus legislator - sacra majestas // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung. 2003. Bd. 89 (1). S. 1-55.
- Heckel (1968) - Heckel M. Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Munich, 1968.
- Heckel (1987) - Heckel M. Episkopalsystem u. Territorialsystem // Herzog / Kunst / Schlaich / Schneemelcher (Hg.) Evangelisches Staatslexikon, 3 Aufl. Stuttgart, 1987.
- Härtel (1970) - Härtel, H.-J. Byzantinisches Erbe und Orthodoxie bei Feofan Prokopovic. Wurzburg, 1970.
- Jeand‘Heur (1991) - Jeand‘Heur B. Der Begriff der.,Staatskirche" in seiner historischen Entwicklung // Der Staat. 1991. Vol. 30. No. 3. S. 442-467.
- Jellinek (1900) - Jellinek G. Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1900.
- Kölmel (1970) - Kölmel W. Regimen Christianum. Wege u. Ergebnisse des Gewaltenverhaeltnisses u. des Gewaltenverstaendnisses (8 bis 14 Jah). Berlin, 1970.
- Körntgen (2009) - Körntgen L. Sakrales Königtum und Entsakralisierung in der Polemik um Heinrich IV // Heinrich IV (Vorträge und Forschungen 69). Ostfildern, 2009. S. 127-160.
- Kosuch (2011) - Kosuch, A. Abbild und Stellvertreter Gottes. Der König in herrschaftstheoretischen Schriften des späten Mittelalters. Böhlau, 2011.
- Lehmann (2013) - Lehmann R. M. Die Transformation des Kirchenbegriffs in der Frühaufklärung. Tübingen, 2013.
- Schlaich (1997) - Schlaich K. Gesammelte Aufsaetze. Kirche und Staat von der Reformation bis zum Grudgesetz. Tübingen, 1997.
- Schlaich (1969) - Schlaich K. Kollegialtheorie: Kirche, Recht und Staat in der Aufklaerung. München, 1969.
- Schölderle (2011) -Schölderle T. Fehlperzeptionen der staatsphilosophischen Vertragstheorie // Zeitschrift für Politik. Neue Folge. Vol. 58. №. 1 (März 2011). S. 51-72.
- Spitz (1953) - Spitz L. W. Luther's Ecclesiology and His Concept of the Prince as Notbischof // Church History. 1953. Vol. 22. № 2 (Jun.). P. 113-141.
- Stupperich (1936) - Stupperich R. Staatsgedanke und Religionspolitik Peters des Grossen. Berlin, 1936.
- Stürner (1987) - Stürner W. Peccatum und Potestas. Der Sündenfall und die Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken. (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, Bd. 11). Sigmaringen, 1987.
- Sweeney (2000) - Sweeney M. Medieval Political Philosophy. Xavier University, 2000.
- Tellenbach (1936) - Tellenbach G. Libertas: Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites. Leipzig, 1936.
- Thompson (1969) - Thompson W. D. J. Cargill. The ‘two kingdoms' and the ‘two regiments': some problems of luther's "zweireichelehre" // The Journal of Theological Studies. New Series, 1969. Vol. 20. № 1 (April). P. 164-185.
- Tutino (2010) - Tutino S. Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth. New York, 2010.
- Καραγιαννόπουλος (1992) - Καραγιαννόπουλος Ι. Ε. Η πολιτική θεωρία των βυζαντινών. Θεσσαλονίκη, 1992.