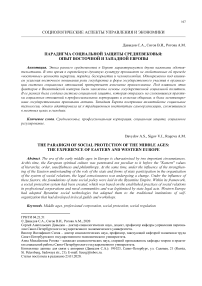Парадигма социальной защиты средневековья: опыт восточной и западной европы
Автор: Давыдов Сергей Анатольевич, Сигов Виктор Ивглафович, Рогова Анна Михайловна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики
Статья в выпуске: 1 (121), 2020 года.
Бесплатный доступ
Эпоха раннего средневековья в Европе характеризуется двумя важными обстоятельствами. В это время в европейскую духовную культуру проникают не свойственные ей прежде «восточные» ценности иерархии, порядка, бескорыстия и человеколюбия. Одновременно под влиянием усиления восточного понимания роли государства и форм государственного участия в организации системы социальных отношений претерпевает изменение правосознание. Под влиянием этих факторов в Византийской империи были заложены основы государственной социальной политики. В ее рамках была создана система социальной защиты, которая опиралась на сложившиеся практики социальных отношений в профессиональных корпорациях и сельских общинах, и была легитимирована государственными правовыми актами. Западная Европа восприняла византийские социальные технологии, однако адаптировала их к традиционным институтам самоорганизации, сложившимся в местных цехах и гильдиях.
Средневековье, профессиональная корпорация, социальная защита, социальное регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/148320132
IDR: 148320132
Текст научной статьи Парадигма социальной защиты средневековья: опыт восточной и западной европы
Деконструкция античного мира со всей остротой поставила перед раннесредневековыми обществами Европы вопрос о выработке новой основы и апробации не менее эффективных, чем прежние, инструментов регулирования общественного воспроизводства. И уже к V-VI векам н.э. в Европе начали складываться институционализированные практики участия государства, сельских общин и профессиональных корпораций в решении проблем, которые сегодня принято относить к предметной сфере социальной защиты, таких как стимулирование вовлеченности социальных агентов в экономическую деятельность, поддержание социальной стабильности в рамках социальной общности, перераспределение общественных благ, обеспечение социальной поддержки лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Идейные основя конструирования новой парадигмы социальной защиты в Европе были заложены христианским вероучением. Оно привнесло в европейскую духовную культуру не свойственные ей прежде «восточные» ценности иерархии, порядка, бескорыстия и человеколюбия, которые были реализованы в социальных практиках христианских «братств» и далее в деятельности их прямых наследников – гильдий и цехов.
Заимствование византийских традиций
В эпоху раннего средневековья источником идей, продуктивных для конструирования сильной социальной политики государства, стала византийская государственная этика. В ее развитии отчетливо проявляли себя две тенденции. Одна из них выражалась в постепенном усилении восточного понимания роли государства и форм государственного участия в организации системы социальных отношений.
Так, ранние византийские документы проникнуты античной идеей равенства прав. В «Советах ва-силевсу» Кевкамен поучает: «Смотри на всех и поступай одинаково», [13, с. 123]. В Василиках значится: «Закон получил название от справедливости; справедливость же есть твердая и постоянная воля воздать каждому причитающееся ему право» [там же]. Однако, в новелле Тиверия (575 г.), наряду с принципом равенства прав, соседствует уже и принцип филантропии. Там, в частности, говорится, что правительство должно ставить себе целью «обеспечить подданным все, в чем они нуждаются, устранить нужду и вообще прийти к ним на помощь» [13, с. 124].
В качестве решения проблем нуждающихся определяется содействие государства «равномерному распределению материальных благ между общественными классами» [13, с. 124], – так говорил Юстин II, обращаясь к императору Тиверию. Тем самым, от идеи признания равенства прав и обеспечения индивидуальных свобод византийское государство приходит к идее активной социальной политики с целью снижения имущественной дифференциации и помощи нуждающимся. В этом проявляется восточное влияние на государственную идеологию Византии.
Однако в ряде ее аспектов усиливаются позиции западных идей. Прежде всего, это касалось понимания методов решения социальных проблем. Если Агапит призывает Юстиниана «на место неравенства установить равенство» [13, с. 124] и мотивирует это равенством всех людей перед богом, то с течением времени идея помощи всем нуждающимся вытесняется идеей адресной социальной помощи. В ней силен элемент западного рационализма: оказанию помощи предшествовало выяснение причин, приведших человека к бедности, а также оценка нравственного достоинства нуждающегося человека.
О том, что подобные изменения действительно имели место, свидетельствует, в частности, тот факт, что в XI веке Лев Грамматик (также известен как Лев Философ, Лев Мудрый – авт. ) счел нужным закончить приведенную выше мысль Юстина о необходимости помогать нуждающимся словами «если они того заслуживают» [13, с. 124]. Все это дало основание русским византологам еще в XIX веке сделать вывод: «Внутренняя история (византийского – авт .) права … представляет собою процесс постепенного проникновения в законодательство воззрений христианской церкви (и) … торжеством начала целесообразности над принципом права» [11, с. 264].
Изменения, происходящие в области идеологии, права и правосознания, происходили параллельно с изменениями в социально-экономической сфере византийского общества, связанными с ясно акцентированным усилением элементов этатизации в хозяйственной и социальной жизни восточного Средиземноморья. Этот процесс находил свое отражение и в последовательной антиростовщической политике византийского государства [7], и в «огосударствлении» хозяйственного права [2], и в проник- новении административного аппарата органов центральной государственной власти в социальную и экономическую сферу Византии [6].
Это предопределило облик социальной политики, проводимой государством, как на селе, так и в городских центрах империи. Особенности социального регулирования в сельской местности обусловливались, в основном, двумя факторами: крестьянским обычным правом и государственным участием в решении земельного вопроса.
Обычные правовые нормы крестьян империи представляли собой свод неписаных законов, определявших все стороны жизни на селе. Эти нормы сформировались, по-видимому, еще в древнейшие времена и обеспечивали преемственность крестьянского строя Византийской империи с его античными и доклассовыми аналогами. Но не последнюю роль в формировании института крестьянского обычного права Византии сыграла и экспансия варваров – галлов, осевших в Малой Азии, а также славян, заселивших большие области европейской части империи.
Согласно нормам обычного права, основным модулем крестьянского строя являлась община. Она состояла из крестьянских семей, как правило, из нескольких десятков. Каждую семью возглавлял отец-патриарх, которому были подчинены жена и дети. Все члены семьи работали на участке земли, выделенном ей общиной. Земельный фонд периодически перераспределялся на основе решения, принимаемого общим собранием общинников. Кроме того, в компетенции общины также находились вопросы, связанные с организацией взаимопомощи при наступлении «внештатных» ситуаций, таких как грабеж, пожар, стихийное бедствие и проч. [4, с. 88], а также с оказанием помощи нетрудоспособным и воспитанием детей в случае, если последние не имели родных, способных позаботиться о них.
Как можно заметить, организованный обычным правом уклад крестьянской общины купировал большинство социальных рисков. Крестьянину практически не угрожал риск потери трудового заработка, а риски временной или постоянной потери трудоспособности покрывались за счет традиционных форм коллективной взаимопомощи. В этих условиях византийскому государству, очевидно, незачем было выстраивать собственную архитектонику социальной защиты на селе. Необходимо было только адаптировать крестьянский уклад к социальной политике государства и всячески поддерживать его.
Наиболее завершенные черты социальная политика византийского государства по поддержке крестьянской общины приобрела в период фемного строя. Однако и после его отмены византийское государство продолжало оказывать общине как субстрату социальной поддержки на селе самую ощутимую помощь. В основном она выражалась в принятии антиростовщических аграрных законов. Только в Х веке их было принято три. Законом 922 года определялось преимущественное право общины на покупку земли и запрещалась скупка земли ростовщиками, законом 934 года предписывалось все захваченные у крестьян земли вернуть общине, законом от 996 года отменялась 40-летняя давность, охранявшая право ростовщиков на захваченную ими землю [1, с. 218].
В то же время, на западе Европы органы центральной государственной власти осуществляли только первые робкие попытки сделать что-либо подобное. Они были слишком слабы и неразвиты, а потому не способны социализировать аграрные отношения, или хотя бы ограничить власть феодального сеньора над общинниками. Это, конечно, обусловливало большую беззащитность крестьян перед произволом феодалов и ростовщиков.
Специфика социальной защиты на уровне профессиональных объединений
Силу государства, его желание и способность проводить активную социальную политику следует считать фактором, определившим особенности подходов к управлению социальными рисками в городах западных и восточных городов христианской Европы. На первый взгляд отличия между ними не так очевидны. Поэтому для понимания таких отличий будет нелишним вспомнить о различных путях, по которым пришлось в своем формировании пройти главным субстратам социальной защиты в во-сточно- и западноевропейских городах – гильдиям и цехам.
В восточном Средиземноморье профессиональные объединения существовали издревле. Претерпев с античных времен ряд метаморфоз, они, в новых условиях феодальной Византии, постепенно приобрели новую форму цеха. О постепенности и преемственности этого процесса свидетельствует, например, факт массового использования в византийском цеховом производстве труда рабов даже в IX-X веках. В то же самое время, в рамках цехов уже широко распространены качественно новые отношения свободного найма рабочей силы, и зарождается новый класс наемных работников, т.н. ми-стиев или мистотов [8].
Как и в цехах западноевропейских городов позднейшего времени, в византийских профессиональных корпорациях центральное место занимала мастерская свободного ремесленника. Однако византийское государство, умело использовав сложившиеся еще во времена римской оккупации устойчивые традиции подчинения профессиональных организаций структурам административного управления, сумело занять командные высоты в системе цеховых и гильдейских отношений. О роли бюрократического аппарата в организации городского ремесла в империи свидетельствует Книга эпарха, содержащая образцы уставов византийских цехов Х века [6].
Иначе ситуация складывалась в западной Европе. В южной ее части античные корпорации в III-IV веках были разрушены варварами, а в северной их не было и вовсе. Это, в сочетании с отсутствием здесь сильной центральной государственной власти, обусловило формирование цехов и гильдий на принципах самоорганизации и независимости от органов госуправления. Люди стали здесь объединяться для взаимопомощи не во исполнение воли руководящих указаний чиновников, а под влиянием передового опыта развитых городов христианского Востока, а также в силу экономической необходимости и страха перед угрозой социальных рисков и феодального разбоя.
Тесное единство людей и смешение религиозных целей с целями обеспечения благосостояния и безопасности обусловили первоначальное название западноевропейских корпораций (fratemitates, confratrias, confreries и т.п.). Со временем братства или гильдии становились все более «специализированными». Сначала произошло их разделение на религиозные и светские, затем последние стали разделяться на защитные (охранные) и профессиональные гильдии или собственно цехи.
Образцом для цеховой организации в западной Европе послужил, повторим мы вслед за Энгельсом, общинный строй [10, с. 121]. Здесь мы сможем увидеть и уравнительность в распределении хозяйственных благ, и взаимные обязанности членов цеха друг по отношению к другу, и право их участия в управлении хозяйственной и социальной жизнью. Это роднит западноевропейские цехи с германской маркой. Но в их организации мы можем увидеть многое из того, что могло быть перенято ими у их восточнохристианских аналогов.
Интересные параллели лежали и в области гильдейско-цехового страхования. Вот некоторые из них. Как на западе, так и на востоке Европы страхование в гильдии (цехе) осуществлялось на основании устава. Подобно уставу античных collegia funeraticia, цеховой устав определял перечень подлежащих возмещению страховых случаев, размеры страховой суммы и условия ее получения, порядок получения материальных компенсаций и формирования фондов. Однако, в отличие от устава римских коллегий, регламентировавшего отношения между членами исключительно по вопросам взаимного страхования, цеховой устав охватывал значительно более широкую предметную область, организуя всю совокупность как экономических, так и социальных отношений между членами цеха как социальной группы [12].
Однозначно определить круг статей цеховых уставов, регламентировавших исключительно вопросы социального регулирования, непросто.
Во-первых, потому, что в рамках цеховых отношений социальное страхование было еще не вполне отделено от взаимопомощи. Некоторые ее формы сочетали в себе признаки одновременно как первого, так и второй. Например, большинство цеховых уставов запрещало горожанину активно рекламировать свой товар и вообще производить всякую «ловлю клиентов» [5, с. 123], обязывало членов цеха оказывать непосредственное содействие друг другу в преследовании вора, в устранении последствий стихийных бедствий и военных действий и проч., а также гарантировало возмещение всех связанных с этим расходов из цеховой кассы. Кроме того, в уставах было предусмотрено лишение члена цеха гарантировавшихся ему прав за несоблюдение своих социальных обязанностей.
Во-вторых, в большинстве цеховых уставов не было предусмотрено создания отдельных фондов для целей социального страхования. Обычно, социальная поддержка оказывалась людям из единой многоцелевой цеховой кассы, которая формировалась из различных источников. В их числе, как правило, оказывались: вступительные взносы, уплачиваемые вновь принимаемыми мастерами (с введением института подмастерьев – и подмастерьями); регулярные взносы членов цеха; взносы, уплачиваемые членами цеха за учеников; подарки, отказы от завещания в пользу цеха; средства, полученные от наложения штрафных санкций за нарушение цехового устава; прочие поступления, в т.ч. образующи- еся в связи с введением временных налогов. Таким образом, финансы гильдейско-цехового социального обеспечения были растворены в общецеховой финансовой системе.
Намного более ясно цеховой устав регламентировал распределительную сторону социальной помощи. К числу получателей социальной помощи, как правило, относились члены цеха (мастера, а позже и подмастерья), а также члены их семей и ученики. Под страховым случаем обычно разумелась смерть, болезнь, потеря кормильца и инвалидность. В случае смерти члена цеха его семья получала два вида пособий: пособие на погребение и пособие по случаю потери кормильца; последнее выдавалось вдове умершего и детям-сиротам. На период болезни пособие выдавалось в исключительных случаях – при особо тяжелой или неизлечимой болезни; например, при проказе, слепоте и т.д. Пособие могло выплачиваться и при наступлении инвалидности, но только тогда, когда она лишала члена цеха способности обеспечить себя собственным трудом [3, с. 8-9].
Следует отметить, что подобные меры социальной поддержки практиковались как на востоке, так и на западе Европы уже в XI-XII веках. С этого времени более высокие стандарты цеховой жизни Византии могут быть обнаружены только в результате самого скрупулезного анализа [3, с. 142-149]. Но процесс конвергенции скорее затронул только внешнюю сторону сближения западно- и восточноевропейской парадигм социальной политики. Между ними не были устранены сущностные отличия, определявшиеся целями социальных мероприятий и степенью участия государства в их реализации. Заключение
В западноевропейских городах меры социальной поддержки обычно были направлены на поддержание социальной стабильности в рамках поселения и не были инкорпорированы в целостную государственную социальную политику. Поэтому они стали частью финансового механизма коллективного самострахования с присущими ей корпоративностью и самоуправлением. Иначе дело обстояло в городах Византийской империи. Здесь реализация мер социальной поддержки покоилась на прочных основаниях государственной коммунитарной идеологии, регулировалась государственными нормативными актами, а реализующие эти меры цехи были связаны с органами госуправления сложной системой коммуникаций.
Говоря современным языком, реализовывавшаяся в Византии система мер социальной поддержки являла собою один из первых примеров государственного социального страхования децентрализованного типа. Важно отметить, что гильдейско-цеховая парадигма социальной политики стала качественно новым этапом в развитии практик социального регулирования. В ней впервые произошел симбиоз «восточных» установок на всеобъемлющую защиту от социальных рисков и «западных» технологий коллективного самострахования. Она воплотила в себе принципы общественной солидарности и индивидуальной ответственности, обязательности участия индивида в механизме взаимопомощи и добровольность его вхождения в корпорацию.
Можно увидеть, что при распределении материальной помощи принцип нуждаемости учитывается наряду с принципом причинности, а сама помощь предоставляется как в натуральном виде, так и в денежном. Эта причудливая композиция организующих принципов социальной защиты, а также опыт законотворчества Византии и западной Европы эпохи Возрождения, были в той или иной мере восприняты и реализованы в парадигмах социальной политики периода капиталистической индустриализации.
М.: Наука, 1990. С. 142-149.
Список литературы Парадигма социальной защиты средневековья: опыт восточной и западной европы
- Всемирная история / под ред. Ю.П. Францева. Т. III. М.: Политиздат, 1957.
- Всемирная история экономической мысли. Т. 1. М.: Мысль, 1987.
- Давыдов С.А., Федорова Т.А., Янова С.Ю. Социальное страхование: теория и практика. СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 1999. 63 с.
- Давыдов С. А. Принципы социетальной экономики: прошлое и будущее // Общество и экономика. 2014. № 12. С. 86-101.
- Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Терра, 2009.