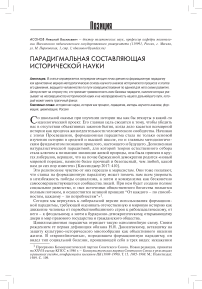Парадигмальная составляющая исторической науки
Автор: Асонов Николай Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье опровергается популярная сегодня точка зрения на формационную парадигму как единственно верную методологическую основу научного анализа исторического процесса и этапов его движения, ведущего человечество по пути совершенствования по единой для него схеме развития. Автор встает на сторону тех, кто признает правомочность всех базовых парадигм, наличие которых указывает на несовершенство исторической науки и на неопределенность нашего дальнейшего пути, который может иметь трагичный финал.
История как наука, история как процесс, парадигма, методы научного анализа, формация, цивилизация, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170195203
IDR: 170195203 | DOI: 10.31171/vlast.v30i4.9118
Текст научной статьи Парадигмальная составляющая исторической науки
С о школьной скамьи при изучении истории мы как бы втянуты в какой-то идеологический проект. Его главная цель сводится к тому, чтобы убедить нас в отсутствии объективных законов бытия, когда дело касается всемирной истории как процесса жизнедеятельности человеческого сообщества. Начиная с эпохи Просвещения, формационная парадигма стала не только основой изучения истории в средней и высшей школе, но и главным методологическим фундаментом познания прошлого, настоящего и будущего. Дополненная натуралистической парадигмой, для которой теория естественного отбора стала ключом к познанию эволюции живой природы, она была принята в кругах либералов, верящих, что на почве буржуазной демократии родится «новый мировой порядок, намного более прочный и безопасный, чем любой, какой нам до сих пор известен» [Киссинджер 2017: 410].
Это религиозное чувство от них перешло к марксистам. Они тоже полагают, что ставка на формационную парадигму может помочь нам всем уверовать в неизбежность победы социализма, а затем и коммунизма как бесконечно самосовершенствующегося сообщества людей. При нем будет создано полное социальное равенство, и «все источники общественного богатства польются полным потоком, и осуществится великий принцип “От каждого – по способностям, каждому – по потребностям”»1.
Сегодня мы вернулись к либеральной версии использования формационной парадигмы, требующей оценивать отечественную и мировую историю как движение человека от первобытнообщинного строя к рабовладельческому, от него – к феодальному, а затем к буржуазно-демократическому, открывающему двери в мир правового государства и гражданского общества.
Цивилизационная парадигма отрицает такую однолинейную схему. Своим рождением ее первая дефиниция обязана Н.Я. Данилевскому, вставшему на защиту культурно-исторического многообразия как объективного явления жизни. В «европейничаньи», породившем формационную парадигму, он видел тип социальной болезни, проявляющей себя в трех видах: искажении народного быта в пользу иностранных стандартов; внедрении иностранных учреждений и оценке своей страны и ее народа с иностранной точки зрения [Данилевский 1991: 267-268]. Все это уже внедрила у нас европоцентричная формационная парадигма. Зато учет цивилизационных особенностей России как центра славяно-православного мира дает иную картину нашего бытия и его ценностно-целевых установок. Но в любом случае «закон культурно-исторического движения… истощает силы и обратно не возвращается». Ибо человек как «существо ограниченное» не может «бесконечно развиваться и совершенствоваться» [Данилевский 1991: 106, 108].
Вторая дефиниция разработана О. Шпенглером. Он подает цивилизацию как финальную стадию жизни мирового сообщества, ведущую на фоне «диктатуры денег» и технического прогресса к падению духовной культуры и превращению граждан в безликую однородную массу, когда торжествует «культ точных наук», а «критическое исследование перестает быть духовным идеалом» [Шпенглер 1998а: 624]. Для Шпенглера и его последователей «всемирная история – это всемирный суд: она всегда принимала сторону более сильной… жизни... приговаривая к смерти тех людей и те народы, которым истина была важнее деяний, а справедливость – важнее власти». Сегодня мы подошли к последнему этапу истории, когда «деньги празднуют свою последнюю победу, а цезаризм их наследник» [Шпенглер 1998б: 539].
Между тем при научном изучении истории как процесса любые парадигмы никогда не были аксиомами, а представляли собой теоретические положения, принятые как образцы для решения поставленных задач. В них легко просматривается несовершенство исторической науки и ее зависимость от аналитических допущений, которые положены в основу исследовательских программ. При этом есть ряд парадигм, позволяющих оспорить выводы официальных схем анализа прошлого. И если смена парадигм ведет к противоположным выводам, можно говорить о допущенной методологической ошибке. В самом деле, о каком «вечном прогрессе» может идти речь, когда все в материальном мире, помимо положительных свойств, несет в себе изрядную долю негатива, и этот негатив все обрекает на вырождение и гибель, особенно если это касается системы управления.
Тут можно вспомнить рассуждения В.О. Ключевского о государстве. Полемизируя с Т. Гоббсом, он утверждал, что государство как ведущий политический институт не могло реализовать «идею общего блага», когда при его создании люди якобы «руководствуются стремлением избавиться от бедственного состояния войны» [Гоббс 2001: 116]. Оно «вовсе не было прогрессом ни в общественном, ни в нравственном смысле» и сильно напоминало костыль, дающий некоторую опору телу, но мешающий двигаться здоровой ноге. Поэтому прямым следствием появления этого института стало рождение «безнравственной политической морали» [Ключевский 1990: 296].
Согласимся, выводы этих двух мыслителей не могут быть одинаково научными, если дают разную оценку государству. Такое раздвоение стало характерной чертой современной исторической науки. Ведь основные направления парадигм как «аналитических матриц» строятся в зависимости от того, каких мировоззренческих установок придерживаются ученые. Из этого вытекает расхождение в выводах, исключающее всякую совместимость методологического поиска, строящегося в рамках противоречивых парадигм.
Чтобы убедиться в этом, проведем небольшой сравнительный анализ. Сегодня среди православных историков, пытающихся примирить науку с верой, используя богословские положения для объяснения разного рода событий, особую значимость приобрела теологическая парадигма. Она исходит из того, что люди несовершенны. Они только подобие своего Создателя. Поэтому не надо ждать «содружества свободы» и «морального сообщества», обещанных Г. Киссинджером. Растущее в нас зло через институт государства способно произвести на свет только антихриста, «который и восстановит царство Иудейское»1, разрушив последние нравственные устои. Признаками грядущего краха социально-политической системы мира стали глобальные проблемы современности, включая COVID-19, порожденные корыстью и просчетами властей, их неумением справляться с ними. Такой ход событий предрешен свыше и носит одноактный характер. Правда, другие полагают, что история мирового сообщества, дойдя до конечной точки, родится в иной форме существования, но генетическое несовершенство человека исчерпает и ее энергетический потенциал саморазвития.
Теологичности противостоит натуралистическая парадигма как откровенная союзница формационного осмысления истории, и потому она не отвергает принцип грядущего «всеобщего блага», видя в Боге в первую очередь спасителя, а не судью. На этом строится ее оптимистический характер, заставляющий верить в способность государства принять правовые и социальные формы во имя человека как высшей ценности. Ведь все в этом мире должно постоянно двигаться от примитивных форм к совершенным, ведущим к улучшению власти и общества. В данной связи «натуралисты» ссылаются на «муравейники», создающие «клубы согласия», ибо «все развитые формы жизни обязательно ищут консенсус… и находят его» [Лебедев 2012: 65, 66]. Человек как часть биосистемы тоже найдет спасительный выход и создаст совершенную форму социально-политической жизни, защитив себя от «злокачественных опухолей», грозящих ему гибелью.
Однако сторонники социальной парадигмы уверены, что «в биологической эволюции изменчивость случайна» [Фукуяма 2017: 587], а в социуме она закономерна. Люди перестали быть только биологическим видом. Примером этого является наличие сложной системы социальных отношений, вписанных в рамки материальной и духовной культуры. Она повлияла на поляризацию наших ценностно-целевых устремлений по линии «добра» и «зла», где «добром» стал считаться уход от животного состояния и утверждение нравственной системы ценностей и целей. Интересно, что «натуралисты» и «социалисты» бойко прибегают к социал-дарвинизму, веря, что принцип конкурентной борьбы, кстати, прописанный в нашей пятой Конституции (ст. 8, п. 1), способен привести в сферу бизнеса и во власть наиболее достойных граждан и обеспечить вожделенный прогресс.
Здесь возникает одна из самых больших проблем, пока не имеющая решения. Как современной исторической науке выделить и обосновать целесообразность композиционного применения тех парадигм, которые соответствуют объективным законам бытия и этим доказывают свою методологическую целесообразность? Преодоление этого барьера поможет ее качественной перестройке, избавив от антинаучных выводов, какими бы они ни были привлекательными для власти и граждан.
Список литературы Парадигмальная составляющая исторической науки
- Гоббс Т. 2001. Левиафан. М.: Мысль. 478 с.
- Данилевский Н.Я. 1991. Россия и Европа. М.: Книга. 574 с.
- Киссинджер Г. 2017. Мировой порядок. М.: АСТ. 512 с.
- Ключевский В.О. 1990. Сочинения. В 9 т. М.: Мысль. Т. 9. 525 с.
- Лебедев Д.А. 2012. Жизнь всегда в поиске золотого согласия. - "Ценности" и "цели" в функционировании и эволюции сложных социальных систем: материалы научного семинара. Вып. 2. М.: Научный эксперт. С. 65-68.
- Фукуяма Ф. 2017. Угасание государственного порядка. М.: АСТ. 704 с.
- Шпенглер О. 1998а. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль. 663 с.
- Шпенглер О. 1998б. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль. 606 с.