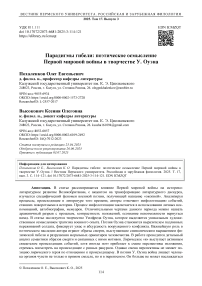Парадигмы гибели: поэтическое осмысление Первой мировой войны в творчестве У. Оуэна
Автор: Похаленков О.Е., Высокович К.О.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние Первой мировой войны на историко-литературное развитие Великобритании, с акцентом на трансформацию литературного дискурса, изучается специфический феномен военной поэзии, получившей название «окопной». Анализируя процессы, происходящие в литературе того времени, авторы отмечают мифологизацию событий, ставших поворотными в истории. Процесс мифологизации заключается в использовании личных воспоминаний, автобиографии, мемуаров. Отличительными чертами данного периода можно назвать драматичный разрыв с прошлым, контрастность положений, осознание невозможности вернуться назад. В статье исследуется творчество Уилфреда Оуэна, которое выделяется уникальным художественным осмыслением трагизма военного опыта. Поэзия Оуэна становится выразителем подлинных переживаний солдата, фиксирует ужас и абсурдность вооруженного конфликта. Важнейшую роль в поэтическом наследии автора играют образы смерти, выступающие символическим выражением физической гибели и разрушения моральных ориентиров человечества. В работе проводится детальный анализ семантики образов смерти и связанных с ними мотивов. Лирическое «я» выступает активным свидетелем происходящих событий, хотя иногда поэт прибегает к смене перспективы изложения, стремясь посмотреть на происходящее с разных ракурсов. Однако смена перспективы не меняет позицию лирического героя по отношению к происходящему. В поэзии У. Оуэна война лишает человека органов чувств не только в прямом смысле, но и в переносном. Он больше не может наслаждаться этой жизнью, поэтому в восприятии автора контраст между жизнью и смертью представлен не как строго бинарная оппозиция – нередко смерть воспринимается героем как сила, обладающая большей искренностью и сочувствием по сравнению с жизнью.
Окопная поэзия, Уилфред Оуэн, Первая мировая война, образ смерти, военная лирика
Короткий адрес: https://sciup.org/147252285
IDR: 147252285 | УДК: 811.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-3-114-121
Текст научной статьи Парадигмы гибели: поэтическое осмысление Первой мировой войны в творчестве У. Оуэна
В англоязычной историографической традиции за Первой мировой войной закрепился устойчивый эпитет «Великая», в то время как в отечественной научной и культурной среде аналогичный термин отсутствует. Такая асимметрия в номинации отражает глубинные различия в восприятии событий 1914–1918 гг. Наименование «Великая» в англоязычном контексте отсылает не только к масштабам конфликта, но и к тем катастрофическим последствиям, которые он вызвал: под сомнение были поставлены прежние каноны, казавшиеся незыблимыми, а их пересмотр стал неотъемлемой частью процесса переоценки культурных и политических оснований европейской цивилизации. Как справедливо отмечается в литературе, трагизм военного опыта стал точкой отсчета для переосмысления самого понятия «норма» в культуре XX в.
Одним из репрезентативных примеров подобного осмысления выступает концепция, сформулированная С. Хайнсом в его исследовании, посвященном судьбе поколения участников войны. Ученый конструирует модель, в которой молодые люди, обладающие романтическими представлениями о патриотизме, чести и славе, отправляются на фронт с целью спасения мира и установления демократических ценностей. Однако, оказавшись в реальности окопной войны, они переживают не только физическое и психологическое разрушение, но и утрату прежних иллюзий (см. подробнее: [Hynes 1990: 12–13]).
Сходную позицию занимает К. Астьер, который в контексте анализа литературных репрезентаций войны акцентирует внимание на внутреннем состоянии, конфликтности и категорическом отвержении традиционного: «В типичном произведении о Великой войне содержатся особенно напряженные и жестокие эпизоды... В самом повествовании раскрывается идея разрыва с прошлым и невозможности возвращения назад» [Austier 2003: 1076–1084; Hobsbawm 1994: 22].
Причины невозможности восстановления прежнего (привычного) мира после войны, как показывает ряд исследователей, многогранны. Во-первых, Первая мировая война стала первой глобальной войной, вызвавшей всеобщую мобилизацию, охватившую все слои британского общества. Согласно официальной статистике, Великобритания потеряла свыше 947 тыс. человек.
Однако современные историки, включая Тодма-на и Шеффилда, оспаривают эти цифры, ставя под сомнение как масштабы потерь, так и методы их фиксации [Todman 2005: 44; Sheffield 2002: 6].
В контексте культурного анализа война представляется как феномен мирового перехода, своего рода апокалиптический перелом. М. Элиаде, рассуждая о логике космологических мифов, предлагает рассматривать радикальные исторические события как моменты творения нового мира. Великая война в этом свете становится не просто военным конфликтом, а актом разрушения старого викторианского порядка и формирования новой реальности – жестокой, фрагментированной и травматической. По мнению британских культурологов, период между 1914 и 1918 г. может быть охарактеризован как «культурная травма» и «утрата национальной идентичности» [Troy 1997: 49–50].
Неудивительно, что в послевоенное десятилетие литературный дискурс о Великой войне стал способом осмысления и переработки травматического опыта. Эта травма, как показывает С. Хайнс, трансформировалась в активное литературное производство: период 1926–1933 гг. стал «золотым веком» военной литературы [Hynes 1990: 405–463]. Среди канонических текстов этого периода – «Прости-прощай всему этому» Р. Грейвза (1929), «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929) и др.
Ш. Монтей отмечает, что тексты о Первой мировой, особенно в жанрах автобиографии и воспоминаний, выполняли функцию создания новой культурной мифологии: «Посредством использования таких текстов <...> исторические события приобретали новый смысл» [Monteith 2002: 53]. Формирование так называемого канона «окопной поэзии» в 1960-е гг. сопровождалось выстраиванием иерархий: одни авторы, такие как Оуэн, Сассун, Сорли, Розенберг, Грейвз и Томас, были вознесены, другие – преданы забвению [Campbell 2005: 263–269].
В последующем литературоведческом дискурсе фигура «окопного» поэта заняла центральное место. Многие критики (Б. Бергонци, Д. Силкин, А. Лейн и др.) акцентируют внимание на том, что поэзия младших офицеров представляет собой особую форму художественного осмысления военного опыта, подчеркивая эволюцию от романтического энтузиазма к трагическому прозрению.
Эта трансформация в восприятии войны была зафиксирована в структуре повествования: от патетики – к сарказму, от риторики мужества – к осмыслению личной уязвимости. Этот переход рассматривается как духовное развитие, встраивающееся в структуру сценария – инициации (пусть и в его «отрицательной» разновидности).
Не менее значимым аспектом является структурная бинарность художественного пространства: оппозиция жизни и смерти, которая становится основным лейтмотивом поэтической репрезентации. В условиях фронта, где сама человеческая жизнь поставлена под угрозу, противопоставление этих категорий приобретает особую интенсивность.
На уровне поэтики важно отметить устойчивую бинарную оппозицию категорий жизни и смерти, что обусловлено экстремальными условиями существования в военное время. Этот мотив, как справедливо указывает Н. В. Павлович, реализуется через словесный поэтический образ, основанный на сближении противоположных понятий: «образ понимается как противоречие в широком смысле» [Павлович 2004: 14].
В творческом наследии Уилфреда Оуэна указанная концептуальная антитеза также находит отражение, при этом наблюдается асимметрия в репрезентации оппозитивных элементов: мотив смерти превалирует над мотивом жизни. Восхищение и очарование жизни появляется только в стихотворении “Strange meeting” («Странная встреча»):
Was my life also; I went hunting wild
After the wildest beauty in the world
[Оуэн 2012: 16]1.
Какая жизнь была! Какую оду
Слагал я красоте, разлитой всюду! (17)
Однако оно заканчивается призывом “Let us sleep now...” (18). Автор играет с ракурсом, лирическому герою снится сон, что он оказывается в подземелье, позднее герой понимает, что это настоящий ад. Темпоральная организация произведения характеризуется дуализмом: событийная канва, локализованная в сновидческом пространстве ада, соотносится с реальными событиями, при этом персонаж, встреченный в инфернальном пространстве, идентифицируется как противник, уничтоженный накануне:
Мой друг, я враг, тобой вчера убитый.
О, как ты страшен в стычке был минутной, Меня штыком вколачивая в снег.
Я ж так замерз, что выстрелить не смог.
Уснем же вместе... (19)
Соотношение реального и ирреального пласта помогает сменить оппозицию друг – враг на более компромиссную. Теперь они в равных условиях, и последняя строка выглядит как обращение не только к вечному сну, но и к примирению.
В стихотворениях У. Оуэна редко меняется ракурс повествования, как правило, лирический герой непосредственно является участником событий, находясь в окопе (“we cringe in holes” (52), “O Life, Life, let me breathe, – a dug-out rat!” (74)) или на полях сражения, однако в стихотворении “Strange meeting” описываются события в подземелье: “It seemed that out of the battle // I escaped Down some profound dull tunnel, long since scooped…” (16). Особенность “The show” («Шоу») заключается в том, что лирический герой меняет привычную перспективу и наблюдает за событиями с высоты:
My soul looked down from a vague height with Death,
As unremembering how I rose or why,
And saw a sad land, weak with sweats of dearth… (26)
С небесной вершины взирала душа моя вниз, Не ведая, как и зачем вознеслась в вышину, И видела скорбную землю, в испаринах слез (27).
При смене угла обзора характер эпизодов остается прежним, но с высоты солдаты предстают в виде мелких насекомых: “The removed thin caterpillars, slowly uncoiled. // It seemed they pushed themselves to be as plugs // Of ditches, where they writhed and shrivelled, killed” (26). Помимо смены ракурса автор также прибегает к приему сужения визуального поля: в стихотворении “Аpologia pro poemate meo” («Оправдание моей поэзии») лирический герой настолько погружен в окружающую действительность, что начинает видеть весь мир сквозь призму военных действий:
Whose world is but the trembling of a flare,
And heaven but as the highway for a shell... (24)
Когда весь свет – лишь вспышка орудийного жерла,
А небо – лишь просторная дорога для снаряда… (25)
В поэзии Оуэна оппозиция между смертью и жизнью приобретает особую значимость, поскольку смерть представляется более человечной и честной, чем жизнь. В данной бинарной оппозиции: «Где смерть абсурдна, ну а жизнь абсурднее стократно» (23); «Живой боец не слишком что-то жизнен, // Ну а мертвец не слишком что-то смертен…» (41).
Образ смерти окутывает всё пространство войны, даже если солдат живой, в понимании автора он уже мёртв, если находится на войне: «Мы возвращаемся в нашу смерть» (55), «Такой же мертвый, как мой взвод, навек сомкнувший вежды» (23). Творчество У. Оуэна отражает убеждение, что в условиях войны погибшие проявляют большую нравственную стойкость, чем выжившие, вынужденные переступать через человечность, что находит выражение в стихотворении “Spring offensive” («Весеннее наступление»):
Of them who running on that last high place,
Or plunged and fell away past this world’s verge, Some say God caught them even before they fell. But what say such as from existence’ brink Ventured but drave too swift to sink.
The few who rushed in the body to enter hell, And there out-fiending all its fiends and flames With superhuman inhumanities,
Long-famous glories, immemorial shames –
And crawling slowly back, have by degrees
Regained cool peaceful air in wonder –
Why speak they not of comrades that went under? (58)
О тех, кто рухнул на отвесный склон,
Твердили: Бог ловил их налету, Они не успевали в бездну пасть.
Но тот, кто отлетел за край земли,
Кого святые силы не спасли,
Кто угодил в пылающую пасть
И, одолев всех демонов в аду
Жестокостью своей бесчеловечной,
К триумфу своему или стыду
Приполз обратно по земле увечной,
Дивясь, что вот – не ранен, не убит, –
Что ж о погибших он не говорит? (59)
Исследователи отмечают, что сам способ ведения войны тоже становится бесчеловечным, имея в виду использование ядовитого газа (стихотворение “Dulce et decorum est”): «Казалось, что научно-фантастический кошмар, прямо как из романа Герберта Уэллса, становится явью. Противогазы даже лишали бойцов последних признаков индивидуальности, превращая их всех в чудовищных существ» [Robb 2002: 197]. Привычная парадигма взглядов изменилась: если раньше война позволяла проявить храбрость или боевые навыки, то Первая мировая война становится переломной и с точки зрения вооружения: «“Устаревшие концепции власти” и преднамеренная романтизация войны – использование таких метафор, как “выхватывание меча”, когда фактическим оружием являются гаубицы, огнеметы и отравляющий газ, – вступают в сговор с материализмом “хищной жадности” и скрывают его, чтобы создать демонический, ненасытный империализм, который является реальной движущей силой немецких военных усилий» [Roshwald, Stites 2002: 151].
Смерть не персонифицирована, она не имеет конкретного облика, не предстает в развернутом метафорическом образе, однако она рядом: «Пожалуй, на свете никто не умеет сильней утешать, // Чем кроткая смерть, в изголовье усевшаяся на кровать» [Оуэн 2012: 21].
Одним из первых представителей «окопных» поэтов стал Руперт Брук, который в своей лирике превозносил и романтизировал героизм на войне: «вдохновленный полученным боевым опытом, он написал пять военных сонетов, которые сначала сделали его знаменитым, а затем, напротив, стали причиной критики, т. к. были расценены в качестве яркого примера наивного патриотизма» [Акулинин 2015]:
Когда в бою умру я на чужбине, Считай, что уголок в чужих полях Навек стал Англией, что там отныне В чужой земле лежит английский прах [Поэты XX века 1965: 34].
Таких авторов, воспевающих войну или прикрывающих ее христианской символикой, было достаточно. В книге Г. Робба «Британская культура и Первая мировая война» отмечено: «Стихи, подобные этому, обычно вызывали гнев у солдат, которые считали, что религиозные выражения лишь маскируют ужасную реальность окопов. Особенно возмутительными были призывы гражданских лиц, которые ничего не знали об ужасах войны и которым самим ничего не грозило. “Зов” Джесси Поуп – типичный пример» [Robb 2002: 149].
В стихотворениях У. Оуэна стремление погибнуть за свою страну воспринимается как жалкая насмешка, а сама эта мысль выглядит неуместной:
My friend, you would not tell with such high zest To children ardent for some desperate glory, The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori (44).
Мой друг, ты не сказал бы никогда
Тем, кто охоч до ратного труда, Мыслишку тривиальную одну:
Как смерть прекрасна за свою страну! (45)
Война разрушает человека, доводит до исступления, силы природы зачастую вступают в противовес театру военных действий, однако у У. Оуэна образ природы двойственен. В ряде стихотворений – “Mental cases” («Душевнобольные»), “Insensibility” («Твердокожесть») – образ природы дорисовывает неприглядную окружающую действительность: «Ночь для них отныне дочерна кровава, // А заря открытой раной кровоточит» (29), «Тяжелый завершая переход // От света к тьме – с восхода на заход» (41). Даже природа погружается от света во мрак, но не наоборот. Такая двойственность сил природы может говорить о том, что созидательная сила не готова смириться с нарушениями законов естества, которые совершают люди, поэтому она не может их поддерживать. С другой стороны, природа является фоном, на котором разворачиваются военные действия, как в стихотворении “Futility” («Тщетность»):
Move him into the sun –
Gently its touch awoke him once, At home, whispering of fields unsown.
Always it woke him, even in France… (66)
Мой друг, подвинься к солнышку скорей: Пусть приголубит в сонной тишине
Под шепот незасеянных полей,
Как прежде, во французской стороне (67).
О пасторальном значении природы пишут зарубежные исследователи, в частности, П. Фасселл в работе «Великая война и современная память» отмечает: «Здесь пасторальные детали используются как утешение. В “Под шквальным ветром” (“Exposure”) Уилфреда Оуэна они используются как эталон. Действие происходит ужасной зимой 1917 года. Оуэн и его замерзающие люди прячутся в передних ямах во время снежной бури» [Fussel 2005: 276].
В “Spring offensive”, несмотря на красоту природы, чувствуется наступающая опасность:
For though the summer oozed into their veins Like the injected drug for their bones’ pains, Sharp on their souls hung the imminent line of grass,
Fearfully flashed the sky’s mysterious glass (56).
И лето под жужжанье диких ос
Вливало в кровь целительный наркоз.
Но облака клубились тяжело:
Грозой сверкало синее стекло (57).
В стихотворении “The End” («Конец») природа является полноценным действующим лицом, страдающим от войны:
And when I hearken to the Earth she saith
“My fiery heart sinks aching. It is death.
Mine ancient scars shall not be glorified
Nor my titanic tears the seas be dried” (86).
А от земли я услыхал ответ:
«На мне живого места просто нет –
Сплошь выжжена огнем душа моя, Лишь слезные не высохли моря» (87).
Несмотря на то что образ природы амбивалентен по отношению к лирическому герою, он находит спасение только в слиянии с ней, медленно превращаясь в траву и цветы:
Spring wind would work its own way to my lung, And grow me legs as quick as lilac-shoots <…> Soldiers may grow a soul when turned to fronds, But here the thing’s best left at home with friends (72–76).
Пусть навевает ветерок душистый зной
И пусть растут мои обрубки, как сирень <…> Солдатская душа цветет среди листвы,
А сердце дремлет у родного очага (73–77).
В условиях войны человек подвергается не только моральным, но и физическим изменениям. Зачастую У. Оуэн описывает потерю органов чувств: зрения, слуха и способности говорить. В стихотворении “The sentry” («Часовой») боец, находящийся на посту, из-за немецких бомб лишается зрения:
Coaxing, I held a flame against his lids
And said if he could see the least blurred light
He was not blind; in time he’d get all right.
“I can’t,” he sobbed. Eyeballs, huge-bulged like squids (46).
И я поднес огонь к глазам незрячим:
Мол, если свет хоть капельку белеет, То скоро все пройдет, и он прозреет.
«Нет!» – бельма он выпучивал по-рачьи (47).
Война лишает человека возможности слышать, видеть и говорить: «Когда я встречаю глаза, ослепленные пулей моей» (21), «Отчего такая жуткая тревога // Из глазниц полуизъеденных сочится (29), «Как вылезают бельма из глазниц» (45), «Его глаза бессонница сожгла» (63), «Как голос того, кто безмолвствует ныне в потемках-могил, // Поскольку сырой глинозем его жалоб- ный рот залепил» (21). Даже если герой остается жить, его восприятие окружающего мира навсегда изменено. Однако для лирического героя У. Оуэна потеря чувствительности становится признаком для сближения с этим человеком:
Heart, you were never hot,
Nor large, nor full like hearts made great with shot;
And though your hand be pale,
Paler are all which trail
You cross through flame and hail:
Weep, you may weep, for you may touch them not (20).
Мне ближе лишь тот, кто навеки безгласен, незряч ,
Кто тащит свой крест через пламя невзгод, через град неудач.
Тебе не дано прикоснуться к нему, и поэтому – плачь (21).
Парадигма гибели в творчестве У. Оуэна ярко и реалистично изображает смерть человека на войне, причем не только смерть на поле боя, но и неприглядные случаи армейского самоубийства. Образы жизни и смерти всегда являются контрастными, однако Уилфред Оуэн не отдает предпочтение жизни в соотношении со смертью. Даже если герой выживает, после всего пережитого смерть выглядит единственным выходом. Говоря о гибели человека на войне, стоит отметить не только физически неприглядные стороны смерти, но и моральные дилеммы.