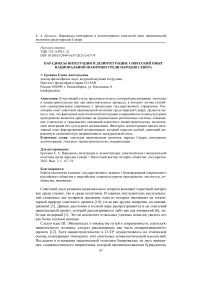Парадоксы интеграции и дезинтеграции: советский опыт национальной политики среди народов севера
Автор: Ерохина Е.А.
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье предложен подход, который рассматривает этногенез и нациестроительство как два самостоятельных процесса, в которых логика стихийной самоорганизации сопряжена с процессами государственного управления. Рассмотрен опыт советской национальной политики среди народов Севера. Делается вывод о том, что факторами межэтнической интеграции в евразийском социокультурном пространстве являются ориентация на традиционные религиозные системы, совмещение этнических и гражданских оснований советского нациестроительства, политическая интеграция без культурной ассимиляции. Фактором дезинтеграции явился негативный опыт форсированной модернизации, который породил особый, имеющий выраженную антисоветскую направленность дискурсивный стиль.
Советская национальная политика, народы севера, интеграция, дезинтеграция, этногенез, нациестроительство, модернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/148327287
IDR: 148327287 | УДК: 323.1(470.1/.2) | DOI: 10.18101/2949-1657-2023-2-67-74
Текст научной статьи Парадоксы интеграции и дезинтеграции: советский опыт национальной политики среди народов севера
Ерохина Е. А. Парадоксы интеграции и дезинтеграции: советский опыт национальной политики среди народов Севера // Восточный вектор: история, общество, государство. 2023. Вып. 2. С. 67–74.
Работа выполнена в рамках государственного задания «Трансформация современного российского общества в евразийском социокультурном пространстве: институты, сообщества, индивиды».
Советский опыт решения национального вопроса вызывает серьезный интерес как среди ученых, так и среди политиков. В оценках постсоветских исследователей сложились две полярные традиции, одна из которых настаивает на тоталитарной природе советского проекта [10], тогда как другая, напротив, на инновационной [5]. Данная дихотомия в полной мере распространяется и на советский национальный проект, который рассматривается либо как как имперский [6], либо как модерный [1]. Это не исключает отдельных удачных попыток увидеть его как более сложное явление.
Следуя идее Ш. Эйзенштадта о множестве путей к современности, советскую национальную политику следует рассматривать как часть модернизационного проекта [12]. Хотя нациестроительство в СССР осуществлялось на этнической основе, конкуренция этнических элит смягчалась коммунистической идеологией. Последняя в отношении национальной политики базировалась на двух принципах: социалистического патриотизма, который противопоставлялся буржуазному национализму, и пролетарского интернационализма, семантическим антиподом которого стал космополитизм.
Базовыми чертами советской модели национального строительства можно считать идейные установки, проводимые коммунистической партией Советского союза (КПСС), в решении «национального вопроса»: 1) ориентация на некапиталистический путь развития; 2) фактическое признание коллективной субъектности, что логично вытекало из понимания прав и свобод личности как части коллективного целого; 3) целенаправленное формирование гражданской общности, «советского народа» и соответствующего гражданского самосознания [7].
Однако стратегия движения к заявленным КПСС целям испытывала маятниковые колебания под влиянием одной из двух социокультурных альтернатив. Первая альтернатива, назовем ее условно «рывком в современность», связана со стремлением преобразовать народы СССР в «нормальные нации» как в Европе, сохранявшей статус цивилизационного ориентира. Вторая альтернатива, назовем ее «сочувственной», исходила из представления о необходимости сохранения традиционной культуры, репрезентации которой сохраняли черты идеализации.
Несмотря на радикальную смену эпистемологической матрицы в отечественной этнологии 1990-х гг. и отказ ряда авторитетных ученых признавать за концептами «этнос» и «народ» право на академический статус, проблемы этногенеза и его влияния на процессы национального строительства по-прежнему остаются актуальными. В выступлениях президента Ассоциации антропологов и этнологов России, академика В. А. Тишкова, сомнению подвергается не только академическая уместность использования концепта «этнос», но и его политическая безупречность [11, с. 501]. Причина неудачи советского проекта заключается, считает он, в последствиях национально-территориального размежевания и корени-зации элит.
Несмотря на его критику советской теории этноса, в 2010-2020-х гг. происходит переосмысление традиций отечественной этнографии, в том числе и эмигрантской. В частности, в 2021 г. опубликованы ранее недоступные работы С. Широкогорова, автора термина «этнос» в его современном значении [2].
В статье предложен подход, рассматривающий этногенез и нациестроитель-ство как два самостоятельных процесса, в которых логика стихийной самоорганизации сопряжена с процессами государственного управления, движение к заявленной цели — социально-структурному выравниванию параметров советских наций — сопровождалось травмой модернизации. Идея равенства и права всех народов на самоопределение, которая питала советский проект, идея, предполагавшая «выравнивание» условий их развития, и помощь когда это необходимо, «отстающим» на пути к современности, в своей реализации была сопряжена с практиками жесткой трансформации институтов этнической самоорганизации. Как и всякая травма модернизации, советский переход к современности оставил противоречивое наследство, и попытка изжить эту травму, преодолеть ее, смирится с ней, переосмыслить ее в бинарном ключе не закончена до настоящего времени.
Вышеназванное в полной мере относится к практикам ускоренной модернизации Советского Севера и его коренных народов. Сам характер противоречий между ускоренной модернизацией и попыткой не допустить разрыв социальной ткани, вызывающий болезненное напряжение, можно рассматривать в двух перспективах: институциональной и семиотической. Первая перспектива — институциональная, позволяет увидеть процесс преобразований на Севере как маятниковое движение от форсированной модернизации к тому, что сами информанты называли «благополучной жизнью» // «добрыми временами», и обратно. Здесь исследователи выделяют следующие этапы [4].
Первый период — начало социалистических преобразований, когда был взят курс на преодоление отсталости, избавления от разнообразных форм неравенства между народами одной страны. В этот период были заложены основы политики советского государства в отношении народностей Севера. К ним относится, в частности, положение теории национальных отношений В. И. Ленина о возможности перехода народов, отставших в своем историческом развитии, к социализму, минуя капитализм. Так, из доклада В. И. Ленина на комиссии Коминтерна по национальному и колониальному вопросу (1920) следует, что «Коммунистический интернационал должен установить и теоретически обосновать то положение, что с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития» [9, с. 246]. Это ленинское положение о некапиталистическом пути развития отсталых народов нашло свое выражение в решениях X (1921 г.) и XII (1923 г.) съездов ВКП(б).
С другой стороны, в логике партийных резолюций о невозможности самостоятельно использовать северными народами своего права на развитие без помощи извне обращает на себя внимание тезис о том, что данная потребность не вытекала из уровня их развития накануне Октября 1917. Следовательно, именно образование социалистического государства с его политикой всемерной помощи менее развитым народам явилось решающим условием особого исторического пути — «сокращенного» перехода к социализму» [8, с. 29–30].
Таким образом, можно констатировать, что корни советского утопизма питались идеей своеобразного «прогрессорства», которое по мере реализации модернизационного проекта приходило в противоречие с романтической идеей «естественного человека». С точки зрения семиотической перспективы крайне интересно посмотреть на это маятниковое колебание прогрессорского и сочувственного взгляда на преобразование в среде северных аборигенов. Оппозиция авангардной стихии революции против идеи естественного человека и его мироце-лостности в известной мере возвращает нас к спору просветителей и романтиков.
Экстраполируя просветительские и романтические проекты на практику социалистического строительства в СССР, можно легко обнаружить противоречие меж- ду жесткой логикой прогресса как целенаправленного, поступательного, алгоритмизированного процесса и идеей многообразия перехода к новой жизни. Ключевой пункт разногласий заключается в оценке традиции: достойна ли она сохранения? Или движение к идеалу предполагает беспощадное преодоление всех пережитков?
Национальная политика в отношении народов Севера четко фиксирует указанные маятниковые колебания. Так, например, по мнению С. В. Виноградовой, первый этап, сопряженный с национальным размежеванием в 1930-е гг. — середине 1940-х гг., можно охарактеризовать как этап форсированной модернизации и сплошной коллективизации. Ее отличительная черта — формирование отрядов национальной интеллигенции, интенсивная культурная революция, коренизация управленческих кадров наряду с ограничениями для выходцев из определенных социальных групп, признанных советской властью эксплуататорскими. В это время начинается переход к оседлости, зачастую насильственный, так как кочевой образ жизни признан отсталым, несоответствующим советскому порядку.
Середина 1940 — конец 1950-х гг. — это период, называемый информантами Виноградовой «добрыми временами», характеризуется временной стабилизацией административно-управленческой политики и улучшением материального положения. Коллективные хозяйства, как правило, небольшие, располагались на территориях традиционного проживания, что сохраняло систему родового расселения и экономическую специализацию в соответствии с традиционным укладом [4, с. 134].
Крутые изменения начались на рубеже 1950–1960-х гг. и оказались связаны не только с индустриальным освоением Севера, но и с новыми веяниями в развитии плановой экономики. После постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» начался новый период1. Был объявлен курс на интенсификацию сельского хозяйства. Мелкие национальные хозяйства коренных народов Севера признавались нерентабельными, и в качестве перспективного направления их развития предлагалось укрупнение (объединение) колхозов либо их огосударствление (преобразование в совхозы и госхозяйства).
Процессы преобразования предприятий сопровождались ликвидацией мелких удаленных поселений и массовыми переселениями коренных народов в более крупные населенные пункты. При этом на новых местах переселенцы сталкивались с многочисленными проблемами: нехваткой рабочих мест и жилья, изменением социального статуса, языковыми трудностями. Недоступными становились многие родовые угодья, промысел, который традиционно играл существенную роль в экономике домохозяйств народов Севера. Одновременно с этим началась активная борьба с кочеванием. Семьям и родам теперь предписывалось постоянно проживать на новых местах, а работы в оленеводстве переводились на вахтовый метод. Активное внедрение интернатской формы обучения детей нанесло непоправимый урон традиционным институтам коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [4, с. 134].
Развитой социализм или застой (1970-е — начало 1980) в национальной политике стал временем «расцвета и сближения» социалистических наций. В связи с 50-летием социалистической революции в 1967 г. был сделан вывод о построении в СССР развитого социалистического общества. В логике «расцвета и сближения наций» в СССР осуществлялась целенаправленная политика на уменьшение диспропорций между центром и периферией, на стирание различий в образовательном уровне и социально-профессиональном составе разных народов СССР.
В отношении коренных народов преобладала политика абсолютного патернализма. Фактически регулирование положения коренных народов было сведено к мерам по поддержке оленеводства, которое в эти годы было устойчивым и рентабельным благодаря тому, что государство уделяло ему большое внимание. Основной сферой занятости оставалось сельское хозяйство, в отраслевом отношении ориентированное на традиционные промыслы. Улучшилось материальное положение людей, в том числе благодаря централизованным закупкам. Бригады получали финансовую поддержку и обеспечивались техникой: снегоходами, радиостанциями. Хорошо была налажена транспортная инфраструктура, в том числе малая авиация. При этом в отношении всех народов Севера отмечается тенденция к увеличению доли работников умственного и механизированного труда в структуре занятости.
Вместе с тем высокие темпы промышленного освоения и миграция значительного числа некоренного населения сыграли свою негативную роль в деградации традиционной культуры. В 1960-х гг. во всех школах, расположенных в местах компактного проживания коренных народов, прекратился процесс обучения на родном языке. Осуждались их традиции, обычаи и верования.
С точки зрения семиотической перспективы осмысление «травмы» модернизации как социальной драмы, отразившейся в первую очередь на советском селе, начинается в 1960-1970-е-х гг. в искусстве, общественных движениях, процессах национального возрождения. Они не оставили в стороне академическую науку. Появляются новые области знания, например, этносоциология, которая приобретает статус самостоятельной дисциплины благодаря деятельности московских (Ю. В. Арутюняна, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, А. А. Сусоколова) и региональных, в том числе сибирских, ученых (А. Ф. Фелингера, В. И. Бойко, И. В. Удаловой, В. Г. Костюка, Г. С. Гончаровой). Параметры национальной политики неискаженно выявлялись ими через анализ социально-профессиональной структуры советских наций [3, с. 67]. Близость и сходство социально-структурных параметров двух и более этнических групп позволяли говорить о выравнивании условий их развития, тогда как иерархические различия — напротив, об углублении дистанции между ними. Преодоление неравенства, социальное познание, социальное служение ученого — все эти идеалы сохраняли свое значение для этносоциологов, этнографов, фольклористов.
Наряду с этим усиливался мотив возвращения к «неискаженной подлинности» некоей аутентичной традиции. В полный голос заявил о себе консервативный культурный проект, наиболее объемно представленный в творчестве писателей-деревенщиков (Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, В. Шукшин, А. Солженицын). Советская национальная политика в существующих реалиях не давала ответа на вопрос о том, является ли этничность нашим прошлым или нашим настоящим. По мере ослабления идеологического надзора за религиозной сферой жизни советских граждан они активно возвращались к культовым практикам своих традиционных религий.
Таким образом, противоречия советского модернизационного проекта несут в себе универсальные для перехода к современности черты конфликта между идеей научно-технического прогресса и сохранения мироцелостности сообществ. Общее незначительное улучшение материального положения представителей северных народов в условиях нового этапа интенсивного освоения природных ресурсов не смогло в полной мере компенсировать утрату родного языка как языка повседневного общения и образования, сокращения населенных пунктов компактного проживания и угодий для традиционных промыслов. Перестройка частично вернула привлекательность национального образа жизни, однако отказ государства от политики патернализма в отношении северных этносов в годы рыночных реформ 1990-х гг. «съел» значительную часть благоприобретений. В 1990-е гг. начался новый, постсоветский этап модернизации со своими отличительными чертами и уникальными «травмами».
В новых социокультурных реалиях советский опыт требует учета с точки зрения факторов интеграции и дезинтеграции российского социума. Семиотическим фактором интеграции следует признать учет мироцелостности его народов и влияние цивилизационных детерминант: ориентация на традиционные религии, русско-национальный билингвизм, интеграция без ассимиляции. К институциональным факторам интеграции следует отнести практики формирования советской гражданской идентичности, позволяющие непротиворечиво сочетать нацие-строительство на этнической и политической основе. Выраженный идеологический контекст советской национальной политики был сопряжен с конкретными мерами, направленными на выравнивание уровня образования, образа жизни и возможностей социальной мобильности советских граждан — представителей разных народов. Институциональными трансформациями, приведшими к дезорганизации, стали принудительная смена образа жизни, культурная гомогенизация, воинствующий атеизм. Семиотическим фактором дезинтеграции явился негативный опыт форсированной модернизации, который повлек за собой переоценку всего советского наследия в постсоветский период. Коллективная память о травме модернизации породила особый, имеющий выраженную антисоветскую направленность дискурсивный стиль.
Список литературы Парадоксы интеграции и дезинтеграции: советский опыт национальной политики среди народов севера
- Аманжолова Д. А. К вопросу о формировании советского народа: политика и этничность // Труды Института российской истории РАН. 2015. № 13. С. 194–216. Текст: непосредственный.
- Арзютов Д. В., Андерсон Д. Дж., Подрезова С. В. Путешествия через сибирскую степь и тайгу к антропологическим концепциям: этноистория Сергея и Елизаветы Широкогоровых. Москва: Индрик, 2021. Т. 1. 544 с. Текст: непосредственный.
- Арутюнян Ю. В. Выступление на круглом столе «Национальные процессы в СССР: итоги, тенденции, проблемы» // История СССР. 1987. № 6. С. 67–70.Текст: непосредственный.
- Виноградова С. Н. Формирование государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: ретроспективный анализ // Труды Кольского научного центра РАН. 2010. № 2. С. 127–139. Текст: непосредственный.
- Галушка А. С., Ниязметов А. К., Окулов М. О. Кристалл роста: к русскому экономическому чуду. Москва: Наше завтра, 2021. 360 с. Текст: непосредственный.
- Герасимов И., Могильнер М., Глебов С. Новая имперская история Северной Евразии. Ч. 2. Балансирование имперской ситуации. XVIII–XX вв. Казань: AbImperio, 2017. 630 с. Текст: непосредственный.
- Ерохина Е. А. Сибирский вектор внутренней геополитики России. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2012. 418 с. Текст: непосредственный.
- Концепция социального и экономического развития народностей Севера на период до 2010 г.: сборник научных трудов / ответственный редактор В. И. Бойко. Новосибирск, 1989. 128 с. Текст: непосредственный.
- Ленин В. И. Доклад Комиссии по национальному и колониальному вопросам. II Конгресс Коммунистического Интернационала // Полн. собр. соч. 5-е изд. Москва: Изд-во полит. лит-ры, 1981. Т. 41. С. 242–247. Текст: непосредственный.
- Пивоваров Ю. С. «… И в развалинах век» // Полис. 2011. № 6. С. 52–77. Текст: непосредственный.
- Тишков В. А. Да изменится молитва моя: 30 лет спустя // XIII Конгресс этнологов и антропологов России: сборник материалов (Казань, 2–6 июля 2019 г.). Москва; Казань, 2019. С. 498–506. Текст: непосредственный.
- Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование общества. Сравнительное изучение цивилизаций. Москва: Аспект-Пресс, 1999. 416 с. Текст: непосредственный.