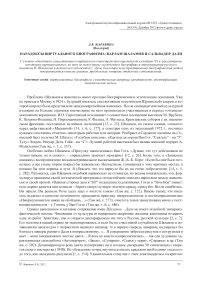Парадоксы виртуального биографизма: Варлам Шаламов и Сальвадор Дали
Автор: Жаравина Лариса Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
С учетом объективно существующего виртуального пространства европейской культуры XX в. рассмотрены некоторые иррациональные, но тем не менее явные схождения в биографиях и мироощущении русского писателя В. Шаламова и испанского художника С. Дали, благодаря чему традиционный биографический метод поворачивается новыми гранями, преодолевая эмпирику отдельных сопоставлений.
Виртуалистика, биографизм, семантическая матрица, креативность, идентификация, поведенческая модель
Короткий адрес: https://sciup.org/14821821
IDR: 14821821
Текст научной статьи Парадоксы виртуального биографизма: Варлам Шаламов и Сальвадор Дали
Проблема «Шаламов и живопись» имеет прочные биографические и эстетические основания. Уже по приезде в Москву в 1924 г. будущий писатель стал активным посетителем Щукинской галереи, в которой широко была представлена западноевропейская живопись. После семнадцатилетней культурной изоляции на Колыме огромное впечатление на него производили участившиеся в период «оттепели» московские вернисажи. И.П. Сиротинская вспоминает о совместном посещении выставок М. Врубеля, К. Петрова-Водкина, Н. Пиросманишвили, Р. Фалька, А. Матисса, Кремлевских соборов с их знаменитыми фресками, постоянных музейных экспозиций [12, с. 25]. Шаламов, по своим словам, «ошалел» перед рафаэлевской «Мадонной» [14, т. 6, с. 177], а осмотрев одну из экспозиций 1972 г., посчитал нужным «поставить отметки» некоторым работам и их авторам: Рембрант и Сарджент оценены на «3», высший балл получил М. Шагал с «Голубым ангелом». «Как всегда хорош Ван Гог, “Сеятель” – на “5”. Тулуз Лотрек, Ренуар, Дега, Гойя – на “4”». Лучшей работой выставки был назван женский портрет А. Модильяни (Там же, т. 5, с. 337).
Особенно любил Шаламов «Прогулку заключенных» Ван Гога. «Думаю, что тут действовали не только краски, но и сюжет», – справедливо замечает мемуарист [12, с. 26]. Более того, в «Записных книжках» воспроизведено весьма нетривиальное высказывание Ж.-Б.-К. Коро: «Если бы мне было позволено, я все стены тюрем покрыл бы живописью. Несчастным, томящимся в этих мрачных местах, я показал бы мои деревья и луга. Я убежден, что это вернуло бы их на стезю добродетели» [14, т. 5, с. 282]. Разумеется, сам Шаламов подобной наивностью не отличался, но весьма показательно, что, формулируя принципы своей эстетической программы, он настойчиво поводил параллели между живописью и своей прозой. «Важная сторона дела в “КР” подсказана художниками. Гоген в “Ноа-Ноа” пишет: если дерево кажется вам зеленым – берите самую лучшую зеленую краску и рисуйте. Вы не ошибетесь. Вы нашли. Вы решили. Речь здесь идет о чистоте тонов» (Там же, с. 152). Важно также, что писатель выделял в качестве позитивного прецедента практику импрессионизма и постимпрессионизма: «Импрессионистов никак не обойдешь…» (Там же, с. 277); «чистота тонов заимствована мною у постимпрессионистов – у Гогена, у Ван Гога» (Там же, т. 6, с. 486).
Однако вынесенное в заглавие сопряжение имен Шаламов – Дали не имеет подобной эмпирикофактической основы. Чиновники от культуры игнорировали искреннее желание живописца подарить одну из работ Эрмитажу, как и открыто декларируемую им тягу к России, русской культуре [2, с. 7]. Его полотна в нашей стране не экспонировались, а если бы по счастливой случайности Шаламов и познакомился мимоходом с творчеством великого испанца, то в первую очередь, наверное, подчеркнул бы близость манеры раннего Дали к импрессионизму. «…Я совершенно забросил рисунок и погрузился в цвет – меня завораживают чистые цвета… Я весь во власти импрессионизма», – так сам художник характеризовал свои работы «Автопортрет», «Закат», «Сумерки», «Семья у моря», «Сардана» и др. (Там же, с. 502). Доминирующую роль цвета подчеркивал он и позднее, раскрывая 50 «магических» секретов своего мастерства (1948). По убеждению мэтра, научиться писать красками необходимо «задолго» до того, как овладеешь рисунком [1, с. 154]. Удивительное созвучие с этим девятнадцатым «секретом»
испанского живописца мы находим в стихотворении Шаламова: Не линия и не рисунок, / А только цвет / Расскажет про лиловый сумрак, / Вечерний свет. / И вот художника картины / Со стен квартир / Звучали как пароль единый / На целый мир [14, т. 3, с. 406]. «Удачная находка цвета» на шедеврах из Дрезденской галереи не просто радовала глаз, но придавала, по словам Шаламова, идеям и ощущениям, «одетым» в цвет, законченную художественную форму (Там же, т. 6, с. 176).
Конечно, вербальная цветообразность самого писателя была определена и ограничена спецификой изображаемой действительности. В частности, такая традиционно-важнейшая художественная деталь, как цвет глаз литературного персонажа, не могла быть акцентирована писателем: «Разве для любого героя “Колымских рассказов” – существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не аберрация моей памяти, а существо жизни тогдашней» (Там же, с. 493). Требование «чистоты тона», спроецированное на колымское творчество, скорее означало лаконизм, сюжетнокомпозиционную четкость, некоторую стилистическую «сухость» и графичность.
Тем не менее общий язык писатель и художник вполне могли бы найти в изображении природных явлений. Сальвадор Дали (секрет 34) считал зелень, причем «изумрудную», «маршалом всех зеленых красок и генералиссимусом нашей палитры» [1, с. 212]. «…Если дерево кажется вам зеленым – берите самую лучшую зеленую краску…» – так же, как отмечалось, советовал и Шаламов. Если пристрастие Дали к данному цветообозначению можно счесть субъективно-оправданным, то совет Шаламова, на первый взгляд, представляется логически избыточным: какой еще может быть хвойная растительность Крайнего Севера? Однако дело не только в ее естественной окраске. «Зеленым прокурором» названа тайга в целом, ибо именно она делает побег лагерника в принципе невозможным, убивая или (если повезет тому быть пойманным живым) добавляя новые сроки. Именно поэтому зелень зелени рознь. Зеленым может быть «крик ожога» [14, т. 3, с. 377], «сила» океана, зовущая своей изумрудной глубиной; «кровь у людей – зелена» (Там же, с. 398); а «зеленоватые» колымские сопки (Там же, т. 2, с. 111) с сотнями зарытых в их недра мертвецов вписываются в апокалиптическую колористику смерти. Зеленый цвет легко мимикрирует: зеленая плесень на деревьях только кажется живой, «символом весны», а в действительности «это цвет дряхлости, цвет тленья», что наглядно доказывает «сходство жизни и смерти» (Там же, с. 136). Однако главным цветом, как и у Дали, из всей гаммы зеленых тонов является все же изумруд, только отнесенный Шаламовым не к пейзажным, а к соматическим реалиям, тому феномену, который в зрелый период творчества довольно часто воспроизводил художник. Его называют скатологическим ( греч. ), т.е. связанным с физиологическими выделениями, и в этом плане показательна картина «Мрачная игра» (1929), вызвавшая брезгливое отторжение эстетов, ибо на переднем плане был изображен человек в испачканном исподнем. У живописца конкретизация была явно провокационной и отношения к жизненно важным проблемам не имела. Зато у Шаламова имела самое непосредственное. Достаточно вспомнить один из его лучших рассказов «Перчатка». Для того чтобы дизентерийный лагерник смог попасть на больничную койку (топчан), было необходимо, чтобы его прямая кишка «предъявила» врачу «документальный» комочек «спасительной» слизи, выплюнула «дизентерийный самоцвет». И этот «зеленовато-серый, с кровавыми прожилками изумруд» (Там же, с. 285) был драгоценней любого самого драгоценного камня, ибо давал право на элементарную медицинскую помощь, отдых от изнурительных каторжных работ. Собственно говоря, и «Мрачная игра» скандально распахнула перед Дали двери в неизведанное – сюрреализм. Вещи, конечно, несопоставимые, но все же… Ни в первом, ни во втором случае, говоря словами Шаламова, о какой-либо неловкости, тем более стыде не может быть разговора: «Стыдно – это понятие слишком человеческое» (Там же, с. 291). А в лагерных лабиринтах, как и в лабиринтах сюрреалистических, одерживали верх чаще всего инстинкты. «…Человеческий тип синантропа немногим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете», – был убежден Шаламов (Там же, т. 4, с. 9). Дали смотрел несколько оптимистичнее, ибо в его сознании «золотой» век все же существовал: это эпоха Возрождения, единственная, «что вознесла свои купола в ответ небу». Однако теперь «дух бесприютен, а душа пуста», духу нечем защититься «от смерти и вечности, он безоружен» [2, с. 176].
Мы найдем и другие точки соприкосновения художественных принципов Дали и Шаламова. И тем не менее вопрос о сближении двух мастеров – это вопрос из области предположений, точнее, исследовательской рефлексии; скорее всего Шаламов даже не знал имени испанского сюрреалиста, как и самого понятия сюрреализм (в отличие от импрессионизма). А если бы и познакомился хотя бы с сюрреалистическими опытами, то воспринял бы их в контексте формализма, к которому отношение его, прошедшего школу ОПОЯЗа, было позитивным: «напрасно у нас так ругают формалистов. Ведь формализм в западном <…> обществе есть прежде всего неприятие окружающего мира» [14, т. 6, с. 192].
Конечно, человеческой истории знакомы «странные сближения» (А.С. Пушкин), как и случайные совпадения. Но только с позиций синергетических представлений о природе креативности, выходящих за пределы позитивистской рационализации вербального и визуального образов, представляется вполне естественным сопоставление эмпирически не сопоставляемых ментально-эстетических параметров разноприродных художественных систем. Отсюда иные точки отсчета, иная форма аргументации, иногда мимикрируемая под традиционную. В частности, основания для параллели Шаламов – Дали дают некоторые факты биографического плана, но в высшем метафизическом измерении. Как ни абсурдно (с позиций рационалиста), жизненный опыт писателя и художника во многом формировался в рамках однотипной психосемантической матрицы.
Сначала обратимся к жаркой Каталонии. На ассоциации биографического плана намекает постоянно варьирующийся в творчестве Дали образ отца, дона Сальвадора Дали-и-Куси, в «роли» Вильгельма Телля, целящегося, согласно интерпретации художника, не в яблоко на голове сына, а в него самого. Жесткая и жестокая экстремальность данной ситуации очевидна. И как мы знаем, сам художник неоднократно находился в подобном положении, в частности, из-за неприятия почтенным нотариусом Фигераса сыновней связи с неразведенной женой Поля Элюара – Галой. «Он – несчастнейшее существо и не ведает, что творит. Притом – он образцовый, бесстыжий негодяй <…> Он настолько утратил стыд и совесть, что живет теперь на содержании чужой жены – при попустительстве мужа <…> Только представьте, как унизительно для нас это непотребство», – писал Дали-отец Федерико Гарсиа Лорке через год после разыгравшейся семейной драмы на фоне других скандальных «непотребств» сына [2, с. 617]. «Тогда-то я почувствовал у себя на голове яблоко Вильгельма Телля…» (Там же, с. 186), – это суждение художника отразилось на его картинах, составивших своеобразный триптих: «Вильгельм Телль» (1930), «Старость Вильгельма Телля» (1931), «Загадка Вильгельма Телля» (1933), а также в рисунках и эскизах 1930-х гг.
Изображенный на полотнах легендарный стрелок выглядит по-разному и практически одинаково – смехотворно-грозно. Так, на первой картине он гигантского роста, но босой и в коротких штанишках. На второй – это порочный старец в компании двух молодых женщин, в которых исследователи видят намек на дочерей Лота. Сюжет третьей картины поистине загадочен: здесь «отец» изображен с младенцем на руках, в жилете-панцире, с обнаженной нижней частью тела и омерзительно вытянутой ягодицей, поддержанной костылем, но с лицом Ленина в кепке, козырек которой также непомерно удлинен и также поддерживается костылем с противоположной стороны. Ленинская тема у Дали предполагает отдельный разговор, мы лишь отметим, что российский политик мирового масштаба (а именно так он воспринимался кружком Андре Бретона, куда одно время входил Дали), отождествляясь с доном Сальвадором, нес в данной интерпретации прямую угрозу.
На первом из названных полотен отцовская агрессия символизировалась перепачканными кровью ножницами и чудовищно удлиненным искореженным пальцем, которым старец пытался дотянуться до юноши; на втором – проклинающим взглядом, посланным вслед изгнанной из рая молодой паре (Дали и Гала); на третьем – обутой в римскую сандалию железной ступней, грозящей раздавить маленький орешек с женским лицом на полу. Более того, уважаемый глава семейства наделяется чертами каннибализма (второе название картины – «Феномен аффективного каннибализма»), превращается в Сатурна, пожирающего своих детей, в Авраама, готовящего на заклание Исаака, т.е. вписывается в «вечную тему», апогей которой – распятие Христа: Дали неизменно гордился значением своего имени: Спаситель [2, с. 187].
Однако религиозность художника принимала далекие от канонического католицизма формы. Дон Сальвадор, по воспоминаниям сына, вообще демонстративно отказывался посещать церковь; чтобы утвердиться и убедить окружающих в своем свободомыслии, часто уснащал речь «весьма колоритным богохульством» (Там же, с. 12). В отцовской библиотеке не было ничего, кроме книг атеистического содержания, листая которые юный Сальвадор «убедился, что Бога не существует» [3, с. 14] и т.п. И здесь мы напрямую выходим к Шаламову, который настойчиво подчеркивал свой принципиальный атеизм: «Я – человек, не имеющий религиозного чувства» [14, т. 6, с. 377]; «Веру в Бога я потерял давно, лет в шесть <…> И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к Его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме» (Там же, т. 4, с. 146). Аналогично рассуждают и герои «Колымских рассказов»: возможность «религиозного выхода» казалась им «слишком случайной и слишком неземной» (Там же, т. 1, с. 278). Тем не менее, посещая Кремлевские соборы, Шаламов отказывался видеть в иконописи, в частности в великих творениях Рублева, лишь образцы древнерусской живописи, ибо «не кисть художника удерживает образ Бога на стенах, а то великое и сокровенное, чему служила и служит религия» (Там же, т. 6, с. 136).
Естественно, возникает вопрос: в чем же источник противоречивых, а иногда шокирующе декларативных заявлений негативного характера? Думается, тот же самый, что и у Сальвадора Дали. Вовсе не случайно, говоря о своем «неверии», Шаламов вспоминает детские годы – 6 лет! Кстати, именно этот возраст испанский художник также считал основной точкой отсчета своего личностного становления: «В шесть лет я хотел стать кухаркой…» [2, с. 23]. Тогда же, в шесть лет, он совершил одно из первых шокирующих «злодеяний»: ударил ногой трехлетнюю сестренку по голове, «как по мячу» (Там же, с. 27), затем последовали другие эпатажно-эксцентрические поступки. Разумеется, серьезно принять шестилетний возраст как знаковый рубеж в духовной эволюции будущих писателя и художника нелепо. Например, в другом месте Дали относит тайные кухонные пристрастия к трем с половиной годам; а в семь лет он уже «возжелал стать Наполеоном» (Там же, с. 247); в 1933 г. была написана картина «Я в возрасте десяти лет, когда я был ребенком-кузнечиком». В подобного рода откровениях существенна, конечно, не привязка события к конкретному возрасту, а сам факт связи первых личностно осознанных переживаний с периодом детства. В том же был убежден и Шаламов: «Моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство, когда я ворочался с огромными кубиками – игрушечной азбукой – в ногах моей матери» [14, т. 4, с. 45]. Думается, что эта оппозиция зиждилась прежде всего на эмоциональном неприятии отцовского стиля жизни, который с жесткой беспощадностью воспроизведен в автобиографическом повествовании «Четвертая Вологда». Тихон Николаевич Шаламов был православным священником, исполнявшим свой долг честно и искренно, о чем свидетельствуют его миссионерская деятельность на Алеутских островах, затем – служба в одном из главных храмов Вологды. Однако этих фактов сын касается бегло, зато с болью пишет об авторитарности отца, его методах «догматического воспитания» (Там же, с. 86), излишней требовательности к жене, непонимании поэзии, как, впрочем, и прозы. Но самое поразительное в том, что Шаламов отказывает отцу в качествах истинного христианина: подчеркивает его тщеславие, погруженность в заботы о личном благополучии, не без иронии отмечает, что на месте иконы висела репродукция картины Рубенса, перед которой священник не считал зазорным молиться (Там же, с. 25). Отсюда вердикт: «позитивист до мозга костей <…> я был ставкой, шашкой в его игре» (Там же, с. 18). Впрочем, воспроизводя подобные ситуации, Шаламов и себя называл «юным догматиком» (Там же, с. 19). Этот «догматизм», поддержанный естественным максимализмом «четырнадцатилетнего мальчугана», и породил резкое отторжение: «Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в Бога – я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь» (Там же, с. 141 – 142).
Как видим, молодое бунтарство испанского художника и русского писателя совпадает в деталях. Совпадают и результаты этого бунтарства. Пережив период «примерного» атеизма [3, с. 22], Дали умер глубоко верующим человеком. Даже во времена религиозного нигилизма он, по собственному признанию, предчувствовал, что настанет день, когда «придется решать для себя вопрос о религии» [3, с. 26]. «И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства?» – риторически вопрошал Шаламов [14, т. 6, с. 36]. Впрочем, от этих вопросов писатель никогда и не уходил, только его проза, воспроизводящая «дно» человеческой жизни, несет свидетельство о Боге в апофатической форме [7, с. 10 – 36]. Вполне закономерно, что однотипная психосемантическая (да и историческая) матрица породила однотипные аффективно-эмоциональные и волевые побуждения.
Еще одну параллель «каннибализму» дона Сальвадора, запечатленному Дали в образе Вильгельма Телля, можно увидеть в эпизоде, воссозданным Шаламовым в зрелые годы. Во время семейной трапезы отец после очередного наставления детям «сделал паузу, чтобы раздробить своими собственными зубами жирную заднюю ножку выращенного дома кролика. Как у всякого порядочного вампира, зубы у отца были в полном порядке. Он и умер так в 67 лет. И он с презрением относился к материнским (пораженным) челюстям» [14, т. 5, с. 250]. Обратим внимание на детали: глава дома выбирает самый жирный кусок; подобно вампиру вгрызается в заднюю часть собственноручно выращенного, убитого и расчлененного животного, т.е. совершает ритуал кровавого жертвоприношения. Не нам судить об адекватности и корректности подобных описаний. Но точно также не следует абсолютизировать и «каннибализм» дона Сальвадора, имевшего по причине своего отцовского статуса объективные основания для недовольства поведением сына.
Тем не менее дихотомия «отец / сын» эволюционировала у Шаламова и Дали также практически в одном направлении. «Герой тот, кто восстает против отеческой власти и выходит победителем» – под этим тезисом З. Фрейда, открывающим дневник Дали 1952 г. [3, с. 9], Шаламов скорее всего подписался бы. Однако когда дон Сальвадор покинул бренный мир, сын признался, что именно отец был для него человеком, которым он восхищался и которому подражал: «Молю Господа приютить его в своем Царстве Небесном…» (Там же, с. 13). В свете таких признаний отношения отца и сына не ограничиваются оппозицией «тиран / жертва».
Шаламов также подчеркивал нетипичность личности своего Тихона Николаевича, которому были близки как представители «культурного священства» (С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский), так и эсеры (Питирим Сорокин) [14, т. 4, с. 92]. Более того, после революции Т.Н. Шаламов примкнул к так называемой обновленческой, или «живой», церкви, гордясь дружбой с ее создателем Александром Введенским (Там же, с. 100). Сын обо всем этом, естественно, был осведомлен, но, в отличие от Дали, он так и не смог принципиально пересмотреть юношеский негативизм: «Я очень поздно понял, что я не люблю отца» (Там же, т. 5, с. 301). Тем не менее, Н.Я. Мандельштам, бесспорно, права, написав писателю по поводу рассказа «Сентенция» (где, кстати, нет и намека на отцовский образ) следующие слова: «В этом рассказе присутствует более, чем где-либо, ваш отец, потому что все – сила и правда – должно быть от него, от детства, от дома» (Там же, т. 6, с. 423). Оснований для оспаривания этой точки зрения у Шаламова не нашлось. Да и рассказ «Крест», включенный автором в «колымский» цикл, написан с большой симпатией и сочувствием к персонажу, ослепшему священнику, прототипом которого явился Тихон Николаевич.
Что же касается матери, то ореол святости вокруг ее образа однозначен: Шаламов откровенно заявлял, что хотел бы ее причислить ее «к лику святых» (Там же, т. 4, с. 8). «Я вымыл ей ноги <…> вымыл их теплой водой и поцеловал» (Там же, с. 317), – такая практически евангельская ситуация имела место во время прощального разговора с Надеждой Александровной после смерти отца. В стихотворных строках эта параллель открыто акцентирована: Как Христос, я вымыл ноги / Маме – пыльные с дороги… (Там же, с. 427).
Если же вернуться к «пищеварительной иконографии» [3, с. 24] Дали, то вновь можно найти точки соприкосновения с Шаламовым в деталях. Вспомним описанный выше семейный ужин: здоровым крепким зубам отца-«вампира» противопоставлены «пораженные» челюсти матери. Противопоставлены сочувственно-позитивно. Кстати, челюстям Дали придавал особое философское значение: «Челюс- ти! Вот прибор, измеряющий силу нашей привязанности к жизни, а заодно и ее качество» [2, с. 26], что, в частности, отразилось на его сюрреалистическом полотне «Испарившийся череп содомизирует рояль на коде» (1934). Согласно изображению, тончайшие музыкальные звуки обязаны своим происхождением грубой работе челюстей раскопанного («атмосферического») черепа. Да и в шаламовском описании данная деталь («пораженная челюсть») нисколько не снижает духовного достоинства женщины, но придает ей ореол высокой жертвенности.
Однако у Дали с материнским образом связан весьма неприятный эпизод. Это трудно объяснимый жест художника, осмелившегося поперек рисунка на религиозную тему написать: «Я плюю на свою мать» [2, с. 358]. Сестра Ана Мария комментировала произошедшее так: «И в доме повисла тягостная безысходная тишина. Мы были раздавлены горем: такое чувство, будто Сальвадор умер. Или убил всех нас собственными руками» (Там же, с. 603). И тем не менее поступок Дали цинично возмутителен скорее по форме, а по сути – вопиюще иррационален, поскольку воспоминания его об умершей матери были самые нежные. «Я боготворил мать… Я знал, что она святая… Ее доброта искупает все – и в том числе мои изъяны» (Там же, с. 84). Однако любопытен факт: известен только один рисунок, на котором Дали запечатлел донью Фелипу (около 1920 г.). Возможно, он считал свою кисть недостойной отразить неотразимое. И хотя понятие «апофатика» относится к области религиозной догматики, по-видимому, только остро апофатическим выражением любви можно объяснить скандальный поступок, положивший начало семейной драме. На наш взгляд, охарактеризованная ситуация важна не столько для выявления «вывихов» биографии Дали, сколько для уяснения природы его, как он сам называл, параноидально-критического метода. Конечно, этот «метод» основан на индивидуальном опыте познания реальности, но доминирующую роль в нем играет феномен бессознательного, уходящий корнями в архетипические слои психики [11, с. 122 –125]. Вполне возможно, что циничная для всякого «нормального» человека надпись действительно есть «великий ливанский кедр отмщения» как символ ответного удара безжалостной судьбе: «Наступив на горло рыданиям, я поклялся сияющими мечами славы, что заблистают когда-нибудь у моего имени, отвоевать мать у смерти» [2, с. 85]. То же самое сделал Варлам Шаламов, но только другим, катафатическим, путем.
Однако и у писателя можно найти строки, непонятные с обывательско-рациональной позиции. Ниже мы будем говорить о беспредельной любви Варлама к старшему брату Сергею, погибшему в Гражданскую войну. Однако эта любовь не помешала написать почти через полвека четверостишие: Зови, зови глухую тьму / – И тьма придет. / Завидуй брату своему. / И брат умрет [14, т. 3, с. 439]. В принципе здесь та же сама далианская логика: утверждение позитива через негатив, или, как говорил художник, форма «мятежного духа», требующего «докапываться» до сути подсознания [2, с. 358], не позволяя разуму «сломиться» под тяжестью моральных проблем.
Кстати, «роли» старших братьев в каталонской и вологодской семьях также во многом аналогичны. Житейское благополучие дона Сальвадора-и-Куси и доньи Фелипы Доменич было омрачено трагедией – смертью за три года до рождения будущего художника его старшего брата, тоже Сальвадора. Но и отец, и мать, не только передав «по наследству» имя, но и считая родившегося реинкарнацией первенца, обязали второго сына жить «за двоих». И без психоанализа ясно, что данная ситуация способна сломать самую устойчивую психику, и действительно ломала: художник уже «в чреве матери» ощущавший свою зависимость от умершего, смотрел на себя как на его неудачную копию. Именно поэтому, уже будучи знаменитым, живописец иногда ощущал себя всего лишь «побродяжкой», изгнанником, «да еще спутавшимся с чужой женой, вдобавок ко всему – русской!» (Там же, с. 151).
В семье Шаламовых Варлам был пятым ребенком. Но и его рождение можно считать своеобразной «компенсацией» за потерю трех младенцев, умерших на Аляске: родители стремились «приблизиться к общепринятым в священнических (и не только в священнических) семьях стандартам количества детей» [5, с. 33]. Кроме того, семья трагически переживала кончину Сергея, всеобщего любимца. После его гибели отец, всю ночь в измятой епитрахили просидел и проплакал над телом покойного. Вскоре он лишился зрения, прожив 14 последних лет в слепоте. «… Я оказался жизнеспособнее брата <…>, страдал избытком совершенства, избытком свободы» [2, с. 24], – писал о себе Дали. Кто знает: возможно, и гибель Сергея Шаламова невольно послужила косвенным укором Варламу. Так что можно сказать, что чувство метафизической вины и проистекающей из нее обиды было свойственно обоим нашим героям. Во всяком случае И.П. Сиротинская ощущала не только «живую детскую любовь, восхищение», которые связывали писателя с погибшим, но и какую-то детскую зависть: «Я хотел быть в детстве калекой, больным… Чтобы меня любили» [12, с. 18]. Впрочем, та же мысль звучит и в его колымском творчестве: Я хотел бы быть обрубком, / Человеческим обрубком… / Отмороженные руки, / Отмороженные ноги… / Жить бы стало очень смело / Укороченное тело [14, т. 3, с. 189]. Здесь действует, как это часто бывало и у Дали, логика от обратного: уподобиться самому беспомощному – значит достигнуть абсолютной свободы в выражении протеста. У Варлама-ребенка это был протест против отцовского авторитаризма, а у героев Шаламова, как и у него самого, – форма мщения «сильным мира сего» за поруганное достоинство. «Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами» (Там же, т. 1, с. 423), – говорит персонаж рассказа «Надгробное слово», солидаризируясь с намерением лирического героя, став калекой и собрав «слюну во рту», плюнуть в «омерзительную рожу» тех, кто мнит себя «подобьем Божьим» (Там же, т. 3, с. 189).
У Сальвадора Дали, пожалуй, единственной формой «мести» соратникам по кисти, принижавшим его художественный гений, был эпатаж, а иногда откровенное хулиганство, выраженные большей частью так же по-детски. Примером является один из его «сюрреалистических объектов» – смокинг, увешанный рюмками с молоком. Явившись на парижскую квартиру А. Бретона в подобном виде, Дали привел в бешенство коммуниста Луи Арагона: «Какая мерзость – изводить молоко, когда дети пролетариата голодают!». Последовал ответ: «Среди моих знакомых нет человека по фамилии Пролетариат!» [2, с. 617 – 618]. Разумеется, никакой политической «статьи» навешено на скандалиста не было, но из бретоновского окружения он был изгнан, чего, впрочем, и добивался.
Если «детские» желания шаламовских персонажей нравственно обоснованы, то издевательское хулиганство С. Дали – скорее продолжение его детских капризов. Не случайно первая глава знаменитой «Тайной жизни…» называется «Автопортрет в жанре анекдота. Что я ем – знаю, что делаю – нет» (Там же, с. 26). «Вся человеческая борьба, судьба есть утверждение детства, борьба за детство. У кого сколько хватит сил», – считал и автор «Колымских рассказов» [14, т. 6, с. 216]. Но все-таки главным средством противостояния злу во всех его формах и у писателя, и у художника было (говоря по-шала-мовски) настоящее «душевное оружие», полученное в детстве, – неутомимая тяга к творчеству.
И вновь мы сталкиваемся с любопытным совпадением. Ана Мария с необыкновенной теплотой вспоминает об общей с братом любимой забаве с переводными картинками: «… какая красота открывалась, когда мы осторожно, чтобы не повредить картинки, стирали пальцами верхний слой, какие яркие краски, какие волшебные картины – точь-в-точь как в детских снах» [2, с. 506]. Невольно встает вопрос: не были ли эти «забавы» первыми опытами художника? Шаламов же вспоминает об игре в фантики, к которой он пристрастился с восьми лет. С помощью бережно хранимых конфетных бумажек делались (трудно поверить!) первые писательские шаги. Мальчик, складывая их в виде «литературного пасьянса», «проигрывал» для себя содержание прочитанных произведений. В дальнейшем Шаламов «проигрывал» уже собственные рассказы, и только Бутырская тюрьма «остановила эту игру», а после первого ареста сестра, уничтожая архивы брата, «сожгла и эту драгоценную коробку» [14, т. 4, с. 61 – 62]. Поистине, Святой Дух дышит, где хочет (и как хочет). Главное – результат, обессмертивший великие творения.
Если следовать традиционным принципам биографического метода, то необходимо (насколько это возможно) сказать о личности наших героев, опираясь на их собственные самоощущения и самооценку. У Дали они, разумеется, большей частью носят скандально-эпатажный характер, которые та же Ана Мария связывает не с истинным Я брата, а с той «маской Дали», которую он вынужден был надевать и которая приросла к его лицу [2, с. 606, 608]. Но всегда ли это была только маска ?
Как известно, Дали не мыслил себя вне Порт-Льигата с его «самым суровым и самым ляпислазур-ным на всем Средиземноморье» небом в дневное время [3, с. 145] и не менее прекрасным «в прозрачно-печальном закатном свете» вечера [2, с. 185]. Первозданная дикая мощь природы, немыслимые нагромождения скал, величие искореженных олив – вся эта «наивысшая красота» как подобие «красоте смерти» [3, с. 178], по словам художника, сформировала его эстетику «мягкого и твердого, податливого и несокрушимого», вылепила его душу [1, с. 177], которой ведомы и «чувство выси», и тяга к «безднам» [2, с. 53, 139]. Именно поэтому полотна художника насыщены антропоморфными образами природного происхождения.
Что же касается природоописаний Варлама Шаламова, то они имеют противоположную эмоциональную направленность. «Бешеная северная природа», смертельная опасность весеннего половодья и зимних метелей поставлены в один ряд с горестными судьбами людей, их физическими и нравственными муками, с доносами, произволом начальства, предательством близких [14, т. 2, с. 278]. Эта природа, ненавидящая человека. Тем не менее, именно в тайге, среди деревьев находит Шаламов жизненную опору. Прежде всего ею стала лиственница – «дерево Колымы, дерево лагерей» (Там же, с. 279). Писатель видел ее «предсмертные судороги», страшную «гиппократову маску» смерти (Там же, с. 273). Но даже умирая, «лежа», как люди, северное дерево сохраняло свой несгибаемый стержень.
Не столько по принципу противопоставления, сколько сопоставляя, Шаламов пишет о другом «особом дереве» тайги, «дереве надежд» – стланике, который, «уцепившись корнями» за щели, растет в камнях горного склона. «Чувствительность его необычна». В преддверии зимы стланик прижимается к земле; но при первых сигналах весны распрямляется, говорит своими матово-зелеными лапами «о юге, о тепле, о жизни» (Там же, т. 1, с. 179 – 180). Комментируя историю опубликования стихотворения «Стланик», Шаламов видел новизну темы в понимании «взаимоотношений человека, природы и искусства» и очень переживал, что строка И черные, грязные руки… была вычеркнута редактором (Там же, т. 3, с. 462). А ведь она напрямую связывала таежное растение с лагерным работягой.
В размышлениях Дали «древесно-растительные» ассоциации также имели место. Покончивший с собой живописец и писатель Рене Кревель, не смогший одолеть «механическую реальность» идеологических «битв», бушующих в артистической среде, был, по мнению художника, одним из «скрученных, свернутых ростков папоротника» [3, с. 151]. А любимая Гала всегда отождествлялась с оливой, самым прекрасным деревом испанского Средиземноморья. «Добрый вечер, Гала, видишь, я хватаюсь за дерево, чтобы отвести от тебя любую беду», – писал Дали в минуты разлуки (Там же, с. 208).
Казалось бы, при чем здесь сами писатель и художник? Что касается второго, то стоит привести суждение его биографа, академика Мишеля Деона, согласно которому, лучшее в натуре Дали – это «корни и щупальца». Корни уходят в глубинные почвенные пласты, отыскивая наиболее ценное, «вкусное» («смачное») из созданного человечеством за сорок столетий существования искусства, а щупальца (в другом переводе – антенны) направлены в будущее: «они ощущают его пульсацию», предугадывают ее и мгновенно постигают (цит. по: [8, с. 8]).
Если рассмотреть эту характеристику в свете антропоморфных древесных образов автора «Колымских рассказов» – человек-лиственница и человек-стланик [6, с. 155 – 166], то Дали, конечно, можно сопоставить со вторым. Он действительно был метафорическим воплощением глубоко сидящего в каталонской земле корневища со множеством поперечных ростков-ветвей, обвитых вокруг бесценного ствола Галы-оливы, или (если воспользоваться понятием Ж. Делеза и Ф. Гваттари [4, с. 9 – 31]), человеком-ризомой. Ризоморфные структуры притягивали Дали даже на уровне подсознания, о чем свидетельствует анекдотический эпизод, с гордостью воссозданный в «Дневнике одного гения». Речь идет о выступлении в Сорбонне перед рафинированной парижской публикой в 1955 г., куда великий художник прибыл в «роллсе», целиком набитом цветной капустой. С точки зрения постклассической эстетики, кочан цветной капусты, морфологически подобен и корневищу, и луковице, т.е. обладает спиралевидной структурой ризомы, которая, по мнению Дали, воплощает характерные черты техники Яна Вермеера Дельфтского, автора любимейшей «Кружевницы» [3, с. 217, 232 – 233]. Ризоморфное созна- ние ни в коей мере не дискредиирует ни личность, ни творчество Дали, но объясняет, по его собственным словам, «полиморфную порочность» поведения [3, с. 42], в том числе и идеологического плана.
Несмотря на общение с коммунистическим ядром кружка А. Бретона, антикоммунистических настроений у Дали не было: «Я не коммунист, но не имею ничего против коммунизма. Я уважаю любые убеждения…» [2, с. 251]. Однако истинное искусство он ставил над политикой (хотя и эти его суждения весьма своеобразны), поэтому российский читатель не должен поддаваться шокирующему воздействию некоторых признаний. В частности, речь идет о Гитлере, которым, оказывается, Дали «буквально бредил», как натурщицей (!), ибо «мягкая, пухлая спина», кожаная портупея, которая, «словно бретелька, обнимала противоположное плечо», казались «божественнейшей женской плотью». Сам художник отдавал себе «отчет в психопатологическом характере подобных приступов безумия» [3, с. 34 – 35]. Что же тогда говорить об остальных?! Конечно, А. Бретон и его единомышленники были правы, считая, что «дело стало принимать совсем серьезный оборот» (Там же, с. 37). Но не только драматурга, любого большого мастера, как сказал некогда А.С. Пушкин, «должно судить по законам, им самим над собою признанным» [10, с. 121]. Вышеприведенный пассаж, вписывающий «мистику гитлеризма в сюрреалистический контекст», не мешал Дали рассматривать Гитлера «как законченного мазохиста» [3, с. 37]. Более того, еще в 1937 г. он написал «Загадку Гитлера», по его словам, «провидческую картину о смерти фюрера» (Там же, с. 38).
Значим, на наш взгляд, другой эпизод, зафиксированный в «Дневнике одного гения». Подписывая для фюрера (по просьбе одного близкого друга) свою книгу, Дали вспомнил неграмотных каталонских крестьян, которые в конторе его отца вместо подписи ставили крестик. Он поступил так же: с помощью «двух спокойных, безмятежных черточек» изобразил католический крест – «полнейшую противоположность свастике» (Там же, с. 237 – 238). По его словам, это было также «зловещее предзнаменование» обреченности гитлеровских притязаний, что, однако, не мешало дружбе художника с генералом Франциско Франко. Симпатия художника и диктатора была взаимной, хотя и объяснялась различными причинами. Как бы то ни было, нельзя игнорировать настойчивые заявления Дали: «я не историческая личность. При всех обстоятельствах я неизменно чувствую себя личностью антиисторической и аполитичной» [2, с. 212].
Для Шаламова же был абсолютно абсурден даже намек о возможности применения эстетического критерия к политике и политическим деятелям. Правда, в рассказах мелькают фразы об «эстетах НКВД», «поэтах из НКВД», «следователях-эстетах», которые постигали «литературные ценности в следственном кабинете» [14, т. 1, с. 385, 242, 386]. Однако все это никакого отношения к вопросам искусства не имело: «Эстетизация зла – восхваление Сталина» (Та же, с. 298), а пафос «Колымских рассказов» определен кратко и точно: «пощечина по сталинизму» (Там же, т. 6, с. 484). Не колебался Шаламов и в оценке политических деятелей дореволюционной и пореволюционной России, хотя с позиций последующего времени она была не всегда справедливой. И, безусловно, он ни в коем случае не принял и не понял бы издевательского изображения отца Дали с лицом Ленина на картине «Загадка Вильгельма Телля», о которой говорилось выше. Однако полотно «Галлюцинация: шесть явлений Ленина на клавиатуре рояля» (1931) могло бы вызвать (опять же гипотетически) вполне позитивную реакцию писателя. Седовласый юноша романтического вида не отрывает взгляда от музыкального инструмента, на клавишах которого расположены шесть последовательно увеличивающихся ленинских бюстов. На откинутой крышке рояля — нотная тетрадь; в проеме полуоткрытой двери видны очертания кадакесских скал. Но главное: все шесть голов российского вождя распространяют сияние, озаряющее черный фон рояля и напоминающее нимбы святых. Позитивная реакция Шаламова в этом случае была бы оправдана; речь идет даже не о мастерстве художника, а о том, что дело, за которое умирали «на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге» десятки поколений «безымянных революционеров» [4, с. 91 – 92], свою молодость, когда чувствовался ветер, «обвевающий тело и меняющий душу» (Там же, с. 422), писатель никогда не подвергал переоценке, чем и отличался от приспособленцев и дельцов постсталинского периода. Может быть, поэтому он неоднозначно оценил вхождение Пикассо и Матисса в коммунистическое сообщество, считая этот шаг формой законной неудовлетворенности действительностью и одновременно полагая, что оно «плохо рекомендует их логические способности» [14, т. 6, с. 192]. Тем не менее, Матисс занимал неизменно высокое место на ценностной шкале писателя, а в работах Пикассо, представленных на выставке в Эрмитаже, Шаламов увидел «попытки наметить новые линии, границы, рубежи» между реализмом и современностью (Там же, т. 5, с. 277), хотя знаменитого «Голубя мира» счел «церковной эмблемой», «сознательно выбранной заправилами движения», чтобы не «оттолкнуть религиозных людей (Там же, т. 6, с. 193).
И все же от начала до конца Шаламов – приверженец классической «древесной» модели поведения, предполагающей принцип нравственно-эстетической доминанты. В слове лиственница слышится фонетическое созвучие со словом лестница ( лествица ); эта вертикаль сознания целиком определила вектор беспрецедентной мученической судьбы. «…Я могу сказать – он был лучшим из людей ХХ века. Он был святым – неподкупным, твердым, честным – до мелочи – благородным, гениальным прозаиком, великим поэтом», – подводила итог своим отношениям с Шаламовым любящая и понимающая женщина [12, с. 167]. Однако, думаю, лучшим человеком в мире для Галы был и ее Сальвадор. «Ее единственная печаль – как смогу жить я, когда ее не будет рядом». Наверное, не случайно появилась такая запись в его дневнике [3, с. 201]. А что касается нравственной ризоморфности , «полиморф-ности», то это признак вовсе не изначальной или приобретенной порочности, а скорее детской доверчивости и наивности гения. Гала не только была рядом; она, «словно мать», опекала художника как «страдающего отсутствием аппетита ребенка», отыскивая редкие кисти и особые краски. «Надув губы <…>, я как мог отнекивался» (Там же, с. 32). Это говорит 48-летний мужчина – всемирная знаменитость. Как вновь не вспомнить шаламовскую зарисовку? Если рядом с согнувшимся по-зимнему кустом развести костер – стланик встанет. «Костер погаснет – и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место» [14, т. 1, с. 180]. Разве не таким легко зажигающимся надеждами и не менее легко обманываемым ими был Сальвадор Дали? И когда Шаламов описывал детскую доверчивость своего хвойного «ребенка», неуместную в условиях Севера, он подчеркивал, что эссе «Стланик» важно «как состояние души, необходимое для боя…» (Там же, т. 5, с. 155). Подобно тому, как «тысячами мелких щупальцев-отростков», кедрач отчаянно цеплялся за камни горного склона, великий испанец в «смертельно экстремистской Испании» [3, с. 145] не отпускал руки своего ангела-хранителя, не только земного, но и небесного. «Дай же мне руку!», – молил он Галу [3, с. 196]. А когда садился перед мольбертом и начинал писать, его рукой уже «водил» настоящий ниспосланный свыше ангел. И это был последний, 50-й, «главный магический» секрет Дали [1, с. 270 – 271].
Таким образом, «встреча» гениев в виртуальном пространстве культуры (не только В. Шаламова и С. Дали) углубляет параметры традиционного биографического метода, придает им метафизическое измерение.
Список литературы Парадоксы виртуального биографизма: Варлам Шаламов и Сальвадор Дали
- Дали С. 50 магических секретов мастерства. М.: Эксмо, 2002.
- Дали А.М. Сюрреализм -это Я. М.: Вагриус, 2005.
- Дали С. Дневник одного гения/пер. с франц. М.: Эксмо, 2009.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома//Философия эпохи постмодерна. Минск: Интерпрессервиз; Книжный Дом, 1996. С. 9 -31.
- Есипов В.В. Шаламов. М.: Мол. гвардия, 2012.
- Жаравина Л.В. Образ-лиственница и образ-стланик в прозе В. Шаламова//Наследие Л.М. Леонова и судьбы русской литературы: материалы XVII Междунар. науч. конф. Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2010. С. 155 -166.
- Жаравина Л.В. «У времени на дне»: эстетика и поэтика прозы Варлама Шаламова: моногр. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.
- Нере Ж. Сальвадор Дали. 1904 -1989/пер. с англ. М., 2009
- Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга вторая/сост. и общ. ред. Л. Дмитриева; Д. Лихачева. М.: Худож. лит. 1989.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 10.
- Семикина Ю.Г. Проблема реализации гендерных стереотипов в художественных произведениях авторов-женщин конца ХХ -начала ХХI в.//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филологические науки. 2012. № 6 (70). С. 122 -125.
- Сиротинская И.П. Мой друг Варлам Шаламов. М.: ООО ПКФ «Алана», 2006
- Христианство: энцикл. словарь: в 2 т. М.: Больш. Рос. энцикл., 1993. Т. 1.
- Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 6 т. М.: TERRA -Книжный клуб, 2004 -2005.