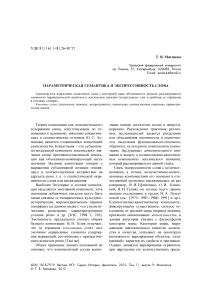Параметрическая семантика и экспрессивность слова
Автор: Матвеева Тамара Вячеславовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Семантические и прагматические параметры слова в языке и тексте
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируется взаимосвязь коннотации слова с категорией меры обозначаемого явления, рассматривается значимость параметрической семантики в лексическом значении экспрессивных слов и проблема ее отражения в толковыхсловарях.
Лексическое значение, экспрессивность, коннотация, количественная семантика, параметрическая оценка
Короткий адрес: https://sciup.org/14737968
IDR: 14737968 | УДК: 811.161.1+81.26+81''37
Текст научной статьи Параметрическая семантика и экспрессивность слова
Теория коннотации как дополнительного содержания слова, сопутствующих по отношению к основному значению семантических и стилистических оттенков (О. С. Ахманова) является сложившейся концепцией семасиологии. Коннотация - это субъективно-модальный компонент лексического значения слова, противопоставленный денотации как объективно-номинирующей части значения. Наличие коннотации говорит о выражении субъективной позиции говорящего и соответствующем воздействии на адресата речи, т. е. о стилистической окрашенности слова или высказывания.
Наиболее бесспорно в составе коннотации выделяется эмотивный компонент, хотя основания добавочных смыслов могут быть также связаны «с эмпирическим, культурноисторическим, мировоззренческим знанием говорящих на данном языке»; «со стилистическими регистрами, характеризующими условия речи» и др. [БЭС, 1998. С. 236]. Эмотивность предлагается считать общим базисом коннотации: В. Н. Телия отмечает, что за термином коннотация стоят «все эмотивно окрашенные элементы содержания выражений, соотносимые с прагматическим аспектом речи» [Там же].
Общее признание данных положений не означает, что компонентный состав конно- тации описан достаточно полно и непротиворечиво. Расхождение трактовок различных исследователей касается разделения или объединения эмотивности и оценочно-сти; выделения функционально-стилевого, образного, культурного компонентов коннотации. Заслуживает дополнительного внимания и вопрос о количественно-качественных компонентах лексического значения, который рассматривается в данной статье.
Связь экспрессивности слова с количественными, а точнее, количественно-качественными компонентами его значения в отечественной русистике высказывалась не раз (например, В. И. Ефимовым, О. И. Блиновой, В. Н. Телия), но полнее всего данное явление исследовано в трудах Н. А. Лукьяновой (см.: [1975; 1983; 1986; 1991] и др.). Количественно-качественному компоненту, фиксирующему существенное, сильное отклонение от средней меры (нормы) явления, присвоено наименование интенсивность , и данная категория увязана с философской категории меры. Категория меры, выражающая диалектическое единство количества и качества, указывает на некоторую возможность варьирования объектов, «плавающий» характер их свойств и признаков. Однако диапазон варьирования ограничен, при нарушении его количественных преде-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © Т. В. Матвеева, 2012
лов происходит переход количества в новое качество и, следовательно, разрушение первичного объекта. Зона гипертрофии того или иного признака, т. е. того состояния, когда этот признак в количественном отношении максимально приблизился к своей допустимой границе, - это и есть зона интенсивности, которая метится экспрессивными лексическими единицами. Они - экспрессивные интенсивы - фиксируют резкое отклонение от нормальной меры явления, актуализируя представление субъекта о предельном превышении нормы. Языковыми выразителями экспрессивной семантики такого рода и словарными конкретизаторами в составе определений лексического значения служат номинации очень, сильно, излишне, чересчур , крайне неумеренный , чрезмерный , огромное множество и др. [Лукьянова, 1986. С. 61]. Выбранным из этого ряда именем абстрактной непредметной семы интенсивности следует считать наречие очень [Лукьянова, 1991. С. 61].
Совсем не оспаривая термин компонент ‘ интенсивность ’ в понимании Н. А. Лукьяновой, обратим внимание на то, что мерные признаки объектов разнообразны, а отклонение от средней меры явления градуально: кроме понятия ‘очень’ есть еще понятия ‘в значительной степени’, ‘в некоторой степени’, ‘немного’ и др. Все они также отражают отступления от средней меры и, пусть в меньшей степени, тяготеют к соединению с эмоциональной оценкой данного явления говорящим. Для более широкого отражения отклонений от количественно-качественной нормы явления будем применять термины параметрический компонент ( параметрическая оценка ) [Матвеева, 1986], параметричность [Лукьянова, 1991]. Попутно заметим, что данные термины хорошо встают в оппозицию: ‘эмоционально-оценочный / параметрически-оценочный’ (о компонентах лексического значения); эмотив-ность / параметричность.
Названные компоненты имеют разную природу и по-разному соотносятся с денотативным компонентом слова. Эмоциональнооценочный компонент коннотации отражает чувственное восприятие субъектом какой-либо реалии или ее аспекта, причем проявляемое чувство окрашивает всю денотативную долю значения. Параметрический компонент отражает тот или иной качественный параметр (отсюда наименование термина)
реалии, представленный в отклоняющемся от средней меры, в том числе в гипертрофированном виде. Представление о преувеличенном (либо преуменьшенном) проявлении параметра складывается на основании рационального сопоставления реализаций обозначаемого объекта, оно формируется в опоре на опыт осмысления свойств объекта. В. А. Звегинцев писал: «Вне опыта нет языка. <...> Все естественные человеческие языки представляют собой структурно организованную классификацию человеческого опыта» [1973. С. 131]. В качестве основы для сравнения может также служить не номинируемый объект сам по себе, а человек относительно этого объекта. В подобных случаях человек реально выступает мерой вещей. Например, шкаф - это обозначение заведомо крупного, емкого предмета мебели, потенциальная качественная характеристика которого, сравнительно с человеком, -«большой», «крупный», «гораздо больше обычного человека»; те же качественные признаки свойственны некоторым животным: слон , бегемот . Основываясь на параметрической семантике прямых значений, все названные слова могут быть отнесены к человеку, образуя окказиональные переносные обозначения лица.
Специфика меры явления, пропущенная через опыт действия или взаимодействия с ним, осмысляется на рациональном основании и оформляется в языке прежде всего в опоре на противопоставление социальной нормы (средней меры явления) и отклонения от средней меры, чрезмерности параметров объекта. В лексике эта дихотомия наиболее ярко отражается в оппозиции нейтральных и экспрессивных номинаций. Нейтральные номинации несут в себе представление об усредненных, обычных, типичных параметрах объекта, причем наиболее типичное проявление может не обозначаться в языке отдельными лексемами, ср.: высокий , невысокий человек; человек среднего / обычного / нормального роста ). Кроме того, нейтральные номинации фиксируют стандартное отхождение от объективно-субъективной нормы явления, обычно поляризованное ( далеко - близко от остановки, острый - тупой нож, низменность - возвышенность , кричать - шептать )
Чрезмерность параметра фиксируется отдельными номинациями, которые создаются специально для того, чтобы подчерк- нуть крайнюю количественную ненорма-тивность обозначаемого объекта. Между полюсами нейтральности и экспрессивности располагаются лексические единицы промежуточного типа, указывающие на отклонение от средней меры в рамках нормального диапазона варьирования. В зонах повышенного языкового внимания (например, применительно к теме «Человек») наблюдается скопление экспрессивных номинаций параметрического характера, распределяющихся в диапазоне от почти нейтральной до ярко эмоциональной оце-ночности. Возьмем, к примеру, параметр «телосложение (комплекция)» в названной тематической группе. Обычное проявление данного параметра лексически не обозначается (изредка применяются определения нормальное, среднее телосложение, типична же «нулевая» лексическая позиция: если об особенностях телосложения речи нет, то оно либо нормально, отвечает средней мере данного явления, либо не имеет значения для говорящего). Зато активно фиксируются отклонения от усредненности, позитивного (спортивное, атлетическое) или, чаще, негативного плана. В зоне отклонений заметна зависимость нейтрального либо экспрессивного восприятия человека от количественной меры признака, ср.: худой, худощавый, сухой, поджарый (нейтральная или позитивная оценка телосложения, количественное проявление параметра не слишком далеко ушло от нормы) и тощий, костлявый, скелет, мощи, кощей, кожа да кости, мешок костей (негативная эмоциональная оценка, чрезмерное проявление параметра). Некоторая объективность подобным характеристикам свойственна, хотя эмоциональные преувеличения также вполне возможны. По мощности синонимических рядов можно судить о характере социального отношения к конкретному виду чрезмерности. Так, в нашем примере, худощавое телосложение не вызывает такой номинативной активности, как противоположное: тучный, грузный, полный, дородный, солидный (относительно нейтральные характеристики комплекции; превышение меры объективизировано); упитанный , дебелый, толстяк, откормленный, раскормленный, пухлый, сытый, жирный, ожирелый, жирняга, жиртрест, боров, оплывший, расплывшийся, толстомясый, мясокомбинат, толстопузый, толстобрюхий , пузан, пузатый, бочка, шкаф, квадрат- ный, поперек себя шире, в дверь не пролезает и др. (негативные эмоциональные характеристики, чрезмерность утрируется).
Отражение меры явления в значении языкового знака может иметь различный статус [Лукьянова, 1986. С. 56]. Денотативные компоненты меры не создают экспрессивного эффекта: кричать «громко говорить», лететь «о птице, самолете», высокий дом. Это объективная фиксация меры более общего явления (в приведенных примерах -речи, движения, размера по вертикали), которая представляется повышенной по сравнению с другими явлениями данного рода ( говорить , идти , невысокий дом), но в собственных границах - фиксирующей среднее, не пограничное отклонение. Высокий дом не обязательно небоскреб, быстрое передвижение летящей птицы обычно для полета; кричать можно громко, очень и не очень громко. Коннотативная (добавочная) сема отражает представление субъекта о признаке, вплотную приблизившемся к границам или даже перешедшем границы своей меры, что и формирует эффект экспрессивности. Крайнее проявление признака представляется говорящему необычным, заслуживающим отдельного внимания, удивительным, лично задевающим, что провоцирует включение его эмоций. Слова с «чрезмерным» компонентом коннотации служат семантическим раздражителем (Н. А. Лукьянова) эмоционального переживания субъекта, хотя сами они являются результатом логической операции сравнения реализаций явления.
Представляет интерес целостная характеристика реализации количественно-качественной (параметрической) семантики в языке, чтобы точнее судить о ее экспрессивном потенциале и реальной экспрессивности.
Прежде всего, обратим внимание на слова с базовой семантикой меры. Это существительное мера и глагол мерить. Их первичные лексические значения непосредственно указывают на количественный характер семантики: МЕРА. 1. Единица измерения; МЕРИТЬ. 1. Определять величину, протяженность кого-чего-н. какой-н. мерой (здесь и далее определения даются по словарю [ТСРЯ, 2008. С. 440, 441]). В полном соответствии с философским пониманием категории меры, существительное развивает производное значение, отражающее количе- ственную определенность, наличие границ явления, нарушение которых угрожает последнему распадом, перерождением: МЕРА. 2. Граница, предел проявления чего-л. К словам граница, предел можно добавить другие существительные с аналогичной денотативной семой: край, конец, берег. Даже беглый обзор словообразовательных гнезд данных корневых слов показывает, что в русской лексике отчетливо выражена идея отрицания и нарушения границ, пределов, т. е. отрицания меры как нормы жизни. Значимость сложившихся в русском языковом сознании представлений проявляется в наличии производных слов, аффиксальными способами словообразования фиксирующих превышение меры. Эта идея выражается либо отрицанием предела (неумеренный, неумеренность, безмерный, безмерность, безразмерный, безграничный, безграничность , безбрежный, безбрежность, бесконечный, бесконечность, бескрайний, бескрайность, беспредельный, беспредельность, беспредел), либо указанием на переход через границу меры (чрезмерный, чрезвычайный , чересчур, слишком). Отметим, что данные аффиксальные производные характеризуются психологической амбивалентностью: в зависимости от семантики определяемого слова возможно тяготение к положительным эмоциям (бесконечная нежность, бескрайняя степь, безбрежный простор), равно возможное истолкование в положительном и отрицательном смысле (безграничные возможности разума, беспредельная власть, неумеренность), неодобрение, возмущение, напряжение (чрезмерное усердие, беспредел, чрезвычайное происшествие).
Для выражения близкой к пределу степени качества в языке существует также грамматическая форма превосходной степени сравнения качественных прилагательных. Интенсивность передается также в рамках отдельных способов глагольного действия, особенно интенсивно-результативного (изволноваться, перепугать, вытребовать, растолстеть, объесться, уработаться). Для полноты картины отметим возможность выражения параметрических крайностей с помощью аффиксов, особенно увеличительных: ушастый, носатый, глазищи, домина, большущий, дурища. Заметно, что мерный признак свойствен самым разным типам явлений: физическим и умственным действи- ям; лицам, артефактам и натурфактам; целостно взятым предметам и их отдельным свойствам.
Теперь перейдем к нейтральной общеупотребительной лексике, содержащей дифференциальную денотативную сему или семы количественно-качественного характера в составе лексического значения. Таких слов много среди конкретно-предметной лексики разных тематических групп. Параметры осмысления конкретных физических явлений многообразны. Вариативны в количественно-качественном отношении такие свойства объектов, как сила и темп действия, интенсивность качества, габариты и другие чувственно воспринимаемые свойства физического объекта, количество единиц в составе однородного множества, а также огромное число более конкретных свойств различных предметов и явлений. Так, слово гора «значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью» содержит в своем лексическом значении дифференциальную сему ‘высокий’ (географический объект), а также сему градуальности ‘значительно’; значение слова раскалить «нагреть очень сильно, почти до изменения агрегатного состояния» имеет параметрическую сему ‘сильно’; армия «вооруженные силы государства» - сему большого количества, количественной мощности обозначаемого (выражена использованием множественного числа слова сила , с ядерной денотативной семой интенсивности); блеклый «лишенный свежести и яркости» - количественная сема отражает деградацию признака яркости цвета.
Лексика такого рода не выходит за пределы стилистической нейтральности, однако обратим внимание на то, что денотативная параметрическая сема в составе лексического, значения, как правило, легко становится мотиватором переносного лексико-семантического варианта. Если в лексическом значении слова есть известное по опыту обращения с объектом указание на мерное своеобразие параметров, сильно увеличенную (уменьшенную) меру одного или нескольких признаков, то это слово хорошо подходит для развития переносного значения. Так формируются, к примеру, многочисленные «образы множества», коллекция которых, собранная Н. А. Лукьяновой, велика и разнообразна [Лукьянова, 1975]. Посмотрев в сторону их лексико-семантиче- ского источника, в каждом из прообразов мы обнаружим гипертрофию количественной семантики: море, океан - это очень много воды, бездна, пропасть, пучина - нечто очень глубокое, армия - очень большое количество военных, калейдоскоп дает множество цветовых сочетаний, водопад -очень сильный ниспадающий поток воды. Семантические производные таких слов одновременно отличаются четкой мотивированностью и своеобразием выражения: море чувств, гора дел, бездна страсти, армия претендентов, калейдоскоп событий, отношения раскалены, блеклое впечатление.
Очевидно, любое слово с параметрическими денотативными семами (ядерными и дифференциальными) - это материал, готовый к экспрессивному переосмыслению. В ряде случаев экспрессивный лексикосемантический вариант многозначного слова выявляет потенциальный параметрический признак исходного объекта, который не столь важен для бытования прямой номинации. Примером может послужить слово ишак . В переносном значении этот зооморфизм указывает на человека, «безропотно выполняющего самую тяжелую работу»; на базе этого значения образуется тождественный по лексической семантике производный глагол ишачить . Семантическим множителем в многозначном слове послужила потенциальная эмпирическая сема прямого значения, имеющая качественно-количественный характер (из опыта известно предназначение этого домашнего животного и степень тяжести выполняемой им работы). Сходно, хотя и помягче, развивается переносное значение слова лошадь , также указывающее на тяжесть повседневного постоянного труда (работаю , как лошадь ; устроились тоже за моей спиной , лошадь себе нашли ). Стабильность и разнообразие переносов значения на параметрической основе позволяют говорить о сложившейся когнитивной модели экспрессивного номинирования.
Речевое выражение параметрических признаков эксплицирует идею количественного преувеличения формальными средствами языка. Так, заметным способом интонационного выражения усилительных смыслов лексических единиц является подчеркнуто выраженное ударение, что связано с одновременным увеличением силы и длительности ударного гласного. Другие способы того же плана - это растяжка гласного или, в пределах возможного, согласного звука. Особенно эффектен раскатистый вибрант: Р-р-рота, подъем!; Р-раз, два!
Количественное преувеличение признаковой семантики хорошо выражает редупликация - распространенный способ достижения экспрессивного эффекта путем повторения, удвоения исходной единицы. Даже если ограничиться единицами, обе части которых имеют общий корень и принадлежат одной и той же части речи, можно составить группу лексикализованных повторов в несколько сотен единиц. В их числе полные и вариативные повторы [Голда, Матвеева, 1986].
Наиболее простая в употреблении форма - это полный повтор: чуть-чуть , тихотихо , только-только , белый-белый , думал-думал . Подобные номинации занимают в предложении одну синтаксическую позицию и характеризуются единым основным ударением и убыстренной слитной интонацией. Пользуясь методом подстановки индикатора интенсивности ( очень , слишком , чересчур и т. п.), можно преобразовать каждую из таких номинаций в параметрическое по значению словосочетание: очень мало , очень тихо , совсем недавно , очень белый , очень долго и напряженно . За счет этого становится явственным количественнокачественное усиление признака обозначаемого объекта, причем сами признаки разнообразны. Путем полного повтора может усиливаться семантика длительности ( учит-ся-учится , когда только выучится ), ограниченности действия ( послушал-послушал , да и пошел восвояси ), краткости темпорального интервала ( когда-когда заглянет : «очень редко»), напряженности, трудности действия ( насилу-насилу / еле-еле справился ) и др. Полный повтор побудительной формы глагола усиливает побуждение: иди-иди , не бойся ; говори-говори , я слушаю ; повтор частицы усиливает ее контекстную семантику: давай-давай , ну-ну-ну .
Вариативные повторы обычно характеризуются аффиксальным осложнением ре-дупликанта во второй части: хитрый-пре-хитрый, крепко-накрепко, рад-радешенек, читано-перечитано, жить-поживать, умница-разумница. Возможна и зеркальная структура: давным-давно, пьяным-пьяна. Устойчива фразеологизированная структура субстантивного повтора с формой твори- тельного падежа: дурак дураком, зверь зверем , лиса лисой, гора горой, трава травой. Значение усилительности является общей семой всех языковых и речевых повторов.
Фактически данный материал свидетельствует об изоморфизме формы и содержания: увеличение звукобуквенной протяженности слова, достигаемое путем повтора, способствует семантической усилительности и открывает больше возможностей для интонационного выражения дополнительных оттенков значения. Это относится и к речевым повторам, особенно к рифмованным, делящимся на парные слова, обе составляющие которых полнозначны ( палочка-выручалочка , девочка-припевочка ), -«повторы-отзвучия», как их назвала Н. А. Ян-ко-Триницкая, где вторая часть представляет собой рифмованное «эхо» первой ( кашка-малашка , штучки-дрючки , танцы-шманцы ), и немотивированные повторы, корнеслов которых полностью неясен ( шаляй-валяй , тары-бары , чики-брики , хухры-мухры , тю-ха-матюха ). Конечно, формально-количественная сторона таких образований не является единственным, а также главным средством экспрессивности, здесь идет в дело эстетическая основа замысла. И все же вклад данного приема в формирование параметрического компонента коннотации подобных единиц заметен.
Повторение того или иного рода как основа семантического нагнетания признака, повышения интенсивности его проявления или восприятия наблюдается и в составе стилистических (риторических) фигур. Большая группа фигур прибавления (анафора, эпифора, анадиплозис, геминация, асиндетон, полисиндетон) связана прежде всего с созданием эффекта эмоционального и логического усиления. Очень близка к полному лексическому повтору геминация - как минимум, троекратный полный контактный повтор: Погоня , погоня , погоня , погоня / В горячей крови (Р. Рождественский). Различие между приемом лексикализации и фигурой как речевой моделью состоит лишь в интонационном оформлении: фигура характеризуется не интонационной слитностью, а перечислительностью.
Таким образом, параметры номинируемых явлений представляют собой значимый объект действительности, имеющий всестороннее выражение в языке и речи, а временами демонстрирующий логическое единст- во содержания и оформления. Феномен па-раметричности (отражения меры обозначаемого явления в семантике лексических единиц) в полном объеме связан с экспрессивностью лексики в языке и речи. Наличие любой параметрической семы в составе лексического значения нейтрального слова является предпосылкой ее использования в качестве мотиватора экспрессивного варианта данного слова или производных экспрессивных слов. Если же параметры значимого для человека явления близки к превышению меры, то они обязательно будут экспрессивно зафиксированы одним из возможных способов: в языке с помощью новой номинации, лексико-семантического развития имеющейся, на морфемно-словообразовательной основе, в речи - интонационными и синтагматическими средствами.
Исходя из сказанного, отметим, что параметрическая семантика, особенно в крайнем проявлении, должна найти отражение в словарных дефинициях не только переносных экспрессивных, но и нейтральных мотивирующих лексико-семантических вариантов многозначного слова. Экспликация мерного признака явления в лексикографическом описании прямого значения представляет мотив переноса данного наименования в сферу экспрессивных номинаций, что существенно облегчает положение человека, изучающего русский язык. В настоящее время согласованность толкований прямого и переносного вторичного значений не отслеживается, ср. два словарных толкования в одном и том же словаре (жирным шрифтом мною выделены обозначения мерных признаков. - Т. М .): СЛОН . 1. Крупное с двумя большими бивнями хоботное млекопитающее тропических стран. Африканский с. Индийский с. С. в посудной лавке (о большом и нескладном человеке, оказавшемся в тесноте, среди ломких и хрупких вещей; разг. шутл.); ИШАК . 1. Осел и (обл.) лошак или мул. 2. Человек, безропотно выполняющий самую тяжелую работу; прост. Сделали из парня ишака .
Второе признание языковой значимости параметрической семантики выразилось бы во включении компонента интенсивности в состав коннотации. В настоящее время, по данным энциклопедических лингвистических словарей двух последних десятилетий, компоненты коннотации - это «эмоциональная, оценочная или стилистическая ок- раска языковой единицы узуального или окказионального характера» [КРР, 2003. С. 265]; «по Ю. Д. Апресяну: ассоциативный признак, связанный с прямым непроизводным (первичным) значением слова» [Москвин, 2006. С. 139]. Обзор различных трактовок состава коннотации дан Г. А. Коп-ниной в энциклопедическом словаре-справочнике [ЭСВС, 2005. С. 163], но в большинстве из них (авторства В. И. Говердовского, И. В. Арнольд, А. И. Горшкова и др.) параметрические признаки не выделяются ни как самостоятельные, ни как мотивирующие или сопутствующие. Лишь автор статьи «Коннотация» в [РЯЭ, 1997. С. 193] и [БЭС, 1998. С. 236] В. Н. Телия, раньше других сформулировавшая трехэлементный состав коннотации, в которую входят «оценочная, эмоциональная или стилистическая окраска языковой единицы», указывает на возможность доминирования качественной и / или количественной квалификации в составе экспрессивной окраски. В Стилистическом энциклопедическом словаре [СЭС, 2003] статьи «Коннотация» и «Экспрессивность» отсутствуют.
Странно и обидно, что теория интенсивности (параметричности) в составе лексического значения слова, обоснованная и обстоятельно проверенная на материале Н. А. Лукьяновой, до сих пор остается лексикографически невостребованной. Хотелось бы, чтобы такое положение дел переменилось.