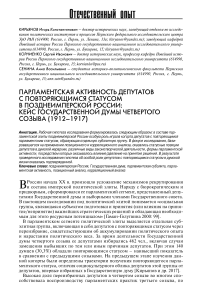Парламентская активность депутатов с повторяющимся статусом в позднеимперской России: кейс Государственной думы четвертого созыва (1912-1917)
Автор: Кирьянов Игорь Константинович, Корниенко Сергей Иванович, Сенина Анна Васильевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 9, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рабочая гипотеза исследования формулировалась следующим образом: в составе парламентской элиты позднеимперской России особую роль играла когорта депутатов с повторяющимся парламентским статусом, образующая отдельную субэлитную группу. В фокусе исследования, базировавшегося на применении позиционного и корреляционного анализа, оказались статусные позиции депутатов в думской иерархии, различные виды законотворческой деятельности, формы парламентской активности, посредством которых оказывалось влияние/давление на принятие решений. В результате проведенного исследования гипотеза об особой роли депутатов с повторяющимся статусом в думской жизни оказалась подтвержденной.
Позднеимперская Россия, государственная дума, парламентская субэлита, парламентская активность, позиционный анализ, корреляционный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/170170825
IDR: 170170825 | DOI: 10.31171/vlast.v26i9.6176
Текст научной статьи Парламентская активность депутатов с повторяющимся статусом в позднеимперской России: кейс Государственной думы четвертого созыва (1912-1917)
В России начала ХХ в. произошло усложнение механизмов рекрутирования и состава имперской политической элиты. Наряду с бюрократическим и придворным, сформировался ее парламентский сегмент, представленный депутатами Государственной думы и выборными членами Государственного совета. В настоящем исследовании под политической элитой понимается «социальная группа, являющаяся субъектом подготовки и принятия (или влияния на приня-тие/непринятие) важнейших стратегических решений и обладающая необходимым для этого ресурсным потенциалом» [Гаман-Голутвина 2000: 99].
В парламентском сегменте политической элиты выделяется отдельная субэлитная группа, включающая в себя депутатов с повторяющимся статусом через переизбрание, свидетельствующим об аккумулировании политического опыта и нарастании политического веса. За время деятельности Государственной думы четвертого созыва ее депутатами избирались 462 чел., включая случаи замещения выбывших по тем или иным причинам депутатов. При этом 140 думцев (30,3%) обладали повторяющимся статусом – наивысший показатель в сравнении с предыдущими созывами. На предыдущем этапе изучения данной когорты были определены траектории получения повторяющегося парламентского статуса, отличия социокультурного облика депутатов этой группы от депутатов, впервые избранных в Государственную думу [Кирьянов и др. 2017].
Высокая доля переизбранных депутатов в четвертом созыве во многом способствовала воспроизводству парламентских практик третьего созыва, по крайней мере, в довоенные сессии, помогала справиться с неискушенностью в «тонких политических интригах» вновь избранных депутатов1. Так, один из новых лидеров национальной группы А.И. Савенко рассказывал в письме жене от 5 декабря 1912 г. об «изрядном раскардаше» во фракции вследствие «борьбы честолюбий, тщеславия». Между тем «старые» лидеры фракции полагали, что в начале третьего созыва было «гораздо хуже», что «мы прямо плакали по ночам»2. По схожим основаниям октябристы, близкие к А.И. Гучкову, расстроенные его поражением на выборах, полагали в ноябре 1912 г. желательным создать под его руководством «внедумский комитет из не попавших в Думу старых работников», который должен был стать «душой политической работы фракции и партии»3.
Всего же в позднеимперской России депутатами Государственной думы избирались 1 724 чел., из них 215 (12,5%) обладали повторяющимся статусом – были членами нескольких созывов или входили в состав выборной части Государственного совета. Стремление вернуться в Таврический дворец было связано с ностальгией по особенному стилю жизни, принадлежности к корпорации парламентариев, обладанию политическим капиталом. Политическим капиталом, с которым было трудно расстаться думцам, было влияние. Именно на это обращал внимание заведующий министерским павильоном в Таврическом дворце Л.К. Куманин 27 января 1916 г.: «Внезапно разразившаяся война столь же внезапно устранила членов Думы… от всякого влияния на текущую жизнь страны… Между тем, война затягивается, и психологическое настроение людей, жаждущих активного влияния, но силою вещей остающихся не у дел, все обостряется»4.
Рабочая гипотеза проведенного исследования была сформулирована следующим образом: в составе парламентской элиты позднеимперской России особую роль в думской жизни играла когорта депутатов с повторяющимся парламентским статусом, образовавшая отдельную субэлитную группу. В этой связи основное внимание было сосредоточено на анализе статусных позиций в думской иерархии, активности в законотворческой деятельности, способов оказания влияния на принятие решений на общих заседаниях членов Государственной думы.
Исследование проводилось на основе возможностей интернет-портала «Парламентская история позднеимперской России» (. Для выявления связи между повторяющимся парламентским статусом, показателями парламентской активности и рядом социокультурных характеристик депутатов Думы четвертого созыва рассчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, поскольку данные были организованы в виде порядковой шкалы. При интерпретации значения коэффициента учитывается совпадение рангов показателей, когда более высокому значению одного показателя соответствует более высокое значение другого в ряду чисел. Выбор метода подсчета коэффициента корреляции с точки зрения теории измерений был обусловлен природой данных.
Корреляционный анализ предполагает проверку статистической значимости полученных коэффициентов, и только в результате проверки можно подтвер- дить или опровергнуть статистическую гипотезу о связи между показателями. Для этого в исследовании использовалась двусторонняя проверка значимости в программном пакете SPSS. Корреляции, значимые на уровне 0,05 (вероятность ошибки составляет 5%) и 0,01 (вероятность ошибки – 1%), отмечались в таблице при помощи * и ** соответственно. Обычно в гуманитарных науках достаточной считается значимость на уровне 0,05, в то время как уровень 0,01 говорит о «весьма значимой» связи. Проверка позволила исключить возможность случайного характера связей между показателями, в результате чего рассматриваемые в работе связи можно считать достоверными. Даже слабая корреляция при условии ее высокой статистической значимости позволяет сделать вывод о влиянии совокупности признаков на независимую переменную – повторяющийся парламентский статус.
О влиятельности депутатов рассматриваемой когорты как минимум на вну-тридумские дела могут свидетельствовать результаты позиционного анализа, ориентированного на определение статусных позиций политиков во властной иерархии, на выявление их ресурсных возможностей. В этом отношении обращает на себя внимание то обстоятельство, что более половины переизбранных депутатов четвертого созыва (73 из 140) занимали статусные позиции в совещании (президиуме) Думы, в руководстве думских комиссий и парламентских групп, фракций прежних созывов.
И уже с первой сессии Думы четвертого созыва представители исследуемой когорты заняли ключевые позиции в думской иерархии. Избрание президиума и руководства думских комиссий сопровождалось ожесточенной межфракционной борьбой, в ходе которой за короткий период неоднократно заключались и разрушались соглашения октябристов то с соседями слева, то с соседями справа. Проиграв борьбу за парламентский президиум, думские консерваторы смогли отыграться в борьбе за президиумы комиссий. А.И. Савенко отмечал в письме к жене 25 ноября 1912 г.: «Мы решили: в левый президиум не идти и взять реванш на комиссиях (этот реванш предложили нам сами октябристы). Места председателей комиссий мы поделим между нами и октябристами. Вообще октябристы стали очень добренькими, ласковыми и т.д. Вот что, значит, дали два раза в морду»1. В свою очередь, октябристы на фракционном заседании 28 ноября 1912 г. обсуждали «принципиальный вопрос – желательно ли соглашение с националистами по вопросу об организации думских комиссий». Решив, что соглашение желательно, октябристы все же оставили за собой право «дальнейшего обсуждения вопроса о лицах, намеченных в председатели комиссий, и право самой широкой цензуры намеченных кандидатов». Также было решено добиваться пополнения президиума комиссий исключительно октябристами в случаях, когда председательские должности отходили к другим фракциям2.
В коалиционном президиуме, сформированном в начале работы Думы четвертого созыва, 7 мест из 10 заняли депутаты с прежним парламентским опытом, включая председателя М.В. Родзянко и его старшего товарища (заместителя) В.М. Волконского. Из 17 членов совета старейшин, в который входили представители думских фракций и групп, только председатель фракции правых А.Н. Хвостов впервые был избран депутатом. Из 8 председателей постоянных думских комиссий 6 обладали повторяющимся парламентским статусом, а из 24 председателей временных комиссий, сформированных в первую сессию, таковых было 19. В последующем впервые избранные депутаты смогли только несколько усилить свои статусные позиции в комиссиях, что подтверждается значимостью полученных коэффициентов корреляции Спирмена по сессиям четвертого созыва между повторяющимся парламентским статусом и местами в президиуме (от 0,144** до 0,112*), между этим статусом и руководящими должностями в думских комиссиях (от 0,259** до 0,154**).
Тактический блок октябристов с умеренными консерваторами повлиял на особенности социокультурного облика президиума комиссий. По крайней мере, результаты корреляционного анализа показали, что руководящие позиции в комиссиях, с одной стороны, имеют значимую положительную связь с православным вероисповеданием (от 0,211* для первой сессии и до 0,240** – для четвертой), с другой – значимую отрицательную связь с католическим вероисповеданием (от –0,233** для первой сессии и до –0,244** – для четвертой). Также занятие должностей в комиссиях не было связано с непривилегированным сословным статусом (–0,179* для третьей сессии). Значимая положительная связь выявлена между вхождением в думский президиум и средним уровнем полученного образования (0,234** для второй сессии), тогда как с высшим образованием, напротив, зафиксирована значимая отрицательная связь (–0,203* для второй сессии, –0,202* – для третьей и –0,211* – для четвертой).
Законотворческая деятельность депутатского корпуса рассматривалась по таким ее проявлениям, как членство в думских комиссиях, законодательная инициатива (подписание заявлений о законопроектах), выступления в качестве докладчиков комиссий, участие в прениях по проектам государственной росписи доходов и расходов и законов, неоднократность выступлений по этим сюжетам. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что для думских новичков именно законотворческая деятельность чаще всего оказывалась самой сложной в их парламентской практике. Так, один из членов крестьянской группы в июне 1913 г. сетовал в частном письме: «Как мы все-таки, крестьяне, жалки в качестве законодателей. Говорят, да и я думаю, что участие крестьянства здесь необходимо. Но когда посмотришь, в каких формах это участие осуществляется, – думаешь, лучше бы их тут не было»1.
Что говорить о крестьянских депутатах с начальным образованием, когда, например, Б.И. Каразин, выпускник физико-математического факультета Харьковского университета, имевший опыт службы в министерстве финансов и губернской земской управе, организатор первого съезда представителей касс мелкого кредита, жаловался в письме жене в январе 1913 г. на загруженность работой в бюджетной комиссии: «Сегодня опять получил фунтов двадцать законодательных представлений. Но когда все это читать или даже просматривать – решительно не знаю. И невольно становится вопрос: да просматривать ли или подходить к узкой специализации и придется, очевидно, стать на последнюю точку зрения»2.
В свою очередь, А.А. Ознобишин, получивший высшее юридическое образование, служивший и помощником делопроизводителя в министерстве юстиции, и городским судьей, и уездным предводителем дворянства, и гродненским вице-губернатором, вспоминая о работе в думских комиссиях (председатель в комиссии об охоте, товарищ председателя в комиссии по судебной реформе), характеризовал ее как «технически мучительную, нудную»3.
Между тем повторно избранный в Государственную думу С.С. Волконский, входивший в прежнем созыве в четыре комиссии, сожалел в частном письме в апреле 1913 г. по поводу того, что «не попал в большее число комиссий. Я числюсь всего в одной, а есть ничего не делающие, состоящие в 10 комиссиях. Этак-то и я мог работать лучше многих из них. Однако никто из них своего места в комиссиях не отказывается, и поневоле приходится бездействовать»1.
Применение корреляционного анализа показало значимую взаимосвязь между повторяющимся парламентским статусом и всеми формами законотворческой активности (особенно в первые две сессии) за исключением подписной – последняя была более характерна для думских новичков. Так, значения полученных коэффициентов корреляции повторяющегося статуса с выступлениями в качестве докладчиков комиссий составили в первые две сессии 0,241** и 0,218**; с участием в бюджетных прениях – 0,140** и 0,171**; с неоднократностью выступлений в бюджетных прениях – 0,145** и 0,182**; с участием в прениях по законопроектам – 0,242** и 0,247**; с неоднократностью подобного участия – 0,190** и 0,199** соответственно. В социокультурном отношении значимые положительные коэффициенты связали выступления в качестве докладчиков комиссий с православным вероисповеданием (0,177* для второй сессии и 0,215* – для четвертой), принадлежностью к великороссам (0,244** для четвертой сессии), высшим образованием (0,177* для первой сессии), статусом священнослужителя (0,181* для четвертой сессии) и отрицательные – с католическим вероисповеданием (–0,185* для первой сессии).
Способы формального влияния на принятие решений в Думе, давления на политических оппонентов и бюрократию, поддающиеся количественному измерению, включали в себя: инициирование и поддержку запросов по поводу незакономерных действий властей, подписание различного рода заявлений, участие в прениях по запросам, внесение заявлений с думской трибуны, предложение формул перехода Думы к очередным делам, выступления по личным вопросам, общую активность во время думских прений, возгласы во время выступлений других депутатов.
Как следует из результатов корреляционного анализа, по указанным параметрам депутаты с повторным статусом превосходили думских новичков. Наиболее значимые коэффициенты получены для взаимосвязи повторяющегося парламентского статуса с возгласами во время выступлений других депутатов (0,366** для первой сессии и 0,301** – для второй); с общей активностью в прениях (0,249** для первой сессии и 0,208** – для второй); с выступлениями к порядку дня (0,234** для первой сессии и 0,227** – для второй); с внесением заявлений с думской трибуны (0,196** для четвертой сессии); с объяснениями по личным вопросам (0,192** для первой сессии); с участием в прениях по запросам (0,168** для второй сессии).
В социокультурном отношении наиболее значимые положительные коэффициенты корреляции получены для общей риторической активности на думской трибуне в паре с додумскими занятиями с преимущественно интеллектуальным трудом (присяжные поверенные, преподаватели вузов, учителя, журналисты, врачи, агрономы, инженеры) (0,215* для первой сессии и 0,219** для второй сессии); высшим образованием (0,192* для первой сессии и 0,256** – для второй); статусом лиц духовного звания (0,178* для первой сессии), тогда как значимая отрицательная связь выявлена со средним уровнем образования (–0,259** для второй сессии) и занятиями преимущественно сельским хозяйством (–0,232** для первой сессии и –0,201* – для второй). Стремлением прервать выступления коллег своими возгласами отличались депутаты интелли- гентных профессий (0,215* для первой сессии и 0,184* – для второй). Вполне объяснимо, что подобное нарушение думского регламента с их стороны было связано с замечаниями председательствующего в общих собраниях (0,208* для первой сессии). К этому же следует присовокупить и значимость коэффициента корреляции между высшим образованием и замечаниями, полученными на второй сессии (0,222**).
Таким образом, гипотеза об особой роли депутатов с повторяющимся статусом в думской жизни оказалась подтвержденной. Между тем влияние парламентской субэлиты, игравшей ведущую роль в Государственной думе четвертого созыва, не ограничивалось пространством Таврического дворца. Так, треть думцев четвертого созыва с повторяющимся статусом входили в составы центральных органов различных политических партий. Для 5 представителей этой когорты сработал «лифт» в имперскую бюрократическую элиту: двое заняли губернаторские должности – Ф.Н. Безак в Киеве (1913 г.) и В.Г. Ветчинин в Херсоне (1916 г.), трое получили министерские назначения: В.М. Волконский – товарищем министра внутренних дел (1915 г.), Г.Е. Рейн – главноуправляющим имперским здравоохранением (1916 г.), А.Д. Протопопов – министром внутренних дел (1916 г.).
Значительная часть членов совещания (президиума) и совета старейшин, являвшегося неофициальным руководящим органом Думы, вошла в августе 1915 г. в бюро Прогрессивного блока – объединения, принципиальным образом изменившего политический ландшафт в Российской империи военной поры. Последним актом этого совещания стало инициирование создания 27 февраля 1917 г. Временного комитета Государственной думы, ставшего первым штабом начавшейся революции. О политическом участии парламентской субэлиты в событиях 1917 г., впрочем, как и об угасающей динамике этого участия, свидетельствует следующая статистика: функции комиссаров ВКГД и/или Временного правительства, наделенных чрезвычайными государственными полномочиями в столице и на местах, выполняли 42 чел., при этом из первых 18 назначений, символизировавших присвоение Временным комитетом властных функций [Николаев 2017: 455-456], ровно половина относилась к рассматриваемой когорте; министерские должности в разных кабинетах Временного правительства исполняли 10 чел.; в состав Временного совета Российской республики (предпарламент) – представительного института, призванного заменить собой Государственную думу в преддверии созыва Учредительного собрания, вошли 19 чел.; и только 8 депутатов четвертого созыва с повторяющимся статусом были избраны членами самого Учредительного собрания. Время политической элиты позднеимперской России, не только бюрократической и придворной, но и парламентской, оказалось безвозвратно ушедшим.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-06-00569 «Формирование парламентской субэлиты в позднеимперской России».
Список литературы Парламентская активность депутатов с повторяющимся статусом в позднеимперской России: кейс Государственной думы четвертого созыва (1912-1917)
- Гаман-Голутвина О.В. 2000. Определение основных понятий элитологии. - Полис. Политические исследования. № 3. С. 97-103
- Кирьянов И.К., Корниенко С.И., Гагарина Д.А., Сотник А.В. 2017. Депутаты с повторяющимся парламентским статусом в позднеимперской России: кейс Государственной Думы четвертого созыва, 1912-1917. - Вестник Пермского университета. Сер. История. № 1(36). С. 178-188
- Николаев А.Б. 2017. Думская революция: 27 февраля - 3 марта 1917года. В 2 т. СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. Т. 1. 592 с