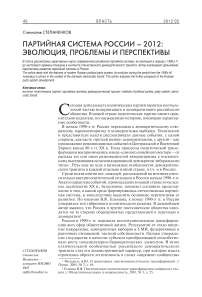Партийная система России - 2012: эволюция, проблемы и перспективы
Автор: Степаненков Станислав Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены характерные черты современной российской партийной системы; ее эволюция в период с 1990-х гг. до настоящего времени показана в контексте отечественного демократического транзита. Автор анализирует дальнейшие перспективы развития партийной системы в России.
Институт политических партий, партийная система, демократический транзит
Короткий адрес: https://sciup.org/170166392
IDR: 170166392
Текст научной статьи Партийная система России - 2012: эволюция, проблемы и перспективы
С егодня деятельность политических партий является неотъемлемой частью модернизации и демократизации российского общества. В нашей стране политические партии имеют срав-нительно недолгую, но насыщенную историю, имеющую характер -ные особенности.
В начале 1990-х гг. Россия переходила к демократическому плю-рализму, парламентаризму и конкурентным выборам. Политологи и представители власти рассматривали данные события, с одной стороны, как часть «третьей волны» демократизации, с другой — как продолжение революционных событий в Центральной и Восточной Европе конца 80-х гг. XX в. Тогда процессы политической транс -формации воспринимались в виде «единого линейного вектора — от распада тех или иных разновидностей авторитаризма к постепен-ному выстраиванию консолидированной демократии либерального типа»1. Речь еще не шла о возможных особенностях демократиче-ского транзита в каждой отдельно взятой стране, в т.ч. и в России.
Среди политологов нет, пожалуй, расхождений во мнениях отно-сительно внутриполитической ситуации в России начала 1990-х гг. Анализ характера событий, происшедших в нашей стране в послед -нее десятилетие XX в., безусловно, помогает составить представ -ление о том, в какой среде формировалась отечественная партий -ная система, и впоследствии выделить основные перспективы ее развития. По мнению В.Я. Гельмана, к концу 1990-х гг. в России утвердился тип гибридного политического режима. В дальнейшем автор выявил, что Россия и другие постсоветские общества нахо дятся по ту сторону общепринятых представлений о переходах к демократии2.
Россия в 1990 е гг. пережила институциональную трансформа цию всех сфер общественной жизни. Результатом ее стало введе ние плюрализма, конкурентных выборов и СМИ, федеративных и рыночных отношений, частной собственности. Однако утвержде-ние государства в качестве субъекта преобразований способство вало росту номенклатурно - бюрократических элементов. В итоге отличительной особенностью российского демократического транзита стал его демонстративный характер, при котором власть стремилась обрести легитимность в глазах «мирового сообщества»
-
1 Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций || Полис, 2004, № 2, с. 65.
-
2 Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации: наброски к тео -рии || Общественные науки и современность, 2001, № 1, с. 55.
и собственного населения1. Изменение сути политического режима отставало от внешней формальной демократизации.
Возможность политической институ-ционализации различного рода нефор мальных объединений и преобразова-ния их в политические партии на рубеже 1980-х—1990-х гг. была связана с измене -нием формулировки ст. 6 Конституции СССР и признанием многопартийности. Первые политические партии форми -ровались на базе политических клубов и кружковых объединений, как имевших самостоятельный статус, так и входящих в состав народных фронтов. Главными мотивами, которыми руководствовались создатели протопартий, можно считать необходимость оформления собственной политической базы и стремление занять идеологическую нишу в складывающемся политическом спектре. Пик интенсивно сти первой волны партогенеза пришелся на апрель-июнь 1990 г. (время подготовки и проведения I съезда народных депутатов РСФСР.
Кроме того, в условиях разделения общества на сторонников и противников коммунистического режима и бурных дискуссий о путях дальнейшего развития страны формирующиеся партии стреми лись даже на уровне названия осуществить четкую идейно социальную самоиденти фикацию. В результате в 1990 г. создаются: Социал демократическая партия России, Партия свободного труда, Российское христианско демократическое движение, Демократическая партия России; в 1991 г. — Крестьянская партия России, Народная партия России и др. В 1991 г. на общесоюз ном уровне регистрируется первая неком мунистическая партия — Либерально-демократическая партия Советского Союза под началом В.В. Жириновского.
События августа 1991 г. и последовавший за ними роспуск КПСС способствовали институционализации «левой» части пар -тийного спектра. В результате платформы и идейно политические течения были вынуждены приобрести самостоятельный статус. В 1991 — 1992 гг. наряду с «левыми» формируются «ультраправые» партийные объединения.
Так или иначе, большинство протопар - тийных объединений к концу 1990 х гг. либо прекратили свое существование, либо не прошли процедуру перереги страции. Политологи связывают данное обстоятельство с тем, что быстрые и мас штабные институциональные перемены, существенно опередившие формирова ние соответствующих норм и «правил игры», необходимых для демократиче ского общества, сформировали полити чес кую систему, которую можно было бы охарактеризовать как «избыточную демократию»2. Оказать же реальное влия-ние на политику страны партии не могли, что в итоге обусловило существование формально апартийной системы, просу ществовавшей в России до 1993 г.
Переход к смешанной избирательной системе, последовавший за политиче ским кризисом 1993 г., позволил оценить реальную расстановку сил на полити ческой арене страны. Из 13 политиче ских объединений, принявших участие в первых парламентских выборах, 8 пре одолели 5 - процентный барьер: ЛДПР получила 22,9% голосов избирателей, «Выбор России» — 15,5%, КПРФ — 12,4%, «Женщины России» — 8,1%, Аграрная пар -тия России (АПР) — 8%, «Яблоко» — 7,9%, Партия российского единства и согласия (ПРЕС) — 6,7% и Демократическая партия России (ДПР) — 5,5% .
С этого момента начался новый этап в развитии отечественной партийной системы. Началось активное взаимодей ствие между властвующей элитой и пар тиями, которые заняли свое место в поли тической системе России. Уже к выборам 1995 г. возросло не только число партий и политических движений, но также наме тились изменения внутренней организа ции данного политического института и идеологической основы предвыборных программ. Следует также отметить, что во вторых парламентских выборах уже при нимает участие так называемая партия власти — «Наш дом — Россия» во главе с В.С. Черномырдиным. В период с 1994 по 2000 г. для партий на первый план выходит задача рекрутирования кадров и поиска спонсоров, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение роли идеологии.
Политологи склонны относить партийную систему России второй половины 1990 -х гг. к варианту «крайнего плюра -лизма» по классификации Дж. Сартори1: на политической арене заметны 5 пар -тий, среди которых есть ярко выраженная антисистемная оппозиция. По результа там 3 парламентских выборов лидерами российской партийной системы являлись партии КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Также в числе лидеров находилась и партия вла сти, всякий раз представая в различных организационных формах. Стабильность состава лидирующих партий можно объ -яснить, с одной стороны, их статусом постоянных парламентских партий, с дру гой — соответствием их заявлений преоб-ладающим в обществе социокультурным нишам. Как считает российский политолог Я.Ю. Шашкова, «левые» лозунги КПРФ занимали социал традиционалистскую нишу, демократические партии функ ционировали в прозападной и пролибе ральной субкультуре, а партия власти — в конформистско традиционалистской. Сферу национал протестной культуры занял В.В. Жириновский и его партия ЛДПР. Именно в двух последних нишах, как пишет Я.Ю. Шашкова, исполнитель -ная власть к 2003 г. активно развернула партстроительство, опираясь на фактор ожидания — ожидания «команды сверху», с одной стороны, и быстрых и радикаль ных социальных перемен — с другой2.
На сегодняшний день ряд ученых спра-ведливо рассматривают политический режим России нулевых годов не как пере ходное, а как сложившееся состояние. По мнению И.К. Пантина, правительство В.В. Путина вело политику «авторитар ной модернизации с социал либеральной окрашенностью»3. Сама администрация В.В. Путина использовала термин «управ-ляемая демократия». Предлагается также использовать термин «моноцентризм», что более чем уместно с позиции учета числа центров принятия решений. При этом политический режим остается идеологи чески нейтральным и может быть связан как с либерально демократическим, так и с охранительно консервативным курсом. Второй срок президентства В.В. Путина как раз и был ознаменован обращением в сторону консервативно державнического курса.
Начало президентства Д.А. Медведева привнесло частичную демократизацию в политический режим страны, но, как отмечает Н.Ю. Беляева, в уже сложив -шейся ситуации не институты «опреде ляют рамки активности акторов, а сами акторы подгоняют институты под свои потребности»4. Усилилась и тенденция сакрализации власти в массовом созна нии, начавшая проявляться еще в первом десятилетии ХХ в. Основными задачами по прежнему являются централизация, последовательное выстраивание и укре пление вертикали исполнительной власти. При этом сохранялся институциональный дизайн, сформировавшийся в 1990 е гг. К середине нулевых годов в партийно политической системе России были вос становлены контроль центра в отношении регионов, субординация элит и положе ние Кремля как реального центра власти.
Здесь важнейшее место занимает пере -ход к процедуре назначения и смеще ния губернаторов президентом РФ. В результате губернаторы стали полностью подотчетными главе исполнительной вла сти. Государственная Дума наполнилась лояльными депутатами, а политические партии выражают все меньше несогласия с принятым политическим курсом. Даже КПРФ, все еще получая весомый процент голосов на выборах, по своей идеологии сближается с «Единой Россией». К тому же в период с 2003 по 2006 г. были отме-нены выборы в Думу по одномандатным округам, ужесточены количественные требования к партия м. Правительство также запретило образование избиратель ных блоков.
В данной связи следует особенно подчер-кнуть поднятие заградительного барьера на выборах в федеральную Думу в 2007 г. с 5 до 7%. Укрепление позиций партии «Единая Россия» в качестве партии вла сти позволило ей на парламентских выбо рах 2003, 2007 и 2011 гг. ограничить свое участие в избирательной кампании. Ее привилегии были настолько велики, что
«Единая Россия» участвовала в выборах «вне реальной партийной конкуренции»1. Будучи доминирующей парламентской партией, «Единая Россия» превратилась в один из каналов распределения бюджетных средств, вследствие чего возросла ее электоральная привлекательность. К тому же поддержка президента и правительства со стороны оппозиционных партий, оттолкнув от последних часть сторонников, лишь укрепляет политический курс правящей элиты. По мнению О.Б. Подвинцева, в России на современном этапе сложилась многопартийная система с господством партии власти2.
Нельзя не отметить, что на отечественном политическом пространстве в последние годы утвердилась франчайзинговая модель партийного строительства. Данная модель была заимствована политическими технологами из бизнеса. Франчайзерами в этой ситуации являются центральные партийные органы, обладающие проверенной политической концепцией, политическим брендом и собственным электоратом. В роли фанчайзи выступают региональные или федеральные группы интересов, которые в результате такого взаимодействия получают возможность продвигать своих представителей в легислатуры различных уровней. Таким образом, по мнению многих политологов, современные российские партии – «это не элементы системы представительства, а
“электорально-профессиональные” организации (термин американского политолога А. Панебьянко), озабоченные, прежде всего, технологическими аспектами избирательных кампаний и занятые преимущественно лоббированием интересов своих спонсоров... Это фирмы по оказанию политических услуг, своего рода лоббистские конторы, принимающие заказы на продвижение в органах власти определенных интересов. Правда, в отличие от обычных лоббистских контор (которых в России официально быть не может), партии получают лицензии на свою деятельность по результатам выборов»3.
Таким образом, на сегодняшний день число политических партий в России уменьшилось до 7. Партии увеличились численно, с успехом применяют франчайзинговую модель в организации предвыборных кампаний. Но при этом они не обладают реальной институциональной ролью в управлении государством, не обеспечивают представление социальных интересов в процессе принятия решений. В дальнейшем для России может открыться перспектива перехода как к однопартийной системе, так и к повышению значимости индивидуальной активности представителей элиты и граждан. Такая активность в случае дальнейшего снижения роли партий в политическом процессе нашей страны может быть выражена в деятельности неформальных временных объединений по лоббированию определенных интересов, что к тому же станет дополнительным фактором снижения роли и значимости партий в политическом процессе современной России.