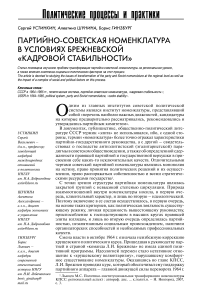Партийно-советская номенклатура в условиях брежневской "кадровой стабильности"
Автор: Устинкин Сергей Васильевич, Шунина Алевтина Александровна, Гинзбург Борис Львович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 7, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению проблем трансформации партийно-советской номенклатуры на региональном уровне, а также влияния комплекса социально-политических факторов на этот процесс.
Ссср в 1964-1985 гг., политическая система, партийно-советская номенклатура, "кадровая стабильность"
Короткий адрес: https://sciup.org/170166480
IDR: 170166480
Текст научной статьи Партийно-советская номенклатура в условиях брежневской "кадровой стабильности"
USSR in 1964–1985, political system, party and Soviet nomenclature, «cadre stability».
УСТИНКИН Сергей
Васильевич – д.и.н., профессор; заведующий кафедрой международных отношений и политологии ННГЛУ
О дним из главных институтов советской политической системы являлся институт номенклатуры, представлявший собой «перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые предварительно рассматривались, рекомендовались и утверждались партийным комитетом».
В документах, публицистике, общественно-политической литературе СССР термин «элита» не использовался, ибо, с одной стороны, термин «номенклатура» более точно отражал характеристики партийно-государственного руководства, а с другой – свидетельствовал о господстве антиэлитистской (эгалитаристской) парадигмы в советском обществоведении, а также об определенной сдержанности правящей партийной и государственной верхушки в присвоении себе каких-то исключительных качеств. Отличительными чертами советской партийной номенклатуры являлись монополия на истину, право принятия политических решений и их осуществления, право распоряжаться собственностью и всеми стратегическими ресурсами государства1.
С точки зрения структуры партийная номенклатура являлась закрытой группой с невысокой степенью циркуляции. Природа взаимоотношений внутри номенклатуры носила, в первую очередь, клиентельный характер, и лишь во вторую – идеологический. Поэтому включение в ее состав осуществлялось, в первую очередь, на основе таких критериев, как политическая лояльность существующему режиму, личная преданность вышестоящему руководству, приспособление к господствующим в высших кругах правящей элиты взглядам, и лишь во вторую очередь определялась партийностью, незапятнанным социальным происхождением, наличием организаторских способностей и необходимых профессиональных качеств.
Смена власти в октябре 1964 г. означала неизбежную коррекцию хрущевского политического курса. Пришедшая к руководству партией и страной «команда Л.И. Брежнева» не имела единой позитивной программы. Идеологией перемен стало негативное отношение к «хрущевскому волюнтаризму», нарушавшему комфортное существование номенклатуры. Оказавшись во главе КПСС, Л.И. Брежнев проводил курс, который обеспечивал ему поддержку партийного аппарата – главной движущей силы переворота 1964 г.
Уже ноябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС восстановил единство партийных, советских и других органов, разделен -ных в 1962 г. XXIII съезд КПСС (1966 г.) изъял из Устава партии Положение об обязательной ротации состава выборных партийных органов, в т.ч. секретарей пар -тийных комитетов. Развернувшаяся на всех уровнях партийного аппарата борьба «с текучестью кадров» дала предсказуе -мые результаты. Так, если в Горьковской городской партийной организации в период, предшествующий XXIII съезду, сменяемость секретарей парторганизаций доходила до 55% и более, то в 1967 г. она составляла уже только 32%. Со временем уход большинства представителей выс шей партийно советской и хозяйствен нойноменклатурысосвоихпостовпракти -чески прекратился и осуществлялся лишь вследствие смерти или полной дискреди тации руководителя. «Геронтологический кризис» высшего руководства страны, трудившегося по 4—5 часов 3 дня в неделю при 2 месячном отпуске и пер манентном профилактическом лечении на рабочем месте, стал прямо отражаться на качестве принимаемых стратегиче ских решений. «Образец» новой кадро-вой политики давал и сам Л.И. Брежнев, частенько назначавший на ответственные партийно государственные посты своих родных, близких и лиц, преданных лично ему. Под родственников Генерального секретаря ЦК КПСС создавались не только отдельные посты — синекуры, но и целые министерства. Не удивительно, что семейственность, протекционизм и связанная с ними коррупция в 1970-х— 80-х гг. опутали всю страну1.
Политическая система СССР «периода застоя» сохраняла генетическое родство с властными институтами и механиз мами управления, оформившимися еще в 1930-х гг. Поэтому положение об «обще-народном государстве», сформулирован ное в брежневской Конституции 1977 г., было не более чем декларацией. Зато тезис о том, что КПСС является руково дящей и направляющей силой советского общества, ядром политической системы СССР, воплощался в жизнь всей мощью государства, целенаправленной деятель ностью КПСС, увеличившей число своих членов с 12,4 млн чел. в 1966 г. до 19 млн в 1985 г. В Уставе КПСС, принятом наXXIV съезде партии (1971 г.), было закреплено право парторганизаций контролировать деятельность администрации в НИИ, учебных заведениях, учреждениях куль туры и здравоохранения. В промышлен ности и сельском хозяйстве такой кон троль осуществлялся и ранее. К концу 8 й пятилетки в Горьковской областной партийной организации насчитывалось более 1 900 комиссий первичных органи заций, в разных формах осуществлявших контроль за хозяйственной деятельно стью предприятий и работой админи страции. В их рядах состояло более 9 тыс. коммунистов2. Усложнение выполняемых первичными парторганизациями функ ций вело к росту численности партийных работников. Под контролем Горьковского ОК КПСС находились вопросы регуляр ной отчетности местных Советов перед избирателями.
Партийные организации КПСС про должали руководить деятельностью проф союзов. В Горьковской обл. имелось 23 отраслевых профсоюза, которые объеди няли 1 800 тыс. чел., т.е. практически всех работающих в городах и значительную часть сельских тружеников. В 11 тыс. пер вичных профорганизаций числилось 110 тыс. чел. Кадровый состав председателей комитетов профсоюзов находился под жестким партийным контролем.
Особое внимание, как и в предшеству ющие периоды отечественной истории, обращалось на укрепление партийного ядра в ВЛКСМ. В результате партийная прослойка в комсомольских организа циях непрерывно росла. Если в 1968 г. в г. Горьком членом или кандидатом в члены КПСС был только каждый пятый секре тарь комитета ВЛКСМ, то уже в 1969 г. -каждый третий. Всего в 1969 г. в составе областной комсомольской организации насчитывалось более 4 тыс. членов КПСС, из них 1 745 работали секретарями комсо мольских организаций.
Важным инструментом прямого воз действия партии на все сферы обществен ной жизни, средством тотального поли тического контроля являлась система идейно воспитательной и агитационно пропагандистской работы. В 1965–1985 гг. КПСС серьезно занималась разработкой научных основ партийной пропаганды, проведением разного рода социологических исследований, организацией научных и учебно-методических конференций, комплексным планированием идейно-воспитательной работы, анализом эффективности агитации и пропаганды. Особое внимание уделялось партийной учебе коммунистов. ЦК КПСС рассылал инструктивные письма о критериях отбора коммунистов в Заочную высшую партийную школу. Дом политического просвещения Горьковского ОК КПСС изучал и обобщал опыт работы пропагандистов начальных политшкол и партруководства ГК и РК КПСС в системе партучебы1. Большой интерес в центре и на местах вызывали разработка и пропаганда новых советских ритуалов. Воспитание молодежи на героических традициях партии, комсомола и советского народа становилось одним из важнейших направлений идейно -воспитательной работы. Качественный состав идеологических кадров – заместителей секретарей парторганизаций по идеологической работе, пропагандистов политсети, организаторов атеистической работы, редакторов многотиражных газет, работников культпросветучреждений, директоров школ и ПТУ, преподавателей истории и обществоведения, преподавателей кафедр общественных дисциплин вузов, воспитателей общежитий, журналистов, редакторов газет и журналов и др. – тщательно изучался и контролировался ОК, ГК и РК КПСС области.
Партийно-советская и хозяйственная номенклатуры, пользуясь состоявшейся «кадровой стабильностью», неэффективным коллективным контролем «снизу» со стороны рядовых коммунистов и обычных граждан, почувствовали себя полновластными хозяевами страны, «своих» заводов, газет, пароходов, регионов и республик. Именно в это время номенклатура впервые проявила заинтересованность в легализации своего нового статуса. При этом не следует забывать, что большинство рядовых коммунистов, огромное число руководителей, связанных с практической работой, честно и профессионально выполняли свои функции.
Партийно-государственный аппарат, номенклатура обладали всевластием. Решения высших партийных органов всегда имели приоритет над законами. Законы попирались и неофициальными партийными решениями, так называемым «телефонным правом». Корпоративные интересы номенклатуры полностью возобладали над государственными и общественными. Прикрываясь идеями социального равенства, номенклатура за счет административных механизмов распределения из общественных фондов обеспечивала свое перманентно растущее благосостояние. В полной мере это проявлялось в системе «льгот и привилегий». ЦК КПСС, Совет Министров СССР детально определили их содержание и объем для разных категорий номенклатуры. В соответствии с указаниями ЦК и на бюро Горьковского ОК КПСС систематически рассматривались и принимались к «неуклонному руководству и исполнению» вопросы «О порядке премирования освобожденных партийных, профсоюзных и комсомольских работников».
Документы комиссии партийного контроля ЦК КПСС и ОК КПСС Горьковской партийной организации отражают процесс изменения причин и мотивов исключения из правящей партии проштрафившихся членов КПСС. По райкомам партии г. Горького и области с 1965 по 1985 г. коммунисты в основном исключались за взятки, растраты, хищения, за злоупотребление служебным положением в корыстных целях, попустительство злоупотреблениям и хищениям социалистической собственности, приписки и очковтирательство, нарушение правил учета и распределения жилья, злоупотребления при строительстве дач и др.2
Новым мотивом исключения, который в силу неизбежного последующего репрессирования не мог проявиться в 1930-х гг. и пр актич ески не встречался в конце 1950-х – начале 1960-х гг., в годы хрущевских попыток демократизации партийной жизни и робкого наступления на привилегии номенклатуры, стал добровольный выход из КПСС3. С момента образования и до времен «застоя» исключение из партии считалось самым строгим наказанием для «настоящего» коммуниста. Оно подчас заменяло уголовное наказание для проштрафившихся. В годы «брежневского застоя» выходили из партии по разным мотивам. Но далеко не единичные случаи «сдачи партбилетов в первичные парторганизации», заявления в парткомиссии с просьбой «не считать их более коммунистами» зачастую отражали усилившуюся дискредитацию в общественном сознании социалистических идеалов, идейнополитическую и нравственную дезориентацию многих рядовых коммунистов в связи с буржуазно-бюрократическим перерождением части руководства партии и государства.
Пыталось ли руководство КПСС противодействовать этим явлениям и процессам, дестабилизирующим политическую систему СССР?
Меры внутрипартийного, организационно-политического, идеологического, правоохранительного характера предпринимались. Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко на съездах партии, на пленумах ЦК требовали повысить эффективность работы по улучшению качественного состава руководящих кадров и специалистов народного хозяйства, уровень партийного руководства хозяйственным и культурным строительством, коммунистического воспитания трудящихся. Выполняя указания ЦК партии, ОК, ГК, РК КПСС систематически анализировали состояние работы с кадрами, разрабатывали целые комплексы мероприятий по решению задач, изложенных в выступлениях генсеков. Первый секретарь Горьковского ОК КПСС Ю.Н. Христораднов, выступая с докладом на VIII пленуме обкома 9 апреля 1985 г., указал на имеющиеся недостатки, четко изложил сложившуюся к тому времени систему работы с кадрами, которая включала комплексный, системный подход, перспективное планирование подготовки и повышения квалификации кадров, проведение собеседований с номенклатурными работниками, организацию их общественно-политической аттестации и др.1 Для реализации поставленных ЦК задач задействовали широкую сеть филиалов институтов повышения квалификации руководящих работников и специалистов ряда министерств и ведомств, а также факультеты и курсы при вузах Горьковской обл. ЦК, OK, ГК и РК КПСС из года в год целенаправленно изучали вопросы подбора, расстановки и воспитания кадров по отдельным категориям номенклатуры, в разных отраслях народного хозяйства. Горьковский ОК КПСС в 1965–1985 гг. ставил вопросы и контролировал работу по исправлению выявленных недостатков в органах советской власти, в парткоме и коллегии УВД облисполкома, в подразделениях милиции, в школах и высших учебных заведениях, в медицинских учреждениях города и области, в строительных организациях, редакциях газет и журналов, на предприятиях торговли, на крупнейших заводах г. Горького, в колхозах и совхозах области.
Парторганизации пред приняли организационно-административные меры по укреплению трудовой дисциплины на производстве, развернули борьбу с бюрократизмом, нарушением норм партийной этики, взяточничеством. Особое значение для борьбы с негативными явлениями, а также для оздоровления моральнонравственной атмосферы в обществе должен был иметь обмен партийных (1973 г.) и комсомольских билетов.
Достаточно скептически даже работники партаппарата восприняли инструктивное письмо ЦК КПСС, разосланное по инициативе главного идеолога страны М.А. Суслова, в котором говорилось о необходимости «поднимать авторитет» Генерального секретаря партии Л.И. Брежнева. Однако конкретные мероприятия, разработанные для решения этой задачи, прежде всего средствами массовой информации, неуклонно проводились в жизнь. Гораздо больший эффект имела культивируемая «сверху» работа с письмами, жалобами, заявлениями и обращениями трудящихся в партийные и советские органы2. Например, только за 1972 г. в Горьковский ОК КПСС поступило 4 964 письма. Кроме того, ответственные работники обкома партии лично приняли 1 222 чел.: по вопросам улучшения жилищных условий – 147 (29,7%), работы промышленных предприятий, транспорта, связи и строительных организаций и их руководителей – 361
(7,1%), трудоустройства и неправильного увольнения – 340 (6,8%), работы колхозов, совхозов – 293 (5,9%). Много заявлений – 256 (5,2%) – поступало «о фактах неправильного поведения партийных, советских и хозяйственных работников, нарушающих нормы партийной этики, проявляющих нескромность» и т.д.
Однако все эти меры качественно не изменили ситуацию к лучшему. Партийносоветская номенклатура в 70-е – 80-е гг. стремительно вступала в период «загнивания». Классическая формула «загнивания» – элита эффективно удерживает власть, но при этом не решает общественные проблемы, не отвечает на исторические вызовы. Большую часть аппарата, управлявшего в 1960-х – 80-х гг. партией и страной, составляли люди, начавшие карьеру после репрессий 1930-х гг. В отличие от руководителей довоенной поры, они были лишены страха перед репрессиями и одновременно в массе своей верили в социальную справедливость. Основу «новой элиты» составлял высший слой партийных функционеров. Ряды «элиты» при Л.И. Брежневе пополнились за счет верхушки профсоюзов, ВЛКСМ, ВПК, привилегированной научной и творческой интеллигенции. Новая номенклатура принесла с собой иные взгляды, настроения, ценности. Большинство из них имели высшее образование, некоторые – ученые степени. Работники аппарата неоднократно бывали в загранкоман-дировках, т.е. имели более широкий кругозор, познакомились со стандартами «потребительского общества».
Не менее важная трансформация происходила в распределении функций и, следовательно, реальной власти внутри номенклатуры. Уже к концу «хрущевского десятилетия» сформировались многочисленные корпоративные структуры, в т.ч. региональные, со своими специфическими интересами и рычагами власти. Это серьезно отразилось на назначениях на высшие партийные посты в регионах. Например, в Горьковской обл. на фоне «ленинградского дела» 1949–50 гг., к которому оказался непосредственно причастен М.И. Родионов, первыми секретарями ОК вплоть до 1965 г. становились назначенцы из центра, не связанные с регионом: Д.Г. Смирнов, Н.Г. Игнатов, Л.Н. Ефремов, М.Т. Ефремов. Но начиная с 1965 г. и вплоть до 1991 г. Горьковский обком
КПСС возглавляли уже исключительно местные выдвиженцы: К.Ф. Катушев, Н.И. Масленников, Ю.Н. Христораднов, Г.М. Ходырев. На наш взгляд, это прямо свидетельствовало о возросшей силе местной номенклатуры и значительной ее самостоятельности по отношению к центру.
Уже в 1940-х – 50-х гг. номенклатурная практика требовала примерного соответствия национального состава региональной номенклатуры этническим характеристикам региона. В Горьковской обл. учитывался ее полиэтнический состав, наличие значительных анклавов мордовского и татарского населения на юге, марийского и чувашского – на севере. Поэтому при выдвижении кадров на руководящую работу требовалось, чтобы, с одной стороны, они отражали национальный состав населения, но при этом, с другой стороны, осуществлялся надлежащий надзор в виде русских кадров. Соответственно в 1960-х – 80-х гг. окончательно сложилась практика назначения в национально -ориентированных местностях на должности вторых секретарей обкомов и райкомов, заместителей председателей райисполкомов русских по происхождению номенклатурных работников, которые воспринимались местными кадрами как «око центра», «рука Москвы».
В условиях всеобщего дефицита «времен застоя» в партийных органах формировались разного рода «министерские лобби», выбивающие для своего региона, республики фонды и капитальные вложения. Местная хозяйственная элита, имея возможность перераспределять ресурсы, реально влияла на процесс принятия политических решений. Монопольные интересы хозяйственников, региональной элиты объективно ослабляли власть центра, разрушали целостность советской системы. В национальных республиках поднимал голову национализм с антикоммунистическим акцентом, усиливалось негативное отношение к роли общесоюзных структур, процветала коррупция на всех этажах власти, начиналось слияние отдельных звеньев партийного и государственного аппаратов с теневой экономикой, уголовными элементами (Узбекистан, Казахстан, Киргизия). Правда, в Горьковской обл., имевшей многовековой опыт совместного проживания граждан разных нацио- нальностей, насыщенной оборонными предприятиями, закрытой для иностранцев, т.е. находящейся под особым вни-манием спецслужб, вышеперечисленные негативные явления проявлялись в более «мягких» формах.
Тем не менее хозяйственная реформа 1965 г., развитие «теневой экономики», созданная брежневским руководством атмосфера безнаказанности и вседозво ленности давали мощный импульс соб ственническим ориентациям номенкла туры. Главным источником «предпервона-чального накопления капитала» высшей партийной элитой в 1960-е — 80-е гг. стали всевозможные злоупотребления, система тические взятки, приписки, протекцио низм1. Вялая борьба режима с этими «чуж-дыми социализму» явлениями придала им уродливый характер, но не остановила разложение системы.
В Комитете партийного контроля при ЦК КПСС, на бюро Горьковского ОК
КПСС партийные руководители обла-сти неоднократно констатировали, что в работе с кадрами процветает практика пересаживания скомпрометировавших себя работников из одного кресла в дру гое; «беспринципное и либеральное отно-шение к оценке неправильного поведения отдельных руководящих работников»; «привлечение виновных к ответствен ности лишь после вмешательства выше стоящих органов»2 и др. Так в 1960-х — 80-х гг . постепенно формировался закрытый для посторонних «свой круг», в котором поддерживалось ощущение соб ственной исключительности и пренебре жительное отношение к рядовым гражда нам. Следующим закономерным шагом трансформации советской номенклатуры стал переход от роли «управляющих» го сударственной собственностью к положе нию ее реальных хозяев. Но это произо-шло уже на следующей стадии разложения политической системы СССР.