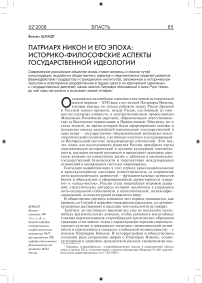Патриарх Никон и его эпоха: историко-философские аспекты государственной идеологии
Бесплатный доступ
Современное российское общество вновь ставит вопросы о поиске путей консолидации, выработки общественных идеалов и перспективных моделей развития. Взаимодействие государства и гражданских институтов, заложенное в историческом прошлом и всесторонне разработанное в трудах одного из крупнейших церковных и государственных деятелей, каким явился Патриарх Московский и всея Руси Никон, до сей поры актуально и вызывает живой интерес.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164363
IDR: 170164363
Текст обзорной статьи Патриарх Никон и его эпоха: историко-философские аспекты государственной идеологии
О становимся на наиболее значимом для нашей исторической жизни периоде – XVII веке с его эпохой Патриарха Никона, которая явилась не только рубежом между Р-усью Древней и Р-оссией нового времени, между Р-усью, состоявшей из множества удельных княжеств, и централизованным православным Московско-Р-омейским царством, обремененным ответственностью за Вселенское православие и Православную Эйкумену, но и стала эпохой, во время которой были сформированы основы и положены начала дальнейшей национально-государственной и даже шире – государственно-эйкуменической (имперско-эккле-зиологической) политики, с активным участием в складывающейся Вестфальской системе международных отношений. Этот век, эта эпоха для последующего развития Р-оссии приобрела черты стратегической исторической и духовно-культурной значительности, наследие которой оказывало и продолжает оказывать серьезное влияние на совокупную жизнь с заботами о национальногосударственной безопасности и перспективах международных отношений в меняющихся системах миропорядка.
Б-лагодаря выработанному в этот период кросснациональному и кросскультурному наследию (ответственность за сохранение онто-аксиологичских ценностей – фундаментальных ценностей бытия и общежития) и сформированной двувекторности «север-юг» и «запад-восток», Р-оссия стала мощнейшей мировой державой, стратегические интересы которой заключены в удержании онто-социальной стабильности и полиэтнической, поликонфес-сиональной, поликультурной открытости миру.
ШМИДТ Вильям – советник РФ
1 кл., к. ф. н., доцент кафедры государственноконфессиональных отношений РАГС при президенте РФ, кафедры дипломатии Дипломатичес кой академии МИД России
В общественно-научном сознании этот период связывается, как правило, со Смутой и церковно-гражданским расколом, а о духовнокультурных достижениях и наследии этого века почти не говорят.
Заметим: до настоящего времени все еще не высказано сколь-нибудь вразумительных доводов, чтобы увязывать масштабные гонения на раскольников-старообрядцев1 (религиозно-обрядовая традиция «стоглавого» толка с характерными чертами социокультурного аутизма и гражданско-политико-экономической активности и стремлением к посадско-слободской независимости) – с именем Патриарха Никона. В историографии и общественном сознании ради сохранения мифов о Патриархе Никоне, социокультурном и церковно-гражданском расколе смещенными ока- зываются время и события: жестокость по отношению к раскольникам мнение закрепляет за Патриархом Никоном, но эти действия начали те, кто его судил и сместил; его действия и вкусы считают причиной кардинального стилистического перелома в литургической музыке, который произошел поколением позже. Словом, монументальный образ Патриарха Никона, неосвоенность его экклесиологических, религиозно-философских, социально-политических идей служит плотиной, запирающей историю Р-уси.
Так что широко распространенный историко-полемический миф-заблуждение есть не столько старообрядцев, сколько исторической и современной массовой культуры и научной критической традиции, который был сформирован тайным представителем Католической пропаганды веры митрополитом Газским Паисием Лигаридом в его «Истории Московского собора 1666–1667 гг.»1, а также логикой и механикой организации «судного дела» Патриарха Никона2. Впоследствии именно эта традиция и была активно и недвусмысленно подхвачена и последовательно внедрена в русскую историческую традицию, в русскую память трудами С. М. Соловьева, Н. Ф. Каптерева, А-. В. Карташева и др.3. Поэтому и «никониане», и «старообрядцы» в большей или меньшей степени являются ее заложниками. Для преодоления этого псевдогосударственного, антинационального и антицерковного наследия нужно затратить не только множество духовно-интеллектальных сил, но и физического, исторического времени. В связи с этим и перспективе демифологизации отечественной социальной истории можно утверждать, что «Судное дело»4 Патриарха Никона является залогом нашего исторического будущего: скрупулезный разбор «Дела» и его комплексный анализ поможет понять, осмыслить суть не только и не столько духовного и гражданского разорения, аномии, метафизики национально-государственной катастрофы и «маятникообразия» нашей истории, отделить разорителей от строителей, врагов от друзей, но и наконец увидеть историческую миссию российского государств на мировой арене.
Таким образом, «Дело» Никона – дело не сугубо русской истории, оно имеет характер и значимость вселенского масштаба. И это хорошо понимали, когда его хранили сперва в Приказе Тайных дел, а затем в опечатанных сундуках Министерства иностранных дел, когда допускали к его материалам «по Высочайшему повелению» и когда впервые в середине XIX в. издавали наследие Святейшего Никона не где-нибудь, не в Р-оссии, а в Великобритании5 (у нас же оно было издано лишь к 400-летию памяти Святейшего Патриарха Никона)…
Теперь становится совершенно очевидным, что осуждение и ссылка Патриарха Никона явились узловым событием для дальнейших судеб Отечества – завершился мир жизни, где всеопределяю-щим и всеорганизующим началом было святоотеческое православие, которое как в некую ссылку уходило вместе с Патриархом Никоном. На смену шел монархический абсолютизм.
Образом своей жизни Патриарх Никон продолжал ту многовековую традицию стяжания Святой Р-уси, активно участвуя в утверждении государственной мощи и величия Церкви на основах святоотеческого предания, напоминая о формуле в предисловии к Служебнику, изданному в 1656 г., «священство Б-ожественным служит, царство же человеческим владеет и о сем печется. Вкупе же уставы и правила Святых отец, яко от Святаго Духа вдохновенны, облобызающе приемлют и держат»: при нем были открыты мощи (прославлен в лике святых) Великого князя Даниила Московского.
Патриарх регентствовал над государством и обеспечивал обозами русское войско; умелыми политическими шагами он обеспечил объединение славянских народов – Великой, Малой и Б-елой Р-оссии, приняв под святительский омофор малороссов, белороссов, валахцев…
Святейший Никон, как это следует из его образа действия и письменного наследия, свою задачу, как Первосвятителя, понимал и видел в том, чтобы удержать развитие российской государственности и народности в святоотеческих традициях, в то время как в русском обществе уже намечалось отступление от веры и Церкви, формализовавшееся в первом светском законодательном акте – Соборном Уложении 1649 г.
Но секуляризационно-апостасийные тенденции взяли верх, в результате чего инициированное антигосударственными и антиправославными силами «Судное дело» Патриарха Никона вызвало к жизни цепную реакцию разно- и многоуровневых катастроф. Государственная бюрократия использовала противление архипастырю со стороны отдельных представителей клира, усилив царским и гражданским клятвопреступлением, была поругана иерократия – Святительская честь: лишенный Святительского сана Патриарх Никон почти 15 лет провел к ссылке.
Так, со Святейшим Никоном как в некую ссылку ушли и до ныне под спудом греха остаются погребенными стяжаемая Святая Р-усь и созидаемый в «традиции святых отец и законах благочестивых православных царей и Великих князей» Третий Р-им, все более и более истончевая суть державства, пременен-ного имперскостью. Это был первый шаг. На следующем этапе, формализовав Церковь и превратив Е-е в один из социальных институтов со своим бюрократическим аппаратом, было упразднено Патриаршество, обезкровив духовные силы народной самости. Далее угроза нависла уже над собственно гражданской властью – царством1: самочинно сак- рализованная и обездуховленная гражданская власть в 1917 г. была сокрушена буйством physisґа – природно-плотского человеческого естества, участь которого ехидны, прогрызающей чрево свое ради чад своих, а не пеликана или виноградной лозы – оформилась апостасия – преступление клятвы, изреченной народом в Утвержденной грамоте Великого Московского земско-поместного собора 21 февраля 1613 г. И мы – народ – «сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое… опять обратились к беззакониям праот-цев своих, которые отреклись слушать слов Моих и пошли вслед чужих богов, служа им…» (Ис. 63: 19; Иер. 11: 10). В свое время Первосвятитель пророчески указывал «собинному другу» – А-лексею Михайловичу о грядущей катастрофе: «и явились в тонком видении Никону Святители Московские в Успенском соборе Кремля и просили известить Царю не расширятися над Церковью Б-ожией… А- не послушает – будет пожар в пределах Царства»… Не внял царь этим словам – спустя чуть более месяца «было огненное запаление на царском дворе». Так, в новой и новейшей русской истории утвердился перманентный процесс «охоты на оборотней, предателей и заговорщиков» с его кострами, социально-гражданскими реформами, бунтами, революционными движениями – и сокрушился колосс, стоящий на «глиняных ногах»2…
В этих обстоятельствах как не вспомнить, не помянуть и не восхититься стойкостью и ревностью по вере великого русского Первосвятителя.
Р-азмышляя о вселенском, Святейший предпринимал усилия и использовал возможные средства, чтобы в масштабе «пре-менения царств» восстановить, сохранить и обеспечить единство Вселенского православия в лоне Московско-Р-омейского царства. Так что по сути русские призывались к восстановлению кафоличности, которую они в ходе своей исторической самоизоляции и нацинально-духовного партикуляризма практически утратили, но не утратили главного как тогда, так и сейчас – ощущения того, что истинное, от века предуготованное Р-усское православное царство, «Р-усская Церковь – часть Церкви Вселенской, и отношения Р-усской Церкви ко Вселенской – основной смысл истории Р-усской Церкви, если не вообще русской истории»1.
В данном историко-цивилизационном контексте разве было что-то иное, нежели как единственно возможное – сохранение кафолической Церкви? Р-азве возможно было действовать иначе, если не быть безответственным и не творить «образ жив Христов»? Поэтому вся церковная и гражданско-политическая (государственная) деятельность Святейшего Патриарха сводилась к тому, чтобы в «симфоническом» содела-нии властей духовной и светской – церковной и государственной – осуществлять дольний мир по образу Горнего, завершить осуществление Третьего Р-има новым Израилем, символом и образом которого становился Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима со всем его богатейшим духовно-нравственным, культурно-просветительским, художественно-интеллектуальным, технико-технологическим и миссионерским наследием.
Выдающийся исследователь архитектурно наследия Патриарха Никона прот. Лев Лебедев в своем историософском труде «Москва Патриаршая» говорит: «А-рхитектурное творчество Святейшего Патриарха Никона было обусловлено определеннымикафолическимизамысла-ми о Р-усской Церкви, служило средством их реализации. Осмысливая идею «трех Р-имов», Патриарх Никон актуализировал в противовес государственно-политическому тезису тезис о «новом Иерусалиме», подразумевая высоту христианского благочестия Святой Р-уси – нового Израиля и ее столицы как фактического центра Вселенской эйкумены»2.
Известный постулат, что метафизические конструкты эпохи Средневековья характеризуются плотностью детерми-нантных связей с символо-образами и переживаются на психосоматическом уровне как реальность3.
Немаловажно также помнить, что на рубеже XVI–XVII вв. наша культура претерпевала серьезные сущностные трансформации – менялась картина мира средневекового человека4. Эти трансформации нашли свое отражение и в строе языка – появляются книжно-научные своды грамматики, риторики, диалектики, логики, богословия и философии (эти последние не то что не изучены, но и практически неизвестны современной науке), формируются словники и лексиконы, в просодии вычленяется-абстраги-руется интонирование, приводя к появлению музыки и поэтики в современном их понимании, и т. д. Патриарх Никон предпринял успешную попытку по созданию синопсиса русского богослужебного пения, кодикологизация которого спустя век привела к появлению Б-огослужебных сборников современного типа; «руку приложил» и к укреплению исторической памяти народа, стимулировав работы по переводу на слаянороссийский язык Б-иблии, агиографических, летописных источников, хроник и т. д.
Все это тем не менее свидетельствует о неизбежном динамическом процессе секуляризации общественного сознания, при котором символо-образ заменялся предметным зрением, так что подвергалась трансформации и картина мира, с ее моделями бытия, антропосоциума и метафизическими концептами5. Ярким примером подобного регресса, но более раннего периода-стадии может служить замена глаголицы кириллицей – глаголической азбуки кириллической. Языковая христоцентричная графика глаголицы – символо-образ был замещен более простым знаком, в гранях которого нужно было знать-понимать его содержательную часть (примером тому являются практически неизвестные современной науке А-лфавиты духовные, среди которых и алфавит первого царя романовской династии Михаила Федоровича). Ведь и Домострой не за зря появляется… Тем не менее культура сохранила глаголическое наследие в элементах музыкальной грамоты – крюков (знамя). Синкретизм, обеспеченный единством начертанных крюка и слова, в знаменном роспеве зада-вал-порождал-открывал смысл, семиотическую парадигму социобытия, то есть являлся символом.
Е-стественно, динамический регресс от символа к знаку вызывает серьезную обеспокоенность любого типа культуры. Культура как бы борется за себя, но и побарывает самое себя своим же «модернизированным» сознанием. И лишь человек в его тео-антропо-центричнос-ти способен хоть как-то микшировать этот энтропийный процесс. Такая обеспокоенность была исторически явлена и на Стоглавом соборе, и при Патриархе Иосифе, и при Патриархе Никоне на Соборе 1654 г., одобрившем книжную и церковно-обрядовую справы, и при митрополите Московском Филарете, радевшем о «догматическом достоинстве» Е-лисаветинской Б-иблии и требовавшем ее «охранительного употребления», и при Патриархе Тихоне, да и сегодня, когда доминантой массовой культуры становятся симулякры и ценности либерталь-ного релятивизма социал-детерминизма.
Историческая сверхзадача человека (лучше сказать: его онтологическая ответственность – ответственность перед бытием) в отношении высокой культуры и языка при всех морфологических и орфографических изменениях последнего должна быть, как неизбежное, устремлена на сохранение и оберегание лексико-семантический фонда и символической чистоты языка картины мира (именно здесь, в этой смысло-содержательной части нельзя допустить утраты, подмены, размытия того самого «аз»! Именно в этом заключается то роковое для всякой культуры «ни единого «аз», в отличие от «старообрядческого» ни единого «аз», которое было лишь «аз»-ом формы). И вновь ярчайшим примером служит деятельность Святейшего Патриарха Никона, повелением которого была переведена знаменитая «Скрижаль» (М., 1656)1, которая осветила и наполнила глубочайшим и духовным смыслом то, что считалось на Р-уси священной традицией, переданной с верой от Греческой Церкви, – дала опыту русского миросозерцания символическое, таинственное толкование храма и Б-ожественной литургии, которое в свою очередь подытоживает развитие византийской теории образа Дионисия А-реопагита, Василия Великого, Григория Б-огослова, Иоанна Златоуста, Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, СимеонаСолунского, ИсидораПелусиота и др. отцов. Процитируем здесь знаменитейшую книгу XVII в. «Жезл Правления»: «По отзыву же одного из просвещеннейших современников, за Скрижаль Патриарх Никон достоин вечнаго благодарения от Церкви». Вот так – ни больше, ни меньше…
Подводя краткий итог, заметим, что величие этих деяний и масштаб наступавших социальных преобразований выразились и в титуловании Патриарха Никона Великим государем и уравнивании его в социально-государственной иерархии с царем (многие от лукавых видят в этом папо-цезаристские устремления Святейшего и обвиняют его в гордости).
Всеобщая же неподготовленность русского общества на всех уровнях его социальных групп, выражавшаяся в приверженности догматичному охранению традиционного уклада и образа мысли, а также политическое слабоволие, личностная нерешительность, стремление к «тихости» и обеспокоенность сохранением династической преемственности со стороны царя, вызвали процесс, границами которого стал социальный аутизм значительных групп людей – с одной стороны и лишение Патриаршего достоинства и ссылка Святейшего Никона – с другой.
Сейчас можно лишь удивляться, как столь просвещенные и ревностные патриаршие соплеменники и сослужебники, многие от прежних «ревнителей благочестия», оказались не среди пастырей, полагающих душу свою за «овцы Моя», а уводящими паству от Пастыря из Церкви Е-го; как среди них не нашлось тех, кто мудро и по-пастырски кротко назидал бы паству, пребывая в послушническом сомыслии и соработничестве со своими архипастырями и всей кафолической Церковью (хотя, правда, чему? Ведь и в наше время немало подобных явлений, которые не так заметны в общей информационной хаотичности времетока при душевно-чувственной разнузданности и духовной слабости).
Из всего очевидно, что основные вопросы связаны не столько с Патриархом Никоном, его церковно-общественным и государственным служением, сколько с процессами общекультурными и цивилизационными, вопросами церковно-государственных отношений и государственно-гражданского взаимодействия.
А-нализируя наследие Патриарха Никона, можно уверенно говорить, что русское общество искало и находило в себе силы, чтобы преодолевая смутные времена, стать мощнейшим государством на Е-вразийском континенте и активно влиять на политику и духовную жизнь народов, окончательно осознать себя историческим преемником Р-омейского царства и сохранителем наследия Вселенского православия, защитником и государственно-политическим гарантом Православной Эйкумены. Наши предки с их государством и Церковью выработали и укоренили в нашу историческую память-жизнь модель миропорядка, восходящую к миссионерско-экклезиологи- ческим и ортодоксально-аксиологическим основаниям, полагая себя неотъемлемой частью мира с особой функцией устремленной ответственности и обеспечения международной стабильности посредством сочленения полюсов этого мира в аспекте не только физиократическом, но всегда более актуальном – метафизическом.
В Святейшем же Патриархе Никоне «с совершенной полнотой отразилось самосознание Р-усской Церкви, самосознание духовной власти, твердо разумеющей свое высочайшее призвание и высочайшую ответственность; отвергающей возможность каких-либо уступок и послаблений в святой области ее пастырских попечений, тщательно хранящей Б-ожественный авторитет священноначалия и готовой исповеднически защищать его перед лицом любых искушений и скорбей», а его монументальный образ приобрел черты социокультурного архетипа благодаря сочленению жизни личной – Патриарха и жизни социально-исторической – народа, Церкви, государства и оказывает влияние на всегда современную жизнь. Как имя, так и образ Патриарха Никона стали многогранным знаком-символом – даже не столько XVII в., сколько модели организации миропорядка, борьбы за содержание, принципы и формы институционального взаимодействия государства, общества и Церкви, ответственности конкретной личности за судьбы народа, страны и наследия цивилизации.
Статья дана в авторской редакции с незначительными сокращениями