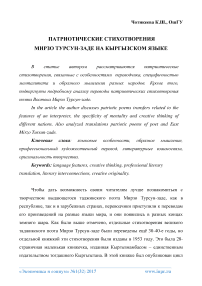Патриотические стихотворения Мирзо Турсун-заде на кыргызском языке
Автор: Чотикеева К.Ш.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 1-2 (32), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье автором рассматриваются патриотические стихотворения, связанные с особенностями переводчика, специфичностью менталитета и образного мышления разных народов. Кроме того, подвергнуты подробному анализу переводы патриотических стихотворения поэта Востока Мирзо Турсун-заде.
Языковые особенности, образное мышление, профессиональный художественный перевод, литературные взаимосвязи, оригинальность творчества
Короткий адрес: https://sciup.org/140122213
IDR: 140122213
Текст научной статьи Патриотические стихотворения Мирзо Турсун-заде на кыргызском языке
Чтобы дать возможность своим читателям лучше познакомиться с творчеством выдающегося таджикского поэта Мирзо Турсун-заде, как в республике, так и в зарубежных странах, переводчики приступили к переводам его произведений на разные языки мира, и они появились в разных концах земного шара. Как было выше отмечено, отдельные стихотворения великого таджикского поэта Мирзо Турсун-заде были переведены ещё 30-40-е годы, но отдельной книжкой эти стихотворения были изданы в 1953 году. Это была 28страничная маленькая книжечка, изданная Кыргызмамбасом - единственным издательством тогдашнего Кыргызстана. В этой книжке был опубликован цикл стихотворений М. Турсун-заде «Индийская баллада». В следующем, 1954 году Кыргызмамбас издал второй сборник М. Турсун-заде под названием «Достук закону». В этом сборнике были опубликованы стихотворения поэта в переводе двух авторов - Темиркула Уметалиева и Кубаныча Акаева. Несколько стихотворений Мирзо Турсун-заде из цикла «Индийская баллада» в переводе Т. Уметалиева были напечатаны и в этом поэтическом сборнике.
К «Индийской балладе» сделано примечание: “В Индии 60 миллионов человек принадлежат к касте “неприкасаемых”. Слово же “каста” в “Словаре русского языка” объясняется следующим образом: “В Индии и некоторых других странах Востока - замкнутая общественная группа, связанная происхождением, единством наследственной профессии и правовым положением”.
Оригинал баллады состоит из трёх частей, разделённых звездочками. Первая часть, написанная в форме бейтов, состоит из 12 строк, в которых повествуется о неприкасаемых - людях, больных проказой, тяжелым хроническим заразным заболеванием. На самом деле выясняется, что эти люди вовсе не прокажённые, они не больны. Их объявили неприкасаемыми, чтобы оскорбить, подчеркнуть сословную несостоятельность.
Во второй части повествуется об их тяжёлой жизни. Поэт говорит о том, что хотел бы рассказать о диковинных птицах, слонах и тиграх, несказанных богатствах этой страны, но вынужден говорить о несчастных созданиях, несчастных от рождения:
Нет, поведаю вам я в сердечном волненьи
О несчастных, что обречены от рожденья [1, 190].
Затем в третьей части автор повествует о знакомстве с хорошим человеком, который ведёт его в тот район, где живут прокажённые:
И пошли мы в огромный и нищий район, Что издревле отверженными заселён.
Никогда не забуду я в жизни моей
Этих жалких, измученных горем людей,
Слёз их, рук, что тянулись, худы и темны,
К человеку счастливый свободной страны [2, 589].
Перевод в целом передаёт содержание оригинала, мы получаем сведения о тяжёлой доле сословия, объединяющего почти 60 миллионов людей. Сохранена форма бейтов и ритм. Но сравнительное чтение с оригиналом свидетельствует о наличии неточностей, непонятных мест и даже об искажениях идеи произведения.
На окраине Самарканда, рядом с кладбищем тоже было прибежище прокажённых:
От стены городской Самарканда вдали, За кладбищем тонула в дорожной пыли Куча хижин, дувалом глухим обнесенных, –
Это было прибежище для прокаженных [Антология таджикской поэзии. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1954]:
Махалласы аллалардын бир заманда
Болуптур өзүбүздүн Самаркандда [3, 7].
Здесь слово “прибежище” передано тюркским словом “махалля”, обозначающим территориальное деление кишлака, своеобразный квартал, но никак не “прибежище”. Ни в какие ворота не лезет передача переводчиком слова “прокажённый” (больной проказой) словом “аллалар”, отсутствующим в наших словарях. Впрочем, это может оказаться опиской, недоглядом со стороны переводчика, редактора и корректоров середины 19 века, когда выходил сборник Т. Уметалиева.
Если днём в городские ворота входил Прокаженный, он в ужас людей приводил.
И в смятенье народ говорил устрашенный: “Берегись! Прокаженный идет! Прокаженный!”
Деревянная чашка в руках бедняка Возвещала прохожему издалека,
В пыльных улицах скорбно и глухо звеня: “Опасайтесь меня! Не касайтесь меня!” [2, 587].
Бечара шаарга келсе, кокус эптеп, Аргасыз басар эле элден четтеп.
Азасын шалдыратып айтар эле:
“Ары бас! Жакын келбе! Жакын келбе!”
Кээ кезде азасы да болбой турган, Белине аркан, жиптен орой турган.
Мойнунда коцгуроосу келет тилге:
“Макоого жакын келбе! Ага тийбе!” [3, 8].
Сравнение фрагментов показывает, что по содержанию они достаточно близки, но в кыргызском варианте много непонятных мест. К примеру, слово “аза”. Это может быть диалектизмом, используемым на юге Кыргызстана, во всяком случае, в “Кыргызско-русском словаре” К.К. Юдахина это слово передаётся как “член колхоза”. Следовательно, слово это никак не передаёт нам того предмета, что своим звуком предупреждает окружающих об опасности. Тем более, во втором случае употребления
Кээ кезде азасы да болбой турган,
Белине аркан, жиптен орой турган.
Это слово оказывается чем-то достаточно мягким, что можно как канат или верёвку привязать к поясу. Тут уже читателю приходится туго: нет в руках у прокажённого ничего, даже беззвучного, что можно было б привязать к поясу.
Передача реалий при переводе – одна из сложнейших задач. В тексте их следует сохранить, пытаясь объяснить в примечаниях. Но Т. Уметалиев решает облегчить своему читателю задачу – слова
Эта каста живет уже тысячи лет
В вопиющей нужде, в безысходности бед [2, 588].
Ничтоже сумняшеся, передаёт кыргызским словом “урук”, обозначающим “род”, “племя”, правда с пояснением, что оно “очень своеобразное и многочисленное”, а во втором случае – кыргызским словом “топ” – “группа”.
Бул урук, эң бөтөнчө, эң көп урук,
Бул бир топ – байыркыдан калган туруп [3, 9].
“Вопиющей нужды, безысходности” в переводе нет! Каста неприкасаемых превратилась в обычный многочисленный и древний кыргызский род, что, конечно же, недопустимо.
Обращение к океану, земле, реке, озеру для того, чтобы решить какой-то вопрос – традиционное явление, идущее издревле. К примеру, этот мотив сильно был развит у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Вот фрагмент стихотворения Пушкина “К морю”:
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран [4, 173].
В стихотворении выражается мысль о том, что мол, “куда ни пойдёшь, везде смерть от Мамая”.
Мирзо Турсун-заде в Индии побывал и у большой реки Ганг, которой посвятил стихи. Он выражает здесь свою жалость к народу, вынужденному жить под колониальным игом:
Хоть берег вскормлен и вспоён тобой,
Хоть урожай богат, но он – не твой.
Твой беззаветный труженик – народ
От голода чудовищного мрёт...
Ползут, как воры. Чем наполнен он,
Их каждый запечатанный вагон? [5, 595].
Перевод Т. Уметалиевым этого стихотворения, в целом передаёт его содержание. Если рассматривать образность, то в переводе есть как плюсы, так и минусы. В качестве недостатков можно отметить, в первой главе то, что не сохранена форма бейтов и особенности рифмы. Наблюдаются и неточности, непонятные места, снижение философского уровня оригинала. К примеру, великолепное, высокопоэтичное описание ночного океана, вероятно, с лунной дорожкой на нём
Мерцает, как покрытый ржою меч
На необьятном поле древних сеч [193-б.].
В переводе становится совершенно пустым назиданием молодым людям не стать ржавеющей саблей, оставленной забывчивым, безнадёжным (?!) батыром висеть в ножнах:
Кылыч болбо дат бастырып, үмүт үзүп,
Таштап баатыр көңүлүнөн чыгарган [3, 15].
В представленном переводе нет слова “мерцает” и от этого содержание всего фрагмента меняется.
Далее, Ганг:
Как будто горе всей земли родной
Уносит, молча, в океан ночной. [1, 193].
В переводе же эти строки обретают совершенно иной смысл:
Күңүрт түндө унчукпаган, сыр айтпаган
Океанга толкундары окшошкон
Алып барат каравандай жүк ташыган [3, 15].
То есть, если перевести эти строки, то получится “Сумрачной ночью, молча, не выдавая секретов, в океан он несёт волны, похожие на караван, везущий грузы”.
В тексте присутствуют достаточно пространные дополнения, которых нет в оригинале:
Дециз жакка мынчалык жай жыласыц сен, Арац-арац дем алгандай байкалып.
Сыр жашырып атасыцар экеецер тец:
Суусу кеп Ганг, Жамна жарыц айкалып [3, 15].
Ты в сторону моря так медленно движешься, Что кажется едва-едва дыханье переводишь.
Вы оба течёте, скрывая свои секреты, Многоводный Ганг и супруга твоя Джамна [Там же].
Вот так волей переводчика река Джамна становится женой Ганга.
В Индии умершего человека сжигают, а пепел развеивают над водами Ганга. И хотя в оригинале этой детали нет, переводчик решает ввести её в стихотворение. А это уже называется “отсебятиной” или, мягче сказать, вольностью.
У читателя может возникнуть подозрение, что прекрасный переводчик с таджикского и фарси на русский язык В. Державин упустил при работе эту деталь, но вряд ли он мог не понять её важности.
При художественном переводе переводчик обязан сохранить основную мысль оригинала. Но вместе с тем, следует помнить, что переводчик тоже художник, зачастую не только не уступающий талантом автору оригинала, но и подчас превосходящий последнего. И тогда произведение на втором языке может стать художественным близнецом.
“Если я перевожу, – пишет Е. Евтушенко, – какое-нибудь стихотворение, значит, оно мне нравится, я как бы внутренне его считаю своим. Поэтому мои переводы это в то же время и мои стихи, очень дорогие для меня, и, может быть, еще больше дорогие, чем просто мои” [6, 119].
Следовательно, переводчик не просто сторонний наблюдатель или рассказчик, он пропускает произведение через своё сердце, при необходимости может ввести и дополнительный образ. В связи с этим, обратимся ещё к одному примеру из анализируемого стихотворения:
О Ганг могучий! Что же ты молчишь!
Зачем, как океан, не зашумишь?
Зачем под тёмной медью поздних лун
Уходишь ты в пустыню, как Маджнун? [1, 193].
Мы хотели бы остановиться на образе Меджнуна. В оригинале река Ганг сравнивается с широко известным на Востоке персонажем Меджнуном, который, не принося своему народу никакой пользы, блуждает по миру в поисках любимой. Образ Меджнуна в этом тексте – суть совершенно понятная, особенно для Мирзо Турсун-заде, который прекрасно знает этого героя. Но в кыргызскоязычном переводе Меджнуна нет. Это можно проследить и в произведениях учителя М. Турсун-заде – Садриддина Айни [7, 269-271].
Таким образом, перевод патриотических стихотворений Мирзо Турсун-заде связан с особенностями переводчика, специфичностью менталитета и образного мышления представителей разных народов. Подробном анализ переводы патриотических стихотворений поэта Востока Мирзо Турсун-заде показал, что все переводы в целом выполнеы адекватно.
Список литературы Патриотические стихотворения Мирзо Турсун-заде на кыргызском языке
- Турсун-заде М. Мой век (стихи и поэмы) /М. Турсун-заде. -М.: СП, 1973, -272 с.
- Антология таджикской поэзии. Государственное издательство художественной литературы /. Москва 1954. с 853.
- Турсун-заде М. Достук к закону /Мирзо Турсун заде. -Ф.: Кыргызмамбас, 1934. -105 с.
- Пушкин А.С. Сочинение : в 3-х т./А.С. Пушкин; вступ. ст. и примеч. Д.Д. Благого. -М.: Гослитиздат. -1958, т. 3: Евгений Онегин. Худож. проза. -623 с.
- Турсун-заде М. Избранные произведения в 2-х томах /М.Турсун-заде. -М.: ХЛ, 1985, т.1, -431 с. т.2, 350 с.
- Заверин Н. Искания и принципы /Н.Заверин. -СП Грузии, Тбилиси, 1962, -11 с.
- Сабирова В.К., Камбарова А.К. Переводы произведений Садриддина Айни на кыргызский язык. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2014. № 3. С. 269-271.