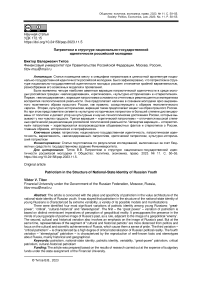Патриотизм в структуре национально-государственной идентичности российской молодежи
Автор: Титов В.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена месту и специфике патриотизма в ценностной архитектуре национально-государственной идентичности российской молодежи. Было зафиксировано, что патриотизм в структуре национально-государственной идентичности молодых россиян отличается крайней вариативностью, разнообразием его возможных моделей и проявлений. Были выявлены четыре наиболее заметные вариации патриотической идентичности в среде молодых российских граждан: «великодержавная», «критическая», «культурно-историческая» и «стереотипная». Первая, «великодержавная», вариация патриотизма основана на отчетливых реминисцентных императивах восприятия геополитической реальности. Она предполагает наличие в сознании молодежи ярко выраженного позитивного образа прошлого России, как правило, соседствующего с образом геополитического «врага». Вторая, культурно-историческая, вариация также предполагает акцент на образ прошлого России. Но при этом представители сегмента «культурно-исторических патриотов» в большей степени дистанцированы от политики и делают упор на культурные и научно-технологические достижения России, которые вызывают у них чувство гордости. Третья вариация - «критический патриотизм» - отличается высокой степенью критической рационализации российской политической реальности. Четвертая вариация - «стереотипный» патриотизм - характеризуется воспроизводством общеизвестных фактов и стереотипов о России, главным образом, исторических и географических.
Патриотизм, национально-государственная идентичность, патриотическая идентичность, вариативность, «великодержавный» патриотизм, критический патриотизм, культурно-исторический патриотизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149144688
IDR: 149144688 | УДК: 172.15 | DOI: 10.24158/pep.2023.11.5
Текст научной статьи Патриотизм в структуре национально-государственной идентичности российской молодежи
Введение . Тема патриотизма, как фундаментальной политической ценности, а также проблематика патриотического сознания и поведения российской молодежи, являются детально изученными в российской политической науке. При этом большинство исследователей, анализирующих патриотизм как феномен политического сознания или говорящих о «патриотической идентичности», не дают развернутого определения ключевому понятию «патриотизм». Оно рассматривается в априорном ключе либо с социологической точки зрения, как массовая превалирующая ценностная диспозиция, либо в психоэмоциональном ракурсе, как массовое устойчивое чувство (Ивченков, Сайганова, 2020; Маленков, Печеркина, 2019; Huddy, Khatib, 2007; Халий, 2017; Савва, 2023). Закономерно такая вариативность интерпретаций приводит к сложностям в определении той роли, которую патриотизм играет в российском обществе.
Не менее значимой проблемой является очевидный, социологически фиксируемый разрыв между патриотизмом, как преобладающей, декларируемой установкой сознания (личностной самоидентификацией «я – патриот»), и как некой нормативной моделью политического поведения1. Указанное ценностно-установочное размежевание четко фиксируют социологические исследования – и недавние, и более ранние, 2010-х гг.2 Например, согласно данным исследования Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО), проведенного в 2022 году, 48 % из тех российских школьников, которые, формально идентифицируют себя в качестве патриотов, хотели бы в будущем покинуть Россию3.
В связи с этим можно с уверенностью говорить о том, что проблема всестороннего политологического изучения патриотизма, его содержания и места в политическом сознании российской молодежи, а также его взаимосвязи с национально-государственной идентичностью, по-прежнему сохраняет свою актуальность.
Материалы и методы . Исходя из состояния разработанности обозначенной проблемы в отечественной политической науке, представляется необходимым заострить внимание на том, какое место занимает патриотизм в структурной композиции национально-государственной идентичности современной российской молодежи. В данном ракурсе наиболее продуктивным представляется обращение к классическим и современным теориям национально-государственной идентичности, которые опираются на теорию макрополитической идентичности и возникают на основе синтеза конструктивистского и политико-психологического подходов (Евгеньева, Титов, 2010; Комаровский, 2015; Халий, 2017; Шестопал, Смулькина, 2018). При этом теория макрополитической идентичности выступает в качестве отправной точки – «рамочной» платформы исследования, и предполагает, что национально-государственная идентичность есть именно сложноорганизованная структура-представление, специфическая разновидность макрополитической идентичности (Малинова, 2010). Конструктивизм рассматривает национально-государственную идентичность как многомерный результат социального конструирования, сложного и часто разнонаправленного по своей сути (Малинова, 2010; Евгеньева, Титов, 2010).
Политико-психологический взгляд на генезис национально-государственной идентичности предполагает акцент на когнитивисткий подход. А именно, в центре внимания оказывается тот факт, что политическая идентичность (и, в частности, национально-государственная идентичность) выступает результатом-репрезентацией политической социализации (Селезнева, 2020). Как известно, политическая социализация российской молодежи в 2000 – начале 2000-х гг. носила крайне нелинейный – весьма противоречивый, а подчас и фрагментарный – характер. Это обстоятельство во многом предопределило многообразие вариаций патриотической идентичности в массовом сознании молодежи современной России.
Представленное исследование опирается, главным образом, на массив актуальных эмпирических данных, полученных в ходе реализации научно-исследовательского проекта «Формирование идеологии патриотизма в российской студенческой среде на современном этапе» (Финансовый университет при Правительстве РФ, 2023 г.). В рамках данного проекта было агрегировано два блока данных. Первый блок – результаты фокусированных интервью на тему патриотизма и патриотического поведения (172 фокусированных интервью) с молодыми россиянами в возрасте 18–32 лет (студенты бакалавриата, магистратуры, программ очно-заочного обучения), проживающих в 9 регионах Российской Федерации. Второй блок – данные автоматизированного мониторинга социальных медиа (июнь–август 2023 г.) при помощи сервиса «Медиалогия», в ходе которого суммировано более 7 тысяч сообщений, касающихся отношения молодых россиян к патриотизму.
Помимо этого для уточнения ряда тенденций определенный интерес представляют результаты качественных политико-психологических исследований, проводившихся в конце 2010-х – начале 2020-х гг., а также данные общероссийских опросов1. При этом важно отметить, что представленные результаты политико-психологических исследований, безусловно, не претендуют на репрезентативность в общероссийском масштабе. Вместе с тем, они позволяют диагностировать состояние массового сознания и выделить некоторые, наиболее заметные психологические аспекты исследуемой социально-политической проблемы.
Патриотизм и национально-государственная идентичность: контуры взаимосвязи . Рассматривая патриотизм как феномен массового сознания, можно весьма четко выделить две принципиальные и, в известной мере, «полярные», диспозиции его понимания. Первая исходит из аффективной генетики патриотизма, трактует его как чувство – некоторое длительное психоэмоциональное состояние, презентуемое в коммуникативном пространстве. Речь идёт о «любви к родине» либо широкий эмоциональный спектр-репрезентацию позитивного отношения к «своей» стране (любовь, гордость, уважение, восхищение и т. п.).
Вторая диспозиция говорит о патриотизме как о политической ценности – коллективно разделяемой, устойчивой установке общественного сознания (Селезнева, 2020). Указанная установка не только презентует, но и что крайне существенно, предопределяет преобладающее в массовом сознании позитивное отношение к своей «стране», то есть макрополитической общности в различных ее смысловых и темпоральных проекциях: от исторической и географической до геополитической, институциональной, социально-экономической.
При этом некоторые зарубежные и российские исследователи часто заостряют внимание на том, что патриотизм не может трактоваться усеченно, только лишь как установка сознания, а должен проявляться и виде актуализированной поведенческой модели. Так, например, Л. Хадди и Н. Хатиб в работе «American patriotism, national identity and political involvement» интерпретируют патриотизм как поведенческое выражение позитивной национальной идентичности, сквозь призму позитивных гражданских моделей политического поведения (Huddy, Khatib, 2007). При этом авторы указывают на коэволюционный характер органической взаимосвязи «патриотизма» и «идентичности» как сопряженных явлений массового политического сознания. По их мнению, эти два феномена являют собой неразрывную структурную композицию, в которой «идентичность» описывает рельефную глубинную установку (де-факто обладающую дуальной аффективно-когнитивной генетикой), а «патриотизм» представляет собой ее устойчивые, регулярно воспроизводимые поведенческие проявления.
Согласно ряду концепций, национальная (национально-гражданская) идентичность выступает в качестве априори «патриотической», а сам патриотизм рассматривается в качестве ценностной первоосновы и мотивационного импульса гражданственности (Hutceson et al, 2004). Во многом аналогичных взглядов на взаимосвязь патриотизма и национально-гражданской идентичности придерживаются и российские исследователи проблем самоидентификации молодежи: А.В. Селезнева (2020), Т.В. Евгеньева (Евгеньева, Титов, 2010), В.В. Маленков (Маленков, Пе-ченкина, 2019) и ряд других ученых. При этом в российском научном сообществе не сложилось однозначного понимания, интегрирована ли данная политическая ценность непосредственно в «матрицу» национально-государственной идентичности или выступает ее внешним фактором-условием. Теоретическим знаменателем является лишь ее фундаментальная функциональная роль в воспроизводстве «политического “мы”» различных поколений молодых россиян, включая аффективную установку «я – граждан России», чувство принадлежности к России как историческому, политическому и социокультурному сообществу
В.В. Маленков и И.Ф. Печеркина анализируют патриотизм и базирующуюся на нем «патриотическую идентичность» российской молодежи именно в контексте гражданской самоидентификации. Они особо выделяют тот момент, что данный тип идентичности не может быть исключительно интровертным или, наоборот, формально-манифестным, а должен стремиться к самоактуализации в социальных практиках в качестве триггера соответствующих форм политического поведения (Маленков, Печеркина, 2019).
Результаты . В ходе исследования было выявлено, что патриотизм в различных его вариациях занимает существенное место и прочно укоренен в политическом сознании и в структуре национально-государственной идентичности российской молодежи. Являясь фундаментальной, по своей сути, рамочной ценностью, патриотизм, тем не менее, весьма опосредованно влияет на политическое поведение большей части молодых россиян, воспринимаясь ими, скорее, в контексте самоидентификации личностного «Я» и фиксации собственной принадлежности к России как «мы-сообществу». То есть патриотизм, свойственный российской молодежи, не является сегодня ценностью-триггером , моделирующей поведение большинства молодых россиян и способной стимулировать различные формы политического активизма.
Проведенное исследование свидетельствует, что у существенной части респондентов (не менее 20 %) присутствует весьма рельефная «великодержавная» модель политической самоидентификации . В центре указанной модели - реминисцентно фокусированный геополитический образ России как великой державы, конституируемый на основе оценок прошлого нашей страны либо как исключительно «героического» (в терминологии А. Ассман (2023)), либо как подчеркнуто позитивного. При этом существенный, но не всегда обязательный элемент данной модели - акцент на негативную идентичность, стремление воспринимать политическую действительность сквозь фрейм «врага» в различных его макрополитических и ментальных проекциях.
Вместе с тем, необходимо заметить, что для значительного числа молодых россиян сегодня патриотизм и патриотическая идентичность далеко не тождественны государство-ориентированным установкам политического сознания и тем более не синонимичны лоялизму по отношению к действующей власти. Более того, результаты исследования позволяют говорить о том, что в российской молодежной среде сформировался весьма многочисленный сегмент (не менее трети от числа респондентов) « критических патриотов ». В политическом сознании представителей данного сегмента патриотизм, как имманентная ценность, достаточно органично сочетается с критическими, а подчас и явно выраженными негативными установками по отношению к современной российской политике. При этом сам патриотизм (также, будучи в этом случае субъективно значимой политической ценностью) не выступает в качестве созидательного импульса политического поведения.
Третий сегмент молодых российских патриотов может быть условно обозначен как «культурно-исторический» (по примерным оценкам - до 20 % опрошенных). Он предполагает, как правило, весьма развернутую когнитивную составляющую - наличие у респондентов определенного круга знаний в области российской истории и культуры. Его характерной особенностью является частичная «деполитизация» респондентами собственной политической идентичности, стремление дистанцироваться от текущих политических реалий, рассматривать собственное политическое «Я» вне существующих социально-политических контекстов.
Наконец, результаты исследования позволяют говорить и о контурах четвертого, крайне аморфного, сегмента «стереотипных патриотов». В этом случае патриотическая идентичность не является выраженной и базируется на механической ретрансляции общеизвестных географических и исторических фактов, а также предельно размытых стереотипных мнений ( «самая большая страна», «много нефти и газа», «всех всегда побеждали во всех войнах» и т. п.). Указанная модель патриотической идентичности не предполагает серьезной когнитивной проработки и тем более четких эмоциональных реакций на основе стереотипизированной информации, поступающей из внешних источников.
Рассматривая «стереотипизированную» вариацию патриотизма, следует подчеркнуть, что данный сегмент не является четко очерченным в политическом пространстве современной России. В когнитивном ракурсе достаточно заметны его частичные смысловые пересечения «великодержавным» и «культурно-историческим» патриотизмом.
Обсуждение . Важно отметить, что результаты исследования в части понимания крайней вариативности и пластичности патриотизма, проявлений российской молодежью «рациональной» (критической) патриотической самоидентификации, коррелируют с данными масштабных общероссийских исследований 2010-х - начала 2020-х гг.1
Результаты проведенного исследования в существенной мере также соответствуют научным результатам, полученным другими учеными. В связи с этим симптоматично, что многие отечественные исследователи особо подчеркивают дифференцированный характер форм патриотизма в поле национально-государственной самоидентификации. Например, М.И. Лавицкая, А.А. Буреев и О.В. Ефремова дискутируют о «патриотических идентичностях» - весьма широком спектре вариаций, где каждый отдельный вид патриотизма сопряжен с определенной «доминантной» моделью идентичности (Лавицкая, Буреев, Ефремова, 2017). Следуя подобной дифференциальной логике, С.Г. Ивченков и Е.В. Сайганова выделяют шесть разновидностей условно «патриотических» установок, характерных для российской молодежи. Из них к государству и стране имеют прямое отношение следующие виды патриотизма: традиционный, демократический, либеральный, критический (Ивченков, Сайганова, 2020).
О вариативности и, в какой-то мере, внутренних противоречиях патриотизма в политическом сознании российской молодежи прямо говорит Г.С. Степанова. Она считает, что необходимо весьма четко дифференцировать две разновидности патриотизма, присущего молодым россиянам – «по отношению к Государству и Отечеству / Родине» (Степанова, 2020).
Исследуя образ России в политическом сознании различных политических поколений россиян, Е.Б. Шестопал и ее коллеги также фокусируют внимание на том, что в среде российской молодежи формируются две принципиально различные модели патриотизма и (как его производной) самоидентификации с образом России. Первая предполагает национально-государственную идентичность «великодержавного» типа. В центре такой когнитивно-символической композиции «политического “мы”» находится патриотизм в его обостренном историческом и геополитическом измерениях. Доминирующими являются акцент на безусловную ценность территории и опора на героическое прошлое (Шестопал, Смулькина, Морозикова, 2019). Нетрудно заметить, что в рамках такой модификации идентичности на первый план выходит «геополитический патриотизм»: те военно-политические сюжеты коллективной исторической памяти, которые генерируют чувство гордости за страну как субъект мировой политики.
Второй тип национально-государственной идентификации молодых россиян, согласно исследованиям Е.Б. Шестопал, Н.В. Смулькиной и А.В. Селезневой, основан на более рациональном, но также позитивном образе России (Шестопал, Смулькина, 2018; Селезнева, 2020). В этом случае имеет место своеобразный «прагматический» патриотизм, который проистекает из признания социокультурного своеобразия России, ее несомненных достижений и преимуществ. Тем не менее, такая разновидность патриотизма далеко не всегда имеет очевидный потенциал конвертации в позитивный социально-политический активизм.
Можно отметить, что результаты исследований политико-психологической школы, возглавляемой Е.Б. Шестопал, во многом корреспондируют с результатами, полученными нами в ходе реализации исследовательского проекта «Формирование идеологии патриотизма в российской студенческой среде на современном этапе». Выводы указанных исследований, проведенных под руководством Е.Б. Шестопал, позволяют контурно обозначить три патриотических вариации российской национально-государственной идентичности в политическом сознании российской молодежи: «геополитическую» , «ресурсно-экономическую» (в центре которой часто находится императив «страны нереализованных возможностей») и условную «априорную», когда декларируемый патриотизм не опирается даже на минимальный когнитивный фундамент (Шестопал, Смулькина, 2018).
Можно также заметить, что выделенная нами выше вариация «критического патриотизма» в существенной степени коррелирует с подходом И.А. Халий, которая разграничивает «безусловный» и «преобразовательный» типы патриотизма в современной России (Халий, 2017).
Заключение . Можно констатировать, что патриотизм и конструируемая на его основе патриотическая идентичность в течение длительного времени продолжают занимать существенное место в саморепрезентации «политического “мы”» современной российской молодежи. При этом для значительной части молодых россиян характерен феномен «созерцательного патриотизма», адаптивного к различным политико-психологическим контекстам и не предполагающего формирования моделей патриотического политического поведения. Проведенное исследование позволило диагностировать четыре вариации патриотической идентичности в среде молодых российских граждан: «великодержавную», «критическую», «культурно-историческую» и «стереотипную».
Список литературы Патриотизм в структуре национально-государственной идентичности российской молодежи
- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М., 2023. 328 с.
- Евгеньева Т.В., Титов В.В. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи // Полис. Политические исследования. 2010. № 4. С. 122-134.
- Ивченков С.Г., Сайганова Е.В. Ценностные ориентиры и их влияние на восприятие патриотизма у молодёжи // Вестник Института социологии. 2020. Том 11, № 2. C. 106-125. https://doi.org/10.19181/vis.2020.11.2.643.
- Комаровский В.С. Формирование национально-государственной идентичности в России: вызовы и риски // Власть. 2015. Т. 23, № 3. С. 20-27.
- Лавицкая М.А., Буреев А.А. Ефремова О.В. Современная патриотическая идентичность: содержание и примерная типология // Вестник Международного юридического института. 2017. № 1 (60). С. 90-100.
- Маленков В.В. Печеркина, И.Ф. Патриотическая самоидентификация в системе гражданских ориентаций молодежи // Социология. 2019. № 6. С. 249-262.
- Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. № 1. С. 5-28.
- Савва Е.В. Динамика представлений россиян о патриотизме // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 9. С. 60-64. https://doi.org/10.24158/pep.2023.9.7.
- Селезнева А.В. Ценностные ориентации и гражданско-политическая активность молодых российских патриотов // История и современное мировоззрение. 2020. Т. 2, № 3. С. 62-70. https://doi.org/10.33693/2658-4654/-2020-2-3-62-70.
- Степанова Г.С. Содержание социальных представлений о государстве и Отечестве у современной молодежи как проявдление патриотизма // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 4-2 (94). С. 107-110. https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.94.4.046.
- Халий И.А. Патриотизм в России: опыт типологизации // Социологические исследования. 2017. № 2 (394). С. 67-74. Шестопал Е.Б., Смулькина Н.В. Какой видят свою страну сегодня российские граждане? // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2018. № 2 (89). С. 51-68.
- Шестопал Е.Б., Смулькина Н.В., Морозикова И.В. Сравнительный анализ образов своей страны у жителей российских регионов // Сравнительная политика. 2019. Т. 10, № 3. С. 74-94. https://doi.org/10.24411/2221-3279-2019-10031.
- Huddy L., Khatib N. American Patriotism, National Identity, and Political Involvement // American Journal of Political Science. 2007. Vol. 51, no. 1. Pp. 63-77. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00237.x.
- U.S. National Identity, Political Elites, and a Patriotic Press Following September 11 / J. Hutceson [et al.] // Political Communication. 2004. Vol. 21, no. 1. Pp. 27-50. https://doi.org/10.1080/10584600490273254.