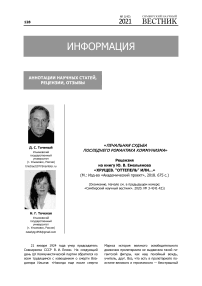«Печальная судьба последнего романтика коммунизма ». Рецензия на книгу Ю. В. Емельянова «Хрущев. “Оттепель” или…» (М.: Изд-во «Академический проект», 2018. 675 с.)
Автор: Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Информация
Статья в выпуске: 1 (43), 2021 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14119695
IDR: 14119695
Текст статьи «Печальная судьба последнего романтика коммунизма ». Рецензия на книгу Ю. В. Емельянова «Хрущев. “Оттепель” или…» (М.: Изд-во «Академический проект», 2018. 675 с.)
«ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА ПОСЛЕДНЕГО РОМАНТИКА КОММУНИЗМА»
Рецензия на книгу Ю. В. Емельянова «ХРУЩЕВ. “ОТТЕПЕЛЬ” ИЛИ…»
(М.: Изд-во «Академический проект», 2018. 675 с.)
(Окончание. Начало см. в предыдущем номере:
«Симбирский научный вестник». 2020. № 3-4(41-42))
21 января 1924 года умер председатель Совнаркома СССР В. И. Ленин. На следующий день ЦК Коммунистической партии обратился ко всем трудящимся с извещением о смерти Владимира Ильича: «Никогда еще после смерти
Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине великого и героического — бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений, — все это нашло свое воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера» [8, с. 295—296].
Панораму грандиозного обряда погребения организатора СССР воссоздал коллектив известных советских историков, возглавляемых П. Н. Поспеловым: «23 января гроб с телом Ленина в сопровождении представителей рабочих, членов Центрального Комитета РКП(б) и делегатов съезда Советов специальным поездом был доставлен из Горок в Москву. Его установили в Колонном зале Дома Союзов. Скорбь народа была безгранична. Со всех концов страны в столицу прибывали делегации трудящихся и воинских частей. В течение четырех суток, днем и ночью, несмотря на жестокий мороз, нескончаемый людской поток тянулся к Дому Союзов. Около миллиона человек пришли проститься с вождем, учителем и товарищем, отдать последний долг великому Ленину. Траурные митинги и собрания прошли по всей стране.
Не менее масштабный характер носили похороны И. В. Сталина. Они надолго запечатлелись в памяти многих московских интеллигентов. Вот как описал те мрачные первомартовские дни 1953 года известный писатель И. Эренбург, с легкой руки которого, наверное, навсегда вошло в оборот россиян слово «оттепель»: «Мы давно забыли, что Сталин — человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот всевышний умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным. Дом, в котором я живу, находился в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того чтобы пройти на одну из улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь, и, если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали, и все начиналось сначала.
Траурный митинг писателей состоялся в Театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растеряны. Нас повезли в Колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный… с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины поднимали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями. Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади» [23, с. 731].
Ужасающие сцены гибели людей, участвовавших в похоронах Гениального вождя и Учителя, зафиксировали с предельной четкостью многие мемуаристы. Э. Радзинский обозначил переход Сталина в мир иной как «Конец триллера»: «Но так просто Хозяин не ушел. В Москве состоялось его невиданное кровавое прощание с народом. Его положили в Колонном зале, и тысячные толпы скорбящих вышли на улицу. Из всех городов шли поезда с людьми — проститься с богом… Помню солнечный день и девушку рядом, ее безумные глаза. Вдруг все сдвинулось, и люди попадали. Меня понесло по людям, я спотыкался о тела… Помню, как вырвался и упал на мостовую. Пола пальто оборвана, но — живой. В тот же день тысячи увезли в мертвецкие. Уйти без крови он не смог… И задавленные присоединились к миллионам, которые он уничтожил» [16, с. 1243—1244].
С крыш домов за движением бесконечного потока людей, стремившихся увидеть в последний раз божественный лик Иосифа Виссарионовича, наблюдал будущий диссидент и публицист В. Буковский. Через несколько десятков лет он отметил в своих воспоминаниях: «Я увидел море голов. Словно волны ходили по этому морю, напирали, отступали, и вдруг в одном из боковых проулков под натиском живой массы качнулся и упал автобус, точно слон, улегшийся на бок. Несколько дней продолжалось это шествие, и тысячи людей погибли в давке. Долго потом по улице Горького валялись пуговицы, сумочки, галоши, бумажки» [9, с. 389].
Но кто же виноват в трагическом безумии сотен тысяч жителей Москвы и других городов СССР, давивших друг друга, одержимых святой параноидальной целью проститься со светочем, благодетелем, спасителем человечества? Категоричен на этот счет Р. Медведев. В 1990 году он подчеркнул: «Как на председателя комиссии по организации похорон на Хрущева, несомнен- но, ложится значительная часть ответственности за те трагические события, которые произошли в первый день после открытия Дома Союзов для прощания с покойным» [10, с. 67]. С такой точкой зрения согласился и автор рецензируемой книги: «Будучи председателем комиссии по организации похорон, Хрущев отвечал не только за организацию погребальной церемонии, но и нес прямую ответственность за порядок на улицах столицы. Показательно, что, рассказывая об этих днях, он ни словом не обмолвился о гибели людей во время похорон… Первые же часы деятельности Хрущева и других наследников Сталина свидетельствовали о том, что их попытки взять ситуацию под контроль обернулись многочисленными человеческими жертвами. Искусственно созданная стена отчуждения между покойным Сталиным и советскими людьми, хаос на улицах Москвы, столкновения солдат и милиционеров с мирными гражданами, жестокая и бессмысленная гибель людей стали первыми признаками нового времени, если и не смутного, то во всяком случае сумбурного» (с. 228).
Вполне вероятно, что Никита Сергеевич как председатель похоронной комиссии проявил преступную халатность и даже должен был быть соответственно наказан (как, впрочем, и другие члены Политбюро, игравшие в эти тревожные дни важные роли). Но где же находилась в это время правящая партия, которая вела народные массы от победы к победе? Не она ли ковала в течение трех десятилетий культ гениального вождя, сверхчеловека, не совершившего ни одной ошибки. Да ведь и сам Иосиф Виссарионович неустанно внушал, что он заслуживает не только безмерного уважения, но и слепой любви, и безотчетного поклонения. Кто создал в стране тоталитарную систему, при которой ни один житель ее не имел права критиковать Великого Учителя? Где закончили жизнь все оппозиционеры? В ГУЛАГе. В какой демократической стране, где создание культа в принципе невозможно, участники похорон президентов и министров теряли рассудок настолько, что давили друг друга, стремясь приблизиться к усопшему руководителю? Там в погребальных церемониях люди переживают, плачут, рыдают, но не теряют головы. Главным виновником страшного кровавого побоища был, вне всякого сомнения, только что умерший лучший друг шахтеров, физкультурников, пограничников, писателей, летчиков, танкистов и других.
Траурный митинг, посвященный прощанию со Сталиным, прошел 9 марта 1953 года. Его в трогательных и задушевных тонах попытался описать Ю. В. Емельянов. Но потерпел неудачу. Все испортили тексты речей ораторов: они были трафаретны, топорны и не содержали намека на искренность чувств. Г. М. Маленков сказал: «Имя Сталина безмерно дорого советским людям, широчайшим народным массам во всех частях света. Необъятно величие и значение деятельности товарища Сталина для советского народа и для трудящихся всех стран. Дела Сталина будут жить в веках, и благодарные потомки так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина… Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина-Сталина!» Столь же безжизненной, бесцветной, шаблонной оказалась речь Л. П. Берии: «Центральный Комитет нашей партии и Советское правительство в деле руководства страной прошли великую школу Ленина и Сталина… Кто не слеп, тот видит, что наша партия в трудные для нее дни еще теснее смыкает ряды, что она едина и непоколебима. Кто не слеп, тот видит, что в эти скорбные дни все народы Советского Союза в братском единении с великим русским народом еще теснее сплотились вокруг Советского правительства и ЦК КПСС… Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю — Великому Сталину». В выступлении В. М. Молотова тоже отсутствовала какая-либо мысль: «В эти дни мы все переживаем тяжелое горе — кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили и который всегда будет жить в наших сердцах» (с. 230).
Да, похороны двух величайших диктаторов СССР — Ленина и Сталина — были грандиозными, помпезными. Обоих поместили в величественное надгробное сооружение на Красной площади. Весть же о смерти Н. С. Хрущева — третьего по счету руководителя огромной коммунистической державы — тихо прошелестела по городам и весям, не вызвав ни потрясения, ни волнений, ни вопросов. Но почему автор рецензируемой книги, подробно рассказывающий о похоронах Сталина, отказался прокомментировать события, связанные со смертью Никиты
Сергеевича? Он ограничился коротенькой информационной заметкой телеграфного типа: 13 сентября 1971 года «Правда» опубликовала сообщение о том, что «11 сентября после тяжелой, продолжительной болезни на 78 году жизни скончался бывший Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев». В тот же день на Новодевичьем кладбище состоялись похороны. Историк Г. Федоров отметил, что на похоронах было около 60 корреспондентов, главным образом иностранных. Всего же было около 200 человек, среди них немало людей с сединами. Здесь был и Е. Евтушенко. А. И. Микоян прислал венок» (с. 658).
Эти несколько строк, которые Ю. В. Емельянов посвятил событиям, связанным со скорбными днями в биографии Н. С. Хрущёва, вызывают недоумение и едва ли не добрый десяток вопросов: «Почему ни в одной газете или журнале СССР не появился некролог, посвященный этому лидеру КПСС? Как отреагировали на его смерть соратники по партии? Что говорили в траурные дни боевые товарищи? Что писала о кончине Хрущева зарубежная печать? Какие речи были произнесены во время погребения? Кто, кроме А. И. Микояна, прислал венки? В каких прочувственных фразах выразил соболезнование семье покойного Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев? Почему Никиту Сергеевича не похоронили у Кремлевской стены, как этого требовала партийно-товарищеская традиция? Почему Хрущева предали земле тайно, нарушив элементарные общепринятые житейские нормы (не было даже сообщения в печати о сроке и месте похорон)?»
Ни на один из поставленных вопросов Ю. В. Емельянов не дал ответа в своей весьма большой по объему книге. Как не захотел и объяснить, почему партийно-государственный истеблишмент так рассвирепел на бедного опального пенсионера, что отказался похоронить его согласно общечеловеческим правилам. Чем же обозлил Никита Сергеевич высшее партийное чиновничество? Почему оно, свергнув его с престола, продолжало ему мстить (и даже после кончины!)?
…Мы уверены в том, что ни Ленин, ни Сталин не сеяли «доброе и вечное», скорее находили удовольствие в действиях, направленных на безжалостное уничтожение всех ростков буржуазного гуманизма и либеральной демократии. Их правление сопровождалось ведением войн во имя победы мировой социалистической революции, созданием концентрационных лаге- рей, применением жесточайших пыток против оппозиционеров. Хрущев полностью разделял теоретические основы марксизма-ленинизма (разумеется, в пределах своего низкого уровня образования), беспрекословно выполнял все директивы и решения ЦК, Политбюро и распоряжения Сталина. Самым активным образом разоблачал врагов народа и, не колеблясь, отправлял их на плаху или в ГУЛАГ. Нет никаких доказательств, позволявших сейчас сказать, что Никита Сергеевич был хотя бы чем-то лучше других соратников-сообщников великого диктатора. Если бы это было так, то генсек давно бы отправил его на тот свет. Кажется, тень лёгкого поверхностного сострадания к мукам другого человека в 20—30-е годы ХХ века мелькнула у Хрущева только один раз. Об этом свидетельствуют следующие строки мемуаров Никиты Сергеевича, посвященные Н. К. Крупской: «Ее я помню уже как старую, надломленную женщину, появлявшуюся на партконференциях Бауманского района Москвы. Все мы там выступали против Надежды Константиновны. Люди сторонились ее, как будто она чумная. По приказу Сталина за ней была установлена слежка, потому что считалось, что она сбилась с партийной линии. Когда я теперь вспоминаю то время, то думаю, что Надежда Константиновна была права, занимала правильную позицию, — да что из того, что я так теперь думаю, задним умом крепок…» [10, с. 32].
Вплоть до марта 1953 года Н. С. Хрущев жил, руководствуясь сталинскими идеологическими установками и правилами — никакой пощады троцкистам, зиновьевцам, бухаринцам, всем оппортунистам, правым и левым оппозиционерам, вредителям, шпионам, диверсантам, двурушникам, кулакам, подкулачникам, буржуазным перерожденцам, националистам и прочим. Он хорошо знал, что любое проявление им доброты в волчьей стае влечет за собой собственную гибель. И тем не менее каким-то чудом сохранил в глубине души толику жалости к колхозникам, вечно пребывавшим в состоянии голода (рабочие и служащие в СССР получали тощие нормированные продуктовые пайки).
«В марте 1953 года Н. С. Хрущев стал секретарем ЦК КПСС, — подчеркнул журналист А. Стреляный, — а уже в сентябре выступил с таким докладом, который бы сделал честь любому деятелю того времени. Он первый сказал то, что знали все, но о чем нельзя было даже думать: люди в селе живут плохо, бедно, униженно, хуже и униженнее, чем в городах, замучены налогами и поборами, что в колхозах на- род не хочет работать и жить. Он стал хлопотать о смягчении законов и порядков, о том, как облегчить жизнь людей… В глазах многих его доброжелателей все затмил пятьдесят шестой год, когда он выступил с разоблачением Сталина. Некоторые думают и сейчас, что это первое и единственное, чем он отличался. Нет, первое, чем он отличился, — сказал правду о бедственном положении деревни и кинулся ее выручать» [19, с. 196]. Результаты новой хрущевской политики сказались сразу. За три года тысячи колхозов и совхозов в два-три раза увеличили производство молока и мяса.
Второй — важный, серьезный и значительный шаг вперед сделал Н. С. Хрущев, выступив с докладом «О культе личности и его последствиях». Эта речь сделала ХХ съезд КПСС историческим, эпохальным (все остальные партийные форумы выглядят на его фоне второстепенными, мелкими, не имеющими прогрессивного характера). Отрадно, что выступление Никиты Сергеевича 25 декабря 1956 года получило объективную оценку в академических изданиях, а также практически во всех вузовских и школьных учебниках. «Хрущев, — подчеркнули авторы фундаментальной «Хроники России. ХХ век», — отметил, что культ личности привел не только к нарушению принципа коллективного руководства в партии, но и к гибели тысяч людей. Так, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК КПСС, избранных на ХVII съезде, впоследствии были арестованы и расстреляны 98. Из 1966 делегатов этого съезда с решающим голосом 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Хрущев обратил внимание на то, что «единовластие Сталина привело к тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной войны». Он осудил сталинскую национальную политику, в частности, такие «вопиющие» действия, как «массовые выселения целых народов» [21, с. 659].
В вузовском учебнике «Основы курса истории СССР», подготовленном преподавателями МГУ А. С. Орловым, А. Ю. Полуновым и Ю. Я. Терещенко, анализ работы ХХ съезда КПСС перекликался с мнением о нем создателей капитальной «Хроники России. ХХ век». На этом партийном форуме, считают они, «были приняты директивы по шестой пятилетке (1956—1960 гг.), поставлена задача догнать и перегнать развитые капиталистические страны в краткие исторические сроки. Планы были сорваны, задача забыта, а съезд вошел в историю благодаря докладу, сделанному Н. С. Хрущевым на последнем заседании и которого не было в пове- стке дня. Необходимость этого доклада, шокировавшего делегатов съезда, Хрущев отстоял в трудных спорах со своими товарищами по Президиуму ЦК КПСС. В нем были приведены многочисленные факты жестоких расправ над высокопоставленными партийными, государственными и военными деятелями во времена Сталина. С него началось, хотя медленно и трудно, очищение партии и общества от идеологии и практики государственных репрессий. К сожалению, Н. С. Хрущев, инициатор борьбы с культом личности Сталина, так и не смог или не захотел понять, что истоки государственного террора уходят в политическую систему общества, которая позволяла одному человеку сосредотачивать в своих руках безграничную власть» [15].
Немаловажное место в процессе формирования у советских людей зачатков демократического мышления заняли книги, которые знакомили подростков и юношество с событиями, происходившими после смерти И. В. Сталина. Особой популярностью среди выпускников школ пользовался серьезный и обстоятельный учебник А. А. Левандовского и Ю. А. Щетинова «Россия в ХХ веке». Нам в нем понравился раздел о хрущевской «оттепели». Толкование драматических коллизий на его страницах отличалось строгостью и доказательностью: «К 1956 году было освобождено из лагерей и реабилитировано посмертно около 16 тысяч человек». После ХХ съезда КПСС, развенчавшего «культ личности Сталина», масштабы реабилитации были увеличены, миллионы политзаключенных обрели долгожданную свободу.
По горьким словам А. А. Ахматовой, «две России глянули друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили». Возвращение в общество огромной массы ни в чем не повинных людей сразу поставило власть перед необходимостью объяснить причины постигшей страну и народ трагедии. Такая попытка была сделана в докладе Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании ХХ съезда КПСС. «Сам факт публичного осуждения творившихся в стране десятилетиями беззаконий и преступлений высших должностных лиц произвел исключительное впечатление, положил начало кардинальным переменам в общественном сознании, его нравственному очищению, дал мощный творческий импульс научной и художественной интеллигенции. Стал расшатываться один из краеугольных камней в фундаменте «государственного социализма» — тотальный контроль властей над духовной жизнью и обра- зом мышления людей» [5, с. 283]. Такую интерпретацию работы ХХ съезда решительно отвергает автор рецензируемой книги.
Емельянов Ю. В. утверждает, что доклад Первого секретаря ЦК КПСС «О культе личности и его последствиях» не является солидным документом, заслуживающим уважения: «Это миф, построенный Хрущевым из смеси правдивых фактов с многочисленными искажениями исторической правды и логики, стал мощным орудием разрушения общественного сознания. Его разрушительность возросла еще и потому, что миф ХХ съезда оказался одним из живучих мифов ХХ столетия» (с. 340).
Трудно представить, какую боль, негодование и даже ярость испытывают апологеты Сталина, читая статьи и книги, страницы которых содержат даже робкие и осторожные критические замечания в адрес величайшего и мудрейшего вождя. Защищая Иосифа Виссарионовича, они готовы пойти в наступление даже на основателя большевистской партии и СССР. Такую позицию горячих поклонников «отца народов» нельзя признать корректной: все-таки Сталин десятки раз клялся в верности Ленину и его идеям. И тем не менее Ю. В. Емельянов, нарушая каноны приличия, пытается оправдать преступления родного и любимого Иосифа Виссарионовича путем дискредитации Владимира Ильича. Ради спасения чести Сталина он облил помоями даже Н. К. Крупскую, отличавшуюся порядочностью и честностью. Эти далеко не лучшие приемы автор рецензируемой книги продемонстрировал в комментариях к выступлению Никиты Сергеевича на ХХ съезде КПСС: «С первых строк доклада стало ясно, что в нем не содержатся теоретические рассуждения о культе личности, а имеется новая и сугубо отрицательная оценка Сталина… Хрущев воспользовался избитым приемом антисталинской пропаганды, к которому постоянно прибегала оппозиция 20-х годов… Он допускал натяжки в изложении ленинского «Письма к съезду»… Таким же вольным образом было процитировано письмо Крупской Каменеву с жалобой на Сталина…
Хрущев игнорировал обстоятельства написания письма Лениным. Он умалчивал, что в это время Ленин был тяжело болен, а его душевное равновесие было нарушено… Хрущев умалчивал, что обвинения Сталина в грубости провоцировались Крупской… Хрущев вольно использовал отдельные цитаты ленинских писем для того, чтобы утверждать, что Ленин провидчески разглядел отвратительные черты характера Сталина и их усиление в будущем… Хрущев соз- давал лживое впечатление, что на отстранении Сталина от власти настаивал В. И. Ленин» (с. 325—326, 341).
На вопрос, чем Ленин со своей женой проштрафился перед Ю. В. Емельяновым, вряд ли сумеют дать ясный и точный ответ рядовые читатели. Думаем, такое не под силу и большинству квалифицированных историков. Да тут еще хитрый и пронырливый Никита Сергеевич наводит тень на плетень. Так, может быть, для выяснения правды предоставить слово Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне, которые к 1922—1923 гг. изучили у будущего гения всех времен и народов как лучшие, так и худшие стороны характера?
24 декабря 1922 года и 4 января 1923 года Ленин продиктовал своим секретарям Володи-чевой и Фотиевой «Письмо к съезду», вошедшее в историю под названием «Завещание». Многочисленный отряд политиков и историков обратил особое внимание на следующие предложения: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью… Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.» [6, с. 345—346].
Мы убеждены, что после прочтения «Письма к съезду» большинство здравомыслящих людей без колебаний скажут, что в этом документе Ленин рекомендовал Генерального секретаря ЦК РКП(б) Сталина заменить другим деятелем партии с соответствующим набором моральных качеств. Именно к такому выводу пришел в 1956 году Хрущев. О чем и доложил делегатам ХХ съезда КПСС. Озабоченный дальнейшими судьбами партии и Советского государства, Владимир Ильич дал совершенно правильную характеристику Сталину, указав при этом, что надо рассмотреть вопрос о перемещении Сталина с должности Генерального секретаря» [17, с. 21]. Этому тезису дал развернутое мотивированное объяснение современный биограф Хрущева Л. Млечин. С ним было бы очень полезно ознакомиться и автору рецензируемой книги (в ней почему-то нет историографическо- го обзора): «Ленинское «Письмо к съезду», как его не толкуй, содержит одно прямое указание: снять Сталина с должности генсека, остальных менять не надо, хотя Ленин отметил — довольно болезненным образом — недостатки каждого из самых заметных большевиков. Но получилось совсем не так, как завещал Владимир Ильич. Сталин — единственный, кто остался на своем месте. Остальных он со временем уничтожил» [11, с. 404]. Все соратники Ленина, упоминаемые им в «Письме к съезду», — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Пятаков — погибли от руки Сталина. Вместе с ними полегла в тюрьмах и концлагерях 10-тысячная ленинская гвардия. Ее составляли революционеры, вступившие в ряды большевистской партии до свержения царской монархии. Избежала насильственной смерти принадлежавшая к этой когорте жена Ленина, которая не уважала Иосифа Виссарионовича и не питала к нему никаких симпатий. Ее-то и удачно использовал «чудесный грузин» для нанесения смертельного удара Владимиру Ильичу…
Из ближайшего окружения медленно умиравшего Ленина в 1922—1923 гг. (Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Пятаков, Сталин) только последний не был заинтересован в выздоровлении Владимира Ильича: оно сулило ему не только потерю поста Генерального секретаря, но и крушение карьеры вообще. Не зря ходили слухи об отравлении им руководителя РКП(б) и Советского государства. Но Иосифу Виссарионовичу не было необходимости изучать опыт Борджиа. Он нашел способ, который не оставлял следов: надо психически потрясти (разрушить) организм Ленина, а затем… Нужен был сильный, демагогически весомый скандал. Сталин позвонил 22 декабря 1922 года Н. К. Крупской и позволил по отношению к ней «грубейшую выходку», употребив «недостойную брань». Генсек обвинил Надежду Константиновну в том, что она не проявляет должной заботы об Ильиче и нарушает его режим лечения. Бедная Крупская, взволнованная оскорблениями Сталина, по свидетельству Марии Ильиничны, сестры Ленина, «была совершенно не похожа на себя, рыдала и каталась по полу». Зачем генсек разыграл эту грязную политическую склоку?
Кажется, на этот вопрос верно ответил писатель Л. Данилкин: «Сталин, несомненно, вступая в конфликт с Надеждой Константиновной, знал, что последствия — будут. Та сможет пожаловаться на него: или официально — в политбюро, или самому Ленину, или, чтобы не волновать его, кому-то из своих давних знакомых — Каме- неву, Зиновьеву. И значит, Сталин объявлял таким образом войну Ленину?» [2, с. 749].
Иосифа Виссарионовича не зря в СССР именовали титаном, гигантом и т. д. Он действительно был гением… интриги и зла. Превзошел в этом отношении Владимира Ильича. Л. Данилкин с полным основанием выражает удивление этим обстоятельством и задает понятный вопрос: что помешало Ленину «вступить в плотный альянс и разделить власть с адекватным и умным Троцким, отодвинув склонного к криминальной деятельности Сталина, чтобы продолжать революционные преобразования страны, по возможности делая процесс модернизации страны более гуманным и менее болезненным?» [2, с. 750].
Оберегая Владимира Ильича от излишних волнений, Крупская два с половиной месяца ничего не говорила мужу об оскорблении, нанесенном ей Сталиным. Может быть, ей и дальше следовало придерживаться такой линии поведения? Но по какой-то причине ее «прорвало», и она сообщила и без того своему измученному Володе о крайне неприятном разговоре по телефону с генсеком. Разумеется, Ленин вскипел и тут же продиктовал коротенькое ультимативное требование своему обидчику: «Товарищу Сталину… Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».
Жалобе Н. К. Крупской Л. Б. Каменеву, председательствовавшему в то время в Политбюро, на И. В. Сталина и письму-ультиматуму В. И. Ленина Генеральному секретарю ЦК РКП(б) уделил большое внимание Н. С. Хрущев в докладе на ХХ съезде КПСС «О культе личности и его последствиях»: «Эти документы красноречиво говорят сами за себя. Если Сталин мог так себя вести при жизни Ленина, мог так относиться к Надежде Константиновне Крупской, которую партия хорошо знает и высоко ценит как верного друга Ленина и активного борца за дело нашей партии с момента ее зарождения, то можно представить себе, как обращался Сталин с другими работниками. Эти его отрицательные качества все более развивались и за последние годы приобрели совершенно нетерпимый характер.
Как показали последующие события, тревога Ленина была не напрасной: Сталин первое время после кончины Ленина еще считался с его указаниями, а затем стал пренебрегать серьезными предупреждениями Владимира Ильича. Если проанализировать практику руководства партией и страной со стороны Сталина, вдуматься во все то, что было допущено Сталиным, убеждаешься в справедливости опасений Ленина. Те отрицательные черты Сталина, которые при Ленине проступали только в зародышевом виде, развились в последние годы в тяжелые злоупотребления властью со стороны Сталина, что причинило неисчислимый ущерб нашей партии» [17, с. 23].
Примеры грубого отношения Сталина к Ленину и Крупской, беспощадной расправы над видными государственными деятелями, репрессий против выдающихся военачальников, бесчеловечных пыток в застенках НКВД, приведенные Н. С. Хрущевым в речи на ХХ съезде КПСС, вызвали смятение многих его делегатов (были случаи обмороков). Эти драматические эпизоды, описанные в мемуарах, мешают расширению круга почитателей великого диктатора среди читательской публики. А поскольку для Ю. В. Емельянова Иосиф Виссарионович является кумиром, он поставил целью представить доклад Первого секретаря ЦК КПСС «О культе личности и его последствиях» как примитивный набор антисталинских очернительских фактов и домыслов.
Но кто же является виновником (инициатором и организатором) репрессий, проводившихся на всей территории самой большой страны в мире? Автор рецензируемой книги настойчиво внушает читателю, что главным источником зла и творимых преступлений в СССР стал «смутьян и баламут Хрущев», правдами и неправдами пробравшийся в Кремль, что Сталин не имел отношения к террору, потому как просто «физически не мог контролировать аресты и расстрелы сотен тысяч людей» (с. 337). Это «не Сталин, — пишет Ю. В. Емельянов, — устранял своих коллег по руководству, на самом деле за 11 лет своего пребывания у власти Хрущев отправил в отставку больше членов высшего руководства страны, чем Сталин за 29 лет» (с. 339).
Даже комментировать эти измышления не хочется. Как будто не генсек санкционировал личной подписью расстрел сорока тысяч представителей элиты нации — партийных, советских, военных работников, ученых, писателей и т. д., как будто не при Хрущеве прекратил существование сталинский ГУЛАГ с его печально известными шарашками.
Емельянов Ю. В., оправдывая Иосифа Виссарионовича, доказывает, что к числу виновников репрессий надо отнести и широкие слои рабочих, колхозников, интеллигенции, «что люди из народа занимались клеветническими доносами». Он не отказал себе в удовольствии упрекнуть Н. С. Хрущева за то, что в докладе «О культе личности и его последствиях» тот ни слова не сказал о многократном увеличении политических репрессий из-за массового добровольного осведомительства (с. 337). Да, согласимся мы, относительно масштабов распространения стукачества автор рецензируемой работы абсолютно прав. Как и верно то, что оно имело место при Сталине, а после его смерти, т. е. во время правления Никиты Сергеевича, таковое исчезло довольно быстро…
Ах, какие чудесные, проникновенные, душевные стихи поэты посвящали Иосифу Виссарионовичу! Непревзойденными по глубине чувств и искренности многие поклонники Сталина считают четыре золотые строки А. Т. Твардовского. Их привел в своей монографии Ю. В. Емельянов:
Да, мир не знал подобной власти Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье, Что с нами жил он на земле.
Смерть гения всех времен и народов погрузила автора рецензируемой работы в состояние бесконечной печали. Да тут еще нелегкая принесла в Кремль непутевого Никиту Сергеевича, совершенно не напоминавшего колосса общественной, государственной, философской, экономической, исторической, военной мысли, каким был, по мнению многих россиян, Сталин. Поневоле то и дело будешь возвращаться к славным временам, когда в стране царил великий кормчий. Так, подводя итоги событиям, развивавшимся в СССР в 1954 году, Ю. В. Емельянов с ностальгией отмечает: «Ничто не свидетельствовало о том, что уважение к Сталину ослабело в Советской стране. В интерьерах государственных учреждений по-прежнему находились портреты Сталина и его скульптурные изображения. В дни праздников портретами Сталина украшали фасады зданий и их несли демонстранты. Как и до 1953 года, в высших учебных заведениях изучали отредактированный Сталиным «Краткий курс истории ВКП(б)», «Экономические проблемы социализма в СССР» и другие работы Сталина. Наконец, ничто не свидетельствовало о том, что Хрущев собирался сам критиковать Сталина» (с. 304).
И к началу ХХ съезда КПСС, радостно сообщает Ю. В. Емельянов, пиетет к Иосифу Виссарионовичу держался на прежнем уровне: «Несмотря на то, что уже почти три года в стране шла кампания по осуждению культа личности в истории и привычные до тех пор восхваления Сталина стали редкими, уважение и любовь к Сталину сохранялись. Повсюду можно было увидеть портреты и статуи покойного вождя… Чуть ли не в каждом доме можно было увидеть медали «За победу над Германией» или «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» с портретами Сталина в профиль, а также благодарности за ратный подвиг или трудовые достижения, похвальные грамоты ученикам школ, на которых был изображен Сталин. Жизнь целых поколений была связана со Сталиным и верой в него» (с. 349). Какое было изумительное, прекрасное и неповторимое время! И вот пришел заурядный Никита Хрущёв, жалкая посредственность, и начал крушить великолепное здание, воздвигнутое гениальным вождем. Поневоле оживают в голове трогательные, рефреном возобновляющиеся, восторженные, грустные, минорные, скорбные думы, навеянные стихотворением в прозе И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы…» [20, с. 41—42].
Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», полагает Ю. В. Емельянов, «усилил настроения цинизма и неверия, дал мощный импульс моральной и идейной эрозии советского общества. Состоя из смеси шокирующей правды и клеветнических сплетен, доклад Хрущева внес смуту в общество» (с. 351). Он убеждает читателя, что критика Сталина Первым секретарем ЦК КПСС совершенно бездоказательна. Ну не был Иосиф Виссарионович грубым и жестоким: «Вопреки словам Хрущева, Сталин стремился к обеспечению максимальной коллегиальности в работе, очень ценил оригинальные суждения, не терпел тех, кто поддакивал ему, и, напротив, порой поощрял острые споры» (с. 327).
Емельянов Ю. В. с порога отмел вывод Никиты Сергеевича о том, что следствием пребывания Сталина у власти стало экономическое и научно-техническое отставание страны, что «из-за многочисленных арестов партийных, советских и хозяйственных деятелей многие трудящиеся стали работать неуверенно, проявляли чрезмерную осторожность, стали бояться всех новшеств, бояться собственной тени, проявлять меньше инициативы в своей работе». Нет, решительно возражает автор монографии «Хрущев. «Оттепель» или…»: «На самом деле даже в период наибольших репрессий советские люди успешно осваивали новую технику и активно применяли новаторство. Вследствие этого хозяйство страны развивалось темпами, не виданными ни прежде, ни после этих лет» (с. 333). Мы первый раз познакомились с таким откровенным заявлением отечественного историка о том, что годы Большого террора стали наиболее благодатными для советской экономики. Возникает вопрос, не вернуться ли нам вновь к сталинской практике массовых необоснованных расстрелов, чтобы успешно решать сложные проблемы развития промышленности и сельского хозяйства.
Найдя массу достоинств в сталинской экономической системе, Ю. В. Емельянов прохладно отозвался о модели хозяйствования, избранной Никитой Сергеевичем: «При Хрущеве пятилетний ритм планового развития был нарушен. Система управления, существовавшая при Сталине, была перестроена. Серьезные потрясения претерпела организация сельского хозяйства. В результате экономическое развитие страны стало замедляться» (с. 348). Это поверхностная оценка. Более солидный разбор хрущевской и сталинской систем хозяйствования дал А. С. Се-нявский в 2004 году в своем докладе на международной научной конференции, посвященной теме «Россия в контексте мирового экономического развития во второй половине ХХ века»: «После смерти Сталина произошел отказ от ставки на принудительные методы хозяйствования с опорой на репрессивный механизм. Был снижен налоговый пресс на деревню, что обеспечило рост производительности в сохранявшемся личном подсобном хозяйстве. Отказ от насилия, репрессий, ограничение идеологического диктата, характеризовавшие основу сталинской хозяйственной модели, требовали замещения экономическими рычагами — большей самостоятельностью предприятий, экономическим стимулированием труда.
…1950-е гг., особенно вторая половина, явились самыми успешными во всей истории советской экономики. Промышленный рост составлял в среднем за год от 10 до 13 %, причем высокий экономический рост обеспечивался как за счет экстенсивных, так и значительной доли интенсивных факторов… Реформы 1950—1960-х гг. … во многом обеспечили высокий динамизм советской экономики в этот период, способствовали формированию комплекса новых отраслей (космос, высокотехнологичная военная техника и др.), причем в ряде областей советская экономика не только сравнялась, но и опередила ми- ровой уровень. Вырос уровень жизни, превысивший уровень 1940 года почти в четыре раза. Созданы целые отрасли, обеспечивающие потребительский спрос, развернуто массовое жилищное строительство» [18, с. 54—55].
Список добрых дел Никиты Сергеевича, составленный Ю. В. Емельяновым, крайне мал. Кажется, он написан скупой рукой гоголевского героя Плюшкина: «Участие в руководстве строительством первых линий Московского метрополитена, в восстановлении Донбасса после Гражданской войны и в возрождении Украины после Великой Отечественной войны. Способствовал внедрению в производство и быт советских людей большого числа различных полезных новинок. Вероятно, есть немало людей, которым Хрущев, находясь на высоких постах, лично оказал помощь. Однако чем выше государственный уровень тех добрых дел, участником и инициатором которых был Хрущев, тем чаще несомненная их польза сочеталась с вредными последствиями, а то и перевешивалась ими» (с. 659). Перечень же контрреволюционных и вредительских деяний Никиты Сергеевича охватывает в рецензируемой книге не одну сотню страниц. Остановимся на некоторых из них.
«Нет ничего удивительного в том, — заостряет наше внимание Ю. В. Емельянов, — что Хрущев поддержал Троцкого и троцкистов» (с. 65). Большего греха, чем присоединение в середине 20-х годов XX века к злейшему врагу Сталина, невозможно было и представить. Вот как трактуют понятие «троцкист» авторы «Толкового словаря языка Совдепии»: «Это член безыдейной и беспринципной банды вредителей, разведчиков, шпионов, провокаторов в мировом рабочем движении, действующих по заданиям разведывательных органов реакционных буржуазных правительств» [13, с. 31]. В дальнейшем Ю. В. Емельянов не раз нам напоминает о том, что Хрущев был в рядах тех, кто поклонялся Иудушке Троцкому. Останется неясным, почему Иосиф Виссарионович не углядел его отвратительное нутро и пригрел такую змею у себя на груди. И можно ли в мире найти большего негодяя, чем Хрущев? Мы бы посоветовали автору рецензируемой книги в качестве эпиграфа избрать четверостишие талантливого поэта-декабриста К. Рылеева, обращенное к А. А. Аракчееву:
Надменный временщик, и подлый и коварный, Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный, Неистовый тиран родной страны своей, Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!
Изверг рода человеческого, именуемый Н. С. Хрущевым, вытворял бог знает что. Кажется, после оглашения доклада «О культе личности и его последствиях» более страшного лиходейства не придумать. Но Никита Сергеевич катился вниз по ступенькам от одного к другому — более ужасному преступлению. По его инициативе делегаты ХХII съезда КПСС приняли 30 октября 1961 года постановление, в котором дальнейшее сохранение саркофага с гробом Сталина в Мавзолее признавалось нецелесообразным. За перезахоронением тела великого вождя, с болью в душе отмечает Ю. В. Емельянов, последовало «уничтожение памятников Сталину во всех городах страны, переименование городов, заводов, колхозов, совхозов и ряда учреждений, названных в его честь» (с. 542). Ну ничего, можно утешить автора рецензируемой книги, все-таки памятник дорогому Иосифу Виссарионовичу — одному из самых могущественных диктаторов в истории человечества — у Кремлевской стены установили, а вот мест захоронения миллионов незаконно репрессированных, как правило, не найти.
Не будем спорить с Ю. В. Емельяновым, у Н. С. Хрущева за плечами были действительно кровавые преступления. И не только во времена культа личности. А в годы, когда Никита Сергеевич возглавлял КПСС и правительство. 2 июня 1962 года с его согласия расстреляли демонстрацию трудящихся в Новочеркасске, выражавших недовольство повышением цен на продукты первой необходимости. Заключение Ю. В. Емельянова на этот счет абсолютно правильно: «Впервые руководство правящей партии, которое в соответствии с канонами официальной идеологии должно было выражать интересы рабочего класса, так жестоко разгромило восстание рабочих… События в Новочеркасске стали еще одним грозным знаком, свидетельствовавшим о банкротстве Хрущева как руководителя страны» (с. 553—554). Нам кажется, что эти кровавые события явились вместе с тем предвестником глубокого кризиса Коммунистической тоталитарной империи, созданной великими вождями — Лениным и Сталиным.
Жесткий, обличительный тон, взятый в изложении трагических эпизодов в Новочеркасске, Ю. В. Емельянов правомерно использовал и в рассказе о неприглядной роли Хрущева в смещении Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Первый секретарь ЦК КПСС действовал по отношению к прославленному полководцу вероломно и безжалостно. Это был тот единственный случай, когда Никита Сергеевич превзошел в немилосердии Иосифа Виссарионовича. Хрущев отправил Жукова на пенсию, а Сталин по окончании войны только понизил его в должности; вдвоем эти лидеры изрядно сократили творческую жизнь талантливого военачальника.
К сожалению, примеров яркой (и обоснованной!) критики провалов и ошибок в деятельности Хрущева в рецензируемой книге немного. Чаще объективный анализ подменяется критиканством, злопыхательством. Ю. В. Емельянов не сомневается в том, что хрущевское время являлось одним из самых «жестоких периодов преследования православия. Православные храмы закрывались, их число уменьшилось в два раза, а число монастырей сократилось до 18. Попытки построить новые храмы или хотя бы расширить старые грубо пресекались, а инициаторы таких попыток арестовывались, и их сажали в лагеря» (с. 347). Приведенные статистические данные абсолютно верны. Но если бы автор рецензируемой книги ознакомился с соответствующими материалами, характеризующими существование церкви при Ленине и Сталине, то у него тут же отпало бы право писать о жестоком преследовании религиозных организаций в период оттепели.
Варьируя тезис о возрастающем «тиранстве» Никиты Сергеевича, Ю. В. Емельянов формулирует демагогическое заключение: «Никогда в стране не было так много законов, по которым человека можно казнить, как при «либеральном» Хрущеве» (с. 535). Общеизвестно, что при Никите Сергеевиче казнили несопоставимо мало по сравнению с количеством смертных приговоров, приведенных в исполнение при Ленине и Сталине [14].
Емельянов Ю. В. подметил у Никиты Сергеевича редкий дар обманщика и плута, способного обещать людям что угодно: например, он посулил, не имея на то никаких оснований, построить коммунизм в течение 20 лет. Спору нет, Хрущев поступил опрометчиво, нехорошо. Но ведь и его гениальные учителя — Ленин и Сталин — тоже заверяли советских людей, что пламенная мечта человечества о сооружении прекрасного здания коммунизма воплотится в жизнь через 10—20 лет [7, с. 318].
Замечая, что Первый секретарь ЦК демонстрировал на встречах с деятелями культуры в 1962—1963 гг. грубость и хамство, Ю. В. Емельянов констатирует: «Никогда в советское время руководители партии не говорили с творческой интеллигенцией в таком тоне» (с. 583). Да, согласимся с автором рецензируемой книги, стиль встреч и бесед Хрущева с писателями, художни- ками, музыкантами, критиками, скульпторами неприличен и безобразен. Но эта неприглядная манера Никиты Сергеевича куда лучше приемов общения Ленина и Сталина, которые предпочитали говорить с деятелями культуры языком оружейных затворов.
Завершая свою книгу о смутьяне, баламуте, нахальном, грубом, необразованном, самонадеянном авантюристе, распоясавшемся купчине, диссиденте-антисоветчике, Ю. В. Емельянов обращает свой взгляд на памятник Н. С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище, сооруженный скульптором Эрнстом Неизвестным. Он решительно возражает тем, кто считает, что в надгробном монументе из белых и черных камней выражена мысль о равновесии «добрых и злых дел покойного» (с. 569). Полезных свершений, уверен автор рецензируемой книги, у творца оттепели, превратившейся в неуправляемое «половодье», кот наплакал: даже «снятие Хрущевым обвинений с жертв необоснованных репрессий сопровождалось не только огульной дискредитацией Сталина и людей из его ближайшего окружения, но и очернением тридцатилетнего героического периода в жизни советских людей… Прежде всего следует учитывать, что в последние годы своей жизни Сталин сам готовил пересмотр общественнополитической организации страны на основе научно обоснованных решений… Ослабление репрессий началось еще в последние годы жизни Сталина и диктовалось объективной реальностью» (с. 660, 665). Великий вождь создал, по мнению Ю. В. Емельянова, такую мощную и развитую державу, что ее неудержимое движение вперед не смогли остановить все хрущевские «провалы во внутренней и внешней политике».
После столь жесткого приговора, вынесенного Ю. В. Емельяновым Никите Сергеевичу, любопытно узнать мнение других служителей богини Клио об общих итогах деятельности третьего по счету советского лидера.
«Главный итог хрущевского десятилетия, — резюмировал в 2004 году А. В. Шестаков, — в том, что экономическая политика, по сути, не изменилась в изменившихся обстоятельствах. Власть так и не нашла средств, адекватно замещающих террор. Вместе с тем вопреки распространенному мнению социально-политическая политика была достаточно цельной, целеустремленной и относительно эффективной. Анализ результатов социально-экономического развития подтверждает версии некоторых исследователей, что Н. С. Хрущев — единствен- ный из советских лидеров ХХ века, передавший страну в лучшем виде, чем он ее принял из рук предшественников» [22, с. 150].
Аналогичную точку зрения в 2006 году высказал В. Бушуев: «Но как бы кто не относился к Никите Сергеевичу, следует признать, что именно в первый период его правления, в конце 50-х годов, страна ожила, обрела уверенность в будущем, утратила всеподавляющий страх перед репрессиями. Безусловно, повысился уровень жизни большинства населения. А 1961-й год — год полета Ю. Гагарина и XXII съезда — был настоящим апогеем всего послевоенного, а может быть, и в целом советского периода» [1, с. 241].
А вот как ответила Е. Зубкова в 2015 году на вопрос «Чем же запомнилось хрущевское десятилетие?»: «Его часто представляют контрастным, черно-белым — как памятник Хрущеву, придуманный Эрнстом Неизвестным. На самом деле это время было многоцветным. Может быть, именно поэтому ему так подходит это название — «оттепель». Страна, а главное люди освобождались от страха и учились не выживать, а жить по законам мирного времени. Из лагерей вернулись бывшие сидельцы. Сталина вынесли из мавзолея, а народ узнал про культ личности» [3, с. 2].
Удачно дополняют выводы А. В. Шестакова, В. Бушуева, Е. Зубковой о результатах деятельности Никиты Сергеевича размышления на этот счет писателя и историка Л. Млечина: «Хрущев принял у Сталина страну полуголодной. В пятьдесят третьем собрали только тридцать миллионов тонн зерна. По потреблению продуктов на душу населения страна оставалась на дореволюционном уровне… Сталин разорил деревню: крестьян обложили непосильными налогами, они бежали из деревень, уже выращенный урожай пропадал. Статистика неопровержимо доказывает: десять лет, когда страной управлял Хрущев, были лучшими в советской истории… Хрущев был, пожалуй, единственным человеком в послевоенном советском руководстве, кто сохранил толику юношеского идеализма и веры в лучшее будущее. Для него идея строительства коммунизма, уже вызывавшая в ту пору насмешки, не была циничной абстракцией. Тем он и отличался от товарищей по партийному руководству, которые давно ни во что не верили. Он хотел вытащить страну из беды» [12, с. 7—8].
…Какие российские лидеры нам особенно нравятся? Петр I, прорубивший окно в Европу и построивший на костях крестьян Петербург, Екатерина II, значительно расширившая огнем и мечом границы империи, Иван Грозный и Иосиф Сталин, наводившие порядок железом и кровью, Владимир Ленин, превративший войну империалистическую в гражданскую. На втором плане стоят великий реформатор Александр II и Миротворец Александр III. В третьем ряду где-то сбоку виден Никита Хрущев, давший свободу миллионам репрессированных и вернувший им доброе имя. Человеколюбие мы пока не ценим.
Список литературы «Печальная судьба последнего романтика коммунизма ». Рецензия на книгу Ю. В. Емельянова «Хрущев. “Оттепель” или…» (М.: Изд-во «Академический проект», 2018. 675 с.)
- Бушуев В. Свет и тени: от Ленина до Путина / В. Бушуев. — М. : Культурная революция, 2006. — 624 с.
- Данилкин Л. Ленин. Пантократор солнечных пылинок / Л. Данилкин. — М. : Молодая гвардия, 2017. — 783 с.
- Зубкова Е. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев / Е. Зубкова. — М. : Комсомольская правда, 2015. — 95 с.
- История Коммунистической партии Советского Союза : в 6 т. М. : Политиздат, 1970. — Т. 4, кн. 2. — 663 с.
- Левандовский А. А. Россия в XX веке / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов. — М. : Просвещение, 2000. — 368 с.
- Ленин В. И. Полное собр. соч. : в 55 т. / В. И. Ленин. — М. : Политиздат, 1964. — Т. 45. — 729 с.
- Ленин В. И. Полное собр. соч. : в 55 т. / В. И. Ленин. — М. : Политиздат, 1963. — Т. 41. — 665 с.
- Ленин Владимир Ильич. Краткая биография. — М. : Политиздат, 1955. — 312 с.
- Майсурян А. Иосиф Сталин / А. Майсурян // История России. ХХ век. — М. : Аванта, 1995. — 670 с.
- Медведев Р. Н. С. Хрущев. Политическая биография / Р. Медведев. — М. : Книга, 1990. — 303 с.
- Млечин Л. Ленин. Соблазнение России / Л. Млечин. — СПб. : Питер, 2012. — 432 с.
- Млечин Л. Хрущев / Л. Млечин. — СПб. : Пальмира, 2017. — 511 с.
- Мокиенко В. М. Толковый словарь в Совдепии / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. — М. : Аст-Астрель, 2005. — 507 с.
- Наумов В. П. Н. С. Хрущев и реабилитация жертв массовых политических репрессий / В. П. Наумов // Вопросы истории. — 1997. — № 4.
- Орлов А. С. Основы курса истории России / А. С. Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. Я. Терещенко. — М. : Проспект, 2015. — 291 с.
- Радзинский Э. Загадки жизни и смерти / Э. Радзинский. — М. : Вагрус, 2003. — 1247 с.
- Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. — М. : Политиздат, 2001. — 461 с.
- Сенявский А. С. Советская экономика: внутренние и внешние факторы развития (историко-теоретические аспекты) / А. С. Сенявский // Россия в контексте экономического развития во второй половине ХХ века. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2006. — 432 с.
- Стреляный А. Последний романтик / А. Стреляный // Свет и тени «великого десятилетия». Н. С. Хрущев и его время. — Л. : Лениздат, 1989. — 480 с.
- Тургенев И. С. Собр. соч. : в 10 т. / И. С. Тургенев. — М. : Гослитиздат, 1966. — Т. 10. — 343 с.
- Хроника России. ХХ век. — М. : Слово / SLOVO, 2002. — 1104 с.
- Шестаков А. В. Экономическое развитие СССР в конце 40-х — 1950-е гг.: цели, ресурсы, результаты / А. В. Шестаков // Россия в контексте мирового экономического развития во второй половине ХХ века. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2006. — 432 с.
- Эренбург И. Собр. соч. : в 9 с. / И. Эренбург. — М. : Художественная литература, 1967. — Т. 9. — 973 с.