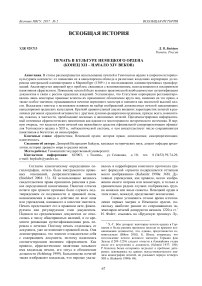Печать в культуре Немецкого ордена (конец XII - начало XIV веков)
Автор: Байдуж Д.В.
Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается использование печатей в Тевтонском ордене в широком историко-культурном контексте: от появления их в канцелярском обиходе в различных владениях корпорации до перевода центральной администрации в Мариенбург (1309 г.) и последовавших административных трансформаций. Анализируется широкий круг проблем, связанных с возникновением, использованием и восприятием памятников сфрагистики. Появление печатей было вызвано практической необходимостью аутентификации документов в связи с ростом орденских владений. Установлено, что Статутами корпорации регламентировались лишь некоторые правовые аспекты их применения: обозначение круга лиц, имевших на это право, а также особое значение, придававшееся печатям верховного магистра и конвента как носителей высшей власти. Высказана гипотеза о возможном влиянии на выбор изображений должностных печатей заведовавших канцеляриями орденских капелланов. Краткий сравнительный анализ внешних характеристик печатей в различных регионах орденской активности с другими духовно-рыцарскими орденами, прежде всего, иоаннитами, показал, в частности, преобладание восковых и анонимных печатей...
Сфрагистика, немецкий орден, история права, дипломатика, саморепрезентация, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14117000
IDR: 14117000 | УДК: 929.713
Текст научной статьи Печать в культуре Немецкого ордена (конец XII - начало XIV веков)
Согласно классическому определению си-гиллографии, печать была инструментом правовых отношений, репрезентативным знаком (Stieldorf 2004: 13). Её использование являлось свидетельством права принимать решения в рамках определенной компетенции. Наличие оттиска печати при грамоте призвано было служить подтверждением ее подлинности и правовой силы, возникновения и ввода в действие по воле лица или учреждения, названного в качестве эмитента. Печать представляет его в правовом акте, фиксируемом или регулируемом этим документом. Подписи на средневековых документах не относились к числу общепринятых явлений, и со временем решающая аутентификационная роль перешла к печатям. Поэтому печать отделялась от документа, уже не имеющего правовой силы. Она демонстрировала, что эмитент отождествлял себя с содержанием документа, поэтому наделялась соответствующим внешним оформлением. Как правило, сфрагистические памятники называют имя владельца печати, его титул и обозначение должности (Schontag 1999). Большинство печатей также изображают владельца, что нередко указы валось в корроборации конечного протокола грамот формулой «грамота подкрепляется оттиском моего изображения» (Kahsnitz 1990а: 368). Духовные учреждения, как правило, несли изображения своего патрона или монастыря, и только в сравнительно редких случаях отображалась группа монахов или иные сюжеты. Немецкий орден в этом плане, пожалуй, представляет исключение.
Сложно установить точное время изготовления первых матриц в Немецком ордене, поскольку наиболее ранние из сохранившихся экземпляров печатей датируются началом 1220-х гг.1 И. Фойгт, ссылаясь на «Прусскую хронику» Лу- каса Давида (XVI в.), указывает, что печатью с легендой Sigillum officii Magistralitatis domus Theutonice пользовался уже великий магистр Отто фон Керпен (1200-1208) (Voigt 1827: 57). Б. Яку-бовска полагает, что это была первая орденская печать (Jakubowska 1992: 184). По мнению Р. Кахсница, многие орденские печати могли быть утеряны вместе с грамотами при падении в 1291 г. Акры, последней резиденции ордена в Святой земле (Kahsnitz 1990а: 370). Вероятно, наиболее ранней из сохранившихся является печать замещающего великого магистра в европейских владениях ордена официала {Magister citra таге) при грамоте от 1221 г.2 Немногим более может помочь и актовый материал, поскольку в ранний период истории корпорации наличие печати далеко не всегда отмечалось в текстах орденских грамот3. Видимо, одним из первых таких случаев является упоминание печатей {bullarum nostrarum) великого магистра Германа фон Зальца и ландмейстера Пруссии Германа Бальке в корро-борационной части Кульмской грамоты 1233 г.
Представляется очевидным, что появление печатей следует связывать с налаживанием правового оформления социально-экономической деятельности ордена, становление которой началось с получением им первых земельных и иных пожалований, вызвавшим необходимость их правовой аутентификации. Первые такие приобретения подтверждаются актовым материалом вскоре после образования госпитального братства в 1190 г. и увеличиваются после трансформации корпорации в духовно-рыцарский орден5. Вероятно, возникновение практики использования печатей в корпорации следует отнести ко времени после 1199 г., т.е. официального признания свершившегося преобразования папским престолом по аналогии с возникшими ранее в Святой Земле орденами тамплиеров и иоаннитов. Несмотря на отсутствие упоминания печати в булле Иннокентия III, сам факт признания ордена свидетельствует о праве ее использования (Hennes 1845: 5)6.
Характерной чертой сфрагистики Немецкого ордена, отличавшей его как от институционально близких ему организаций — иных духовнорыцарских орденов, прежде всего, тамплиеров (Saint-Hilaire 1991) и иоаннитов (de Visser 1942)7, так и от большинства епископов и светских иерархов латинских государств в Святой Земле (Schlumberger, Chaladon, Blanchet 1943; Mayer 1978; Kahsnitz 1990b: 69), было использование в дипломатическом обиходе только вислых воскомастичных печатей. В историографии этот факт не получил достаточно внятного объяснения и относится к числу загадок, поскольку сами климатические условия Святой Земли предполагали использование в качестве пластичной массы для изготовления печатного оттиска более стойкого к воздействию солнца материала. Сюда же следует отнести сильное влияние традиций канцелярской практики Византии8 на сфрагистику государств латинского Востока. Для обозначения правовой аутентичности выпущенных документов орден использовал в большинстве случаев односторонние печати, хотя следует отметить также отдельные случаи9 употребления сравнительно редкого типа - воскомастичных булл конвента ордена10.
Печати прикреплялись к документам преимущественно посредством пергаменных полос, примерно с 1300 г. увеличивается употребление шнурков различного цвета (Armgart 1995: 115), главным образом, шелковых. Нередко они сплетались из разноцветных нитей. Наличие взаимосвязи между их цветом и положением лица, от которого исходила грамота, неизвестно11. По-видимому, в ряде случаев имелась определенная зависимость цвета воска печати от занимаемого официалом места в орденской иерархии, хотя значительном количестве папских грамот. Так, только Гонорий 111 адресовал ему ИЗ булл, уравнивающих корпорацию в полноте прав с названными орденами (Favreau 1972: 81).
имелись и исключения1-. Абсолютное большинство печатей черного воска принадлежали великим магистрам , дойчмейстеры (preceptor in Alemannia, магистры Немецкого ордена в Германии) 14 пользовались, в основном, красновосковыми . Они встречаются также у иных орденских официалов, главным образом, в Пруссии и Ливонии, свидетельствуя, видимо, уже не столько о положении должностного лица в общеорденской структуре власти, сколько об играемой им роли во властной организации конкретного баллея15. Наиболее распространены в орденской сфрагистике были печати, изготовленные из воска естественного и зеленого цветов. Как отмечала М. Старнавска, характерной чертой сфрагистики духовно-рыцарских орденов, отличавшей их от иных духовных официалов и корпораций, являлось использование печатей круг лой формы, куда более распространенной у светских эмитентов (Starnawska 1998: 97)16. Лишь около 1/5 печатей Немецкого ордена рассматриваемого периода имели остроовальную форму , единожды встречается треугольная.
Практика использования печатей была воспринята духовно-рыцарскими орденами вместе с „ 18
уставами у корпорации монахов и каноников . Между монашескими аббатствами и административно-территориальными единицами орденов было отличие: первые были автономны, вторые -более централизованы, что накладывало отпечаток на специфику саморепрезентации возглавлявших их официалов. Печать не относилась к элементам повседневности, частота ее применения снижалась в соответствии с рангом иерарха. Следует помнить, что далеко не все официалы, особенно высшие, скрепляли документы непосредственно сами, для этого существовали специ- альные должностные лица. Правовые аспекты использования печатей орденскими официалами регламентировались рядом положений Статутов ордена. Несмотря на то, что в основу положений устава ордена о военно-административной деятельности лег устав тамплиеров (de Curzon 1886), соответствующих параллелей о сигиллярной практике обнаружить не удалось.
Следует отметить сравнительно небольшое число положений (относительно устава тамплиеров), затрагивающих употребление печатей, что, однако, не является свидетельством придаваемого им в ордене малого значения (Pillich 1952: 363). В наиболее ранней сохранившейся версии Статутов 1264 г. название печатей встречается в двух идентичных в смысловом плане вариациях на средневерхненемецком языке: insigel и ingesigel, единожды упоминается булла конвента. В 19-й главе устава «О том, чтобы никто из братьев, кроме должностных лиц, не мог иметь печати» (Daz diekein bruder insigele babe cine die ambehtlute) указывается: «Мы постановляем также, чтобы никто из братьев, кроме тех, кому это положено по должности, не мог иметь печати» (Perlbach 1890: 45)19. В описывающем приуготовления великого магистра к смерти (Von des meisteres tode) первом параграфе раздела «Обычаи» говорится о том, чтобы высший орденский официал в преддверие смертного часа передал свою печать на сохранение брату, ныне замещающему его, с тем, чтобы тот вручил ее избранному преемнику (Perlbach 1890: 90). Регламентирующий процедуру выборов великого магистра (Luckerath 1971) 6-й параграф (In welcher wise die erwelunge gesche) сообщает, что после избрания нового главы ордена старейший среди братьев-электоров должен был вручить ему кольцо (vingerline( и печать (Perlbach 1890: 95). Магистру, в свою очередь, надлежало поцеловать брата-священника и вручившего ему кольцо с печатью. Важнейшие сведения о сложении с себя должностных полномочий великого магистра в Монфоре Герхардом фон Мальбергом в 1244 г. приводятся в булле Иннокентия IV от 16 января 1245 г. (Strehlke 1869: 362-363). Во время процедуры ресигнации он, согласно традиции (Schmid 1938: 63), вернул на алтарь “подлинную и вечную печать магистра” (autenticum et perpetuum sigilium magistrk) (Strehlke 1869: 362). Приведенные примеры ясно показывают, что матрица печати воспринималась высшими орденскими официалами, прежде всего, в качестве регалии власти, потестарного символа.
О булле конвента сообщается в 18-м пункте обычаев: «булла конвента должна храниться под тремя замками о трех ключах, первый из которых должен находиться у магистра, второй у комтура, третий — у казначея» (Des capiteles bullen, di sal man behalten under drin slozzen mit drin sluzelen, der sal den ersten der meister, den anderen der commendur, den dritten der triserere^ (Perlbach 1890: 103). Таким образом, она могла извлекаться для последующего использования лишь с коллективного согласия высших орденских официалов (Gumowski, Haisig, Mikucki 1960: 119)20. Все это производилось под контролем хранителя печати (daz insigel antwortet zu behaltene\ который и скреплял ей документ (Perlbach 1890: 103). Грамота 1251 г. визитатора Пруссии Эберхарда фон Зайна, доводящая до сведения братьев орденской провинции ряд положений принятого в Святой земле собрания Статутов, подтверждает данную процедуру и в отношении печати конвента в Пруссии, ссылаясь на «Обычаи» (Cui sigillo tails custodia est adhibenda, sucit in consuetudinibus est notata^ (Philippi, Wolky 1882: 182)21. О функции печати в тексте грамоты сказано: «...possitis feo-dalium dominorum in Prusia privilegia confirmare et aliorum hominum annuum censum debencium», a также воспроизводится ее легенда (superscription (Philippi, Wolky 1882: 182). ' '
Наиболее ранние печати ордена возникли в Святой земле. Вероятно, матрицы первых сохранившихся памятников, печатей великих магистров, были вырезаны по их заказу золотых дел мастерами в Акре. В пользу данного предположения свидетельствуют два факта. Во-первых, в Акре размещалась резиденция магистров и иных высших официалов ордена в Святой земле в 1198-1230 и 1271-1291 гг.22 Кроме того, любопытные данные дает искусствоведческий анализ печатей, позволивший выявить в ряде случаев сильное влияние традиций византийской иконографии (Kahsnitz 1990а: 374). Как известно, в XIII в. Акра являлась крупнейшим культурным центром латинского Востока (Folda 1976), местом переплетения художественных традиций различных школ, одной из наиболее влиятельных была византийская. По мере расширения орденских владений в Европе должностные лица могли зака- зывать изготовление матриц в своей местности, т.е. у золотых дел мастеров ближайших крупных городов.
Имена золотых дел мастеров (goldschmid, goltsmeyd, goltsmeid} в Пруссии известны лишь со второй половины XIV в. (von Czihak 1908: 1), а расходные записи в Мариенбургской книге главного казначея, фиксирующие оплату за изготовление печатей, приводят данные за 1399-1409 гг. (Joachim 1896)23. Известно, что в качестве материала для матриц иногда использовалось серебро"4, причем не только у высших официалов ордена"5. В большинстве случаев матрицы изготавливались, по-видимому, из обычного металла, что следует объяснять не только соображениями экономического порядка (стоимость работы варьировалась в зависимости от квалификации мастера и её сложности)26, но и проявлением монашеской аскезы, хотя использование драгоценных металлов воспрещалось Статутами лишь в личном обиходе (Perlbach 1890: 101-102). Встречаются два оттиска, сделанные геммами (интальями) в металлических оправах. К сожалению, средневековых матриц орденских печатей практически не сохранилось, что возможно частично объяснить их уничтожением после прекращения должностных полномочий официала"7 во избежание злоупотреблений28. Однако следует помнить, что в XIII-XV вв. печати орденских иерархов, в сравнении с печатями многих иных церковных учре- ждений и должностных лиц, как правило, были анонимны, что означало возможность их передачи преемнику"9. Из 155 известных нам сфраги-стических памятников периода имя официала встречается лишь в легендах 6 из них (менее 4%), впервые в 1234-1239 гг. (печать Конрада Тю-рингского)30. В легендах указывались названия должностей владельцев печатей, их «портретные» изображения или родовые гербы не встречаются31. Примеры использования печатей братьями, не „ 32
занимающими в ордене должностей, единичны .
Личные печати раннего периода орденской истории известны как весьма редкие случаи (Kahsnitz 1990а: 368). Отказ от родовой геральдической репрезентации, значение которой было очень велико в повседневной жизни светского нобилитета, являлось следствием жесткого влияния аскезы и монашеского отречения от мира. Иная картина представлена печатями иоаннитов, где преобладают личные печати с изображениями родовых гербов официалов (Starnawska 1998: 103). Данная тенденция являлась следствием внутренней специфики ордена, не пресекавшего столь строго индивидуальное начало братьев-рыцарей вследствие куда более аристократического характера корпорации, нежели у иных орденов33. Печати иоаннитов значительно чаще изображали также самого владельца, указывали как имя почитаемого им святого, так и его собственное (King 1932). Таким образом, отсутствие личных печатей в Немецком ордене подтверждает сравнительно невысокое социальное происхождение большинства его братии, отражает самосознание министериалов и мелкого рыцарства.
Орденские Статуты и актовый материал не содержат положений, свидетельствующих о наличии рекомендаций или ограничений в избрании мотива или сюжета печати, что позволяет сделать вывод о соответствующих действиях самого официала. Не существовало также никаких предписаний34 относительно иконографически предпочти- тельных изображений. Они отсутствуют и в единственном известном сфрагистическом трактате средневековья «Summa de arte prosandi», написанном цюрихским каноником Конрадом фон Муре в 1275 г. (Konrad von Mure 18 63)35. Таким образом, избрание и иконографическое оформление imago potestatis осуществлялось в соответствии с существующими социокультурными традициями. Поскольку в сфрагистике духовных официалов абсолютно доминировали изображения различных патрональных святых, в том числе тех, чьи культы имели официальный характер, вероятно, единственным документальным свидетельством являются фиксирующие их Статуты корпорации.
По мнению Р. Кахсница, выбор предпочтительного изображения осуществлялся непосредственно самим официалом (Kahsnitz 1990а: 4ОЗ)36. Однако еще К. Курским была доказана ведущая роль священников ордена в формировании духовной культуры корпорации и специфического спиритуалитета, проявлявшаяся, в частности, в церковной архитектуре и создании иконографической программы (Gorski 1980: 329-330), что подчеркивалось позднее рядом исследователей в грудах ио орденскому искусству (Domaslowski 1985: 169-184). В то же время влияние орденских священников на выбор сюжетов светского содержания, например, образов печатей конного и пешего типов, геральдические мотивы и др. представляется сомнительным. Печати всех админи - 3737
стрируемых священниками владении ордена демонстрируют исключительно сюжеты духовного содержания. В пользу данного предположения говорит также поддерживаемый большинством исследователей тезис о неграмотности и относительно невысокой духовной культуре большинст- является 3-я книга «Педагога» Климента Александрийского (150-215 гг.) (Климент Александрийский 1996).
ва орденских рыцарей вследствие стоящих перед ними задач военно-административного характера38. Возможность совета со священниками представляется вполне очевидной, поскольку, согласно орденским Статутам, в идеале конвент должен был состоять из 12 рыцарей и 6 священников, возглавляемых комтуром.
Невозможность точного выяснения в ряде случаев специфики механизма выбора изображения не является доказательством подмены само-репрезентации официала-владельца печати миропониманием брата-священника. Сам факт осознанного соединения на печати легенды, указывающей должность орденского потентата, с определенным иконографическим образом уже свидетельствует, как минимум, о том, что избранная модель не противоречила представлениям официала о собственной власти. Знание им смысловой нагрузки изображения представляется очевидным.
Печати видятся нам наиболее важной группой источников, дающих представление о само-репрезентации ордена. Это связано, прежде всего, с тем, что они являлись одним из весьма немногих средств трансляции должностного самовос-приятия орденской братии, а также с количеством сохранившихся экземпляров33 и многообразием представляемых ими сюжетов.
Итак, следует отметить полное отсутствие регламентации использования изображений на печатях Статутами корпорации, не обнаруживают ее и источники иных видов. Таким образом, избрание и иконографическое оформление сюжета осуществлялось в соответствии с традицией, как и у других церковных институций. Учитывая коллективный характер принятия решений, затрагивающих каждую административно-территориальную единицу ордена в целом, можно высказать предположение о совещательном характере процедуры, т.е. учете мнения конвента. Учитывая неграмотность большинства орденских братьев, наиболее вероятной представляется ведущая роль именно священников в процедуре определения сигиллярных сюжетов.
Анализ визуального ряда печатей наводит на мысль о тенденциях двоякого характера. С одной стороны, особенно в ранний период орденской истории, они были призваны подчеркнуть независимое, равноправное положение ордена относительно более старых корпораций тамплиеров и иоаннитов, его право на собственное место в иерархии духовно-рыцарских орденов, специфику осуществляемой им деятельности; с другой — посредством широко распространенных символов включить организацию в христианский универсум.
Список литературы Печать в культуре Немецкого ордена (конец XII - начало XIV веков)
- Верховные магистры Тевтонского ордена. 2015. Москва: Ладомир.
- Климент Александрийский. 1996. Педагог. Москва: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла.
- Лихачёв Н. П. 1991. Моливдовулы греческого Востока / Шандровская В.П. (ред.-сост.). Москва: Наука.
- Рогачевский А. Л. 2002. Кульмская грамота - памятник права Пруссии XIII в. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Armgart M. 1995. Die Handfesten des preußischen Oberlandes bis 1410 und ihre Aussteller. Beiträge zum Urkundenwesen des Deutschen Ordens in Preußen. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.
- Böhm H.-G. (Hrsg.). 2002. Siegel des Deutschen Ordens von Akkon bis Mergentheim. Bad Mergentheim: Schriftenreihe.
- de Curzon H. (éd.). 1886. La Règle du Temple. Paris: Renouard.
- de Saint-Hilaire P. 1991. Les Sceaux templiers. Puiseaux: Pardès.
- de Visser M. 1942. I sigilli del sovrano militare ordine di Malta. Milano: Seimand.
- Domasłowski J. 1985. Die gotische Malerei im Dienste des Deutschen Ordens // Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur / von Nowak Z.H. (Hrsg.). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 169-184.
- Ewald W. 1914. Siegelkunde. München: R. Oldenbourg.
- Favreau M.-L. 1972. Studien zur Frühgeschichte des Deutschen Ordens. Stuttgart: Klett 1975.
- Favreau-Lilie M.-L. 1982. The Teutonic Knight in Acre After the Fall of Montfort (1271): Some Reflections // Kedar B.Z., Mayer H.E., Smail R.C. (eds.). Outremer: Studies in the History of the Crusading Kingdom of Jerusalem. Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi Publications, 272-284.
- Folda J. 1976. Crusader manuscript illumination at Saint-Jean d'Acre, 1275-1291. Princeton: Princeton University Press.
- Górski K. 1980. Das Kulmer Domkapitel in den Zeiten des Deutschen Ordens. Zur Bedeutung der Priester im Deutschen Orden // von Fleckenstein J., Hellmann M. (Hrsg.). Die geistlichen Ritterorden Europas. Sigmaringen: Jan. Thorbecke, 529-557.
- Gumowski M., Haisig M., Mikucki S. (opr.). 1960. Sfragistyka. Warszawa: PWN.
- Hennes J. H. (Hrsg.). 1845. Codex diplomaticus ordinis Sanctae Mariae Teutonicorum. Bd. I. Mainz: Kirchheim, Schott und Theilmann.
- Jakubowska B. 1992. Malborska Ucieczka do Egiptu - motyw i funkcja // Bielska-Łach. M. (red.). Sztuka i historia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków, listopad 1988. Warszawa: PWN, 181-195.
- Joachim E. (Hrsg.). 1896. Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409. Königsberg: Thomas & Oppermann.
- Jóźwiak S. 2001. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410. Rozwój - przekształcenia - kompetencje. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
- Kahsnitz R. 1990a. Siegel als Zeugnisse der Frömmigkeitsgeschichte // Bott G., Arnold U. (Hrsg.). 800 Jahre Deutscher Orden: Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg in Zusammenarbeit mit der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des deutschen Ordens. Gütersloh; München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 368-405.
- Kahsnitz R. 1990b. Siegel des Deutschen Ordens aus dem Heiligen Land und dem Reich. Das 13. Jahrhundert // Der Herold. Neue Folge. Bd. 13. Jg. 33, 69-81.
- King E. J. 1932. The Seals of the Order of St. John of Jerusalem. London: Methuen & Co., Ltd.
- Konrad von Mure. 1863. Summa de arte prosandi // Rockinger L. (Hrsg.). Briefsteller und Formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahrhunderts. München: Erscheinungsjahr, 403-482.
- Krejčík T. 1995. Siegel im klösterlichen Leben des Mittelalters // Derwich M. (red.). La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Wrocław: Institut d'histoire de l'Université, 523-532.
- Lückerath C. A. 1971. De electione magistri. Ein Beitrag zum mittelalterlichen Wahlrecht im Deutschen Orden // Preußenland. Jg. 9. Marburg. № 3, 33-47.
- Mayer H. E. 1978. Das Siegelwesen in den Kreuzfahrerstaaten. München: Abhandlungen.
- Militzer K. 1970. Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich. Bonn; Bad Godesberg: N.G. Elwert.
- Perlbach M. (Hrsg.). 1890. Die Statuten des Deutschen Ordens nach den aeltesten Handschriften. Halle a S.: Max Niemeyr.
- Philippi R., Wölky C.P. (Hrsg.). 1882. Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung. Bd. I. Königsberg: Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung.
- Piech Z. 1993. Ikonografia pieczęci Piastów. Kraków: Universitas.
- Pillich W. 1952. Die Typarsammlung des Deutschordensarchivs // Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Bd. 5, 363-400.
- Schlumberger G., Chaladon F., Blanchet A. 1943. Sigillographie de l'Orient latin. Paris: Geuthner.
- Schmid B. 1937. Die Siegel des Deutschen Ordens in Preußen // Altpreußische Forschungen. Jg. 14, 179-186.
- Schmid B. 1938. Die Siegel des Deutschen Ordens in Preußen // Altpreußische Forschungen. Jg. 15, 63-75.
- Schöntag W. 1999. Amts-, Standesbezeichnungen und Titel in Siegellegenden im 12. und 13. Jahrhundert // Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Bd. 147, 145-169.
- Starnawska M. 1998. Pieczęćie zakonów krzyżowych na ziemiach polskich w średniowieczu jako źródło do ich dziejów. Perspektywy badawcze // Dymnel P. (red.). Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Lublin: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 89-119.
- Stieldorf A. 2004. Siegelkunde. Hannover: Hahn.
- Strehlke E. (Hrsg.). 1869. Tabulae ordinis Theutonici. Berlin: Weidmannos.
- Stróżyk P. 2006. Średniowieczne pieczęcie templariuszy i joannitów na ziemiach polskich // Piech Z., Pakulski J., Wroniszewski J. (red.). Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań. Warszawa: DiG, 197-217.
- Voigt J. 1827. Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. II. Königsberg: Johannes Voig.
- von Czihak E. 1908. Die Edelschmiedekunst früherer Zeiten in Preußen. Leipzig: Hiersemann.