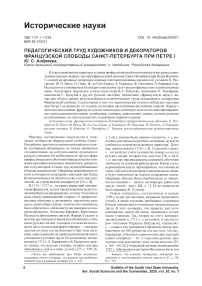Педагогический труд художников и декораторов французской слободы Санкт-Петербурга при Петре I
Бесплатный доступ
В статье выявляются характер и условия профессиональной подготовки русских ремесленнохудожественных кадров у мастеров французской колонии Санкт-Петербурга при Петре Великом. С опорой на архивные материалы впервые систематизированы сведения об учениках Б. Растрелли, Ф.-П. Вассу, Н. Пино, Ж. де Сен-Лорана, А. Кардасье, Ф. Пильмана, Л. Каравака и др. Исследуются сложившиеся благодаря «школьному делу» русско-французские художественные связи. Анализируя творческие успехи скульптора В. Л. Кобелева, чеканщика О. Тимофеева, живописца С. Бушуева и других русских мастеров, прошедших «французскую науку», автор дает общую оценку результативности педагогического труда художников и декораторов Французской слободы. Сделан вывод о том, что педагогические усилия слободских мастеров при Петре I не принесли тех плодов, на которые рассчитывала российская сторона. Наряду с прочими иноземцами, французы сумели подготовить некоторое количество квалифицированных ремесленников (резчиков, литейщиков, столяров, живописцев), однако, за очень редкими исключениями, не смогли воспитать художников мирового уровня.
Французские мастера в петербурге, профессиональное обучение, б. растрелли, н. пино, ф. вассу, ж. де сен-лоран, а. кардасье, ф. пильман, ф. бегагль, л. каравак, русские ученики, в. кобелев, о. тимофеев, с. бушуев, русско-французские художественные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/147233416
IDR: 147233416 | УДК: 7.07 | DOI: 10.14529/ssh200301
Текст научной статьи Педагогический труд художников и декораторов французской слободы Санкт-Петербурга при Петре I
Мастера, составлявшие землячество и творческое сообщество Французской слободы Санкт-Петербурга, при поступлении на российскую службу договорами обязывались не только заниматься «художествами», но и обучать своему «рукомеслу» русских учеников. На необходимость труда в сфере профессионального обучения обращали особое внимание при найме иноземных живописцев, декораторов и скульпторов, а также других востребованных в России специалистов1. Например, важнейшим пунктом в контрактах шпалерных мастеров при Петре Великом являлось их обязательство учить «русских людей» на учреждаемой мануфактуре [39, с. 8].
В 1715—1717 гг., во время первичной контрактации французов, детали предстоящей им педагогической работы не раскрывались, потому что не были ясны самой принимающей стороне. О профессиональном обучении в договорных документах речь шла в самых общих чертах: количество учеников не было определено, обязанности наставников не конкретизировались. Людовику Караваку, Бартоломео Растрелли, фонтанному мастеру Жирару Суалему и многим другим просто вменяли в обязанность учить неких русских людей, «которых его величество изволит дать» (или схожая формулировка — «которые дадутся по указу его величества»). При этом договоры лишь намекали на характер взаимодействия с учениками и условия труда. Из контрактов, подписанных в 1715 г. Л. Караваком и Б. Растрелли, можно понять, что русские ученики, которых мастера обязывались «взя ть в свою службу » [25, с. 758; 26,
-
1 «Почти все работавшие при Петре иноземцы-художники имели учеников, это входило как необходимейший пункт в каждый договор» [21, с. 42].
л. 3 об.], должны были именно «служить», т. е. выполнять различные поручения, возможно, не всегда учебного или производственного характера2. Договор, заключенный в 1716 г. с Ж. Суалемом, гласил: «…он же будет учить художеству своему на досуге русских людей, которые ему дадутся» [36, л. 641], т. е. мастеру предписывалось посвящать обучению свободное от основной работы время. В ряде случаев российские власти гарантировали, что ученики не станут обузой для мастеров в материальном плане, а будут находиться на полном содержании казны. Например, Никола Пино освобождался от обязанности учеников «…питать, им квартиру давать или какую <иную> дачу» [28, л. 3]. Та же привилегия была дарована Ж. Суалему.
Новые контракты, составленные в начале 1720-х годов для мастеров, желавших продолжить службу, а также для вновь прибывших, содержали больше конкретики в отношении педагогического труда. В этих договорах, как правило, уже устанавливались сроки обучения, называлось точное число учеников. Так, второй по счету контракт, заключенный в 1721 г. с резчиком и скульптором Антуаном Кардасье (Кёрдасье), определял: «…учинить ему жалованья к прежнему окладу прибавочного по 160 рублев на год для того, что ему, Кардасиэру, в бытность свою во оные два года (срок нового контракта — Ю. А. ) выучить русских двух человек тому мастерству, чему он сам искусен» [32, л. 162—162 об.]. Очередной договор, подписанный в 1723 г. гобеленов ым мастером Филиппом Бегаглем
-
2 Бывало, что ученики занимались домашним хозяйством и использовались вместо прислуги [7, с. 28;
Младшим, предусматривал обучение 19 «молодых ребят» (из них семеро продолжали учебу) в течение шести лет [39, с. 11]. В случае с Л. Караваком новый контракт 1724 г. содержал даже план обучения, внесенный в текст по предложению самого живописца, обязавшегося «показывать науку свою четырем человекам ученикам чрез два года в Питербурхе, а доканчивать в Париже…» [9, с. 329—330; 26, л. 15]. То есть живописец обещал сформировать у учеников общие навыки в обращении с кистью и красками, а затем предлагал дать им возможность усовершенствоваться в «добром мастерстве» в Париже и получить соответствующую аттестацию Парижской Академии. Примерно половина текста контракта с Л. Караваком посвящена описанию его будущей живописной «школы» [9, с. 330].
Все эти контракты предусматривали казенный расход на содержание учеников, устанавливали размеры ученических окладов и дополнительное жалованье для педагогов. Оклады обучающимся должны были выплачиваться помесячно, а жалованье мастерам за их труд — по завершении обучения. Например, Л. Караваку обещали заплатить по 400 рублей за каждого выученика после успешной аттестации [26, л. 15]. Б. Растрелли рассчитывал на двухсотрублевые выплаты. Впрочем, размер вознаграждения не всегда был оговорен: когда в 1724 г. скульптор и резчик Жан де Сен-Лоран потребовал оплатить услуги по подготовке им десяти русских учеников, которых он, согласно контракту, выучил, оказалось, что суммы за обучение изначально ему не были установлены [34, л. 792; 35, л. 366]. Тогда по поводу размеров оплаты труда был сделан запрос в Адмиралтейскую коллегию, из которой пришел ответ, что галерным мастерам (иностранным и русским), обучающим своему плотничьему делу, согласно именному указу от 12 января 1715 г., платят по 50 рублей за ученика. Эти расценки и были взяты за основу при расчете с Ж. де Сен-Лораном [37, л. 990].
Таким образом, нет сомнений в том, что учебную работу иностранных художников, в том числе выходцев из Франции, российская сторона мыслила не менее важным направлением их деятельности, чем создание произведений искусства. В эпоху Петра I руководство Канцелярии городовых дел (с 1723 г. она именовалась Канцелярией от строений), а также Мануфактур-коллегии и Адмиралтейства, рассматривало обучение иноземцами способных русских в качестве первоочередной задачи [41, с. 77]. Современник-иностранец неслучайно писал о Васильевском острове: «В этом самом месте живет много мастеровых французов, англичан, голландцев и мануфактуристов других наций. Их царь выписал для обучения русских людей» [17, с. 141].
Несмотря на это, профессиональное обучение у французов русской молодежи долгое время не было организовано. В течение первых лет пребывания в России французские художники и ремесленники, за редкими исключениями, не имели учеников — во всяком случае, документы Канцелярии почти не упоминают о них. Из материалов делопроизводства следует, что в 1718 г. с русскими учениками занимался живописец Филипп Пильман [30, л. 87].
В 1719 г. садовнику Дени Брокету помогал в изготовлении решеток к стрельнинскому саду ученик Кирилл Шишков [29, л. 329 об.]. Однако, в целом, большие объемы проектировочных, строительных и отделочных работ в Петергофе, Стрельне и самом Петербурге не оставляли мастерам свободного времени на преподавание, а отсутствие в договорах конкретных показателей педагогического труда делало его необязательным, вторичным по отношению к исполнению художественных проектов. Думается, именно поэтому при продлении контрактов в них стали вносить необходимую для успешного преподавания конкретику. К тому же требовалось значительное время на поиск грамотных и способных к искусству молодых людей, что не могло не сдерживать развитие системы профессиональной подготовки живописцев, скульпторов и резчиков в России.
Нам неизвестно, были ли в первые годы по прибытии в Россию ученики у таких маститых художников, как Б. Растрелли, Ф.-П. Вассу и Н. Пино. У Ж.-Б. Леблона, погруженного в решение крупных градостроительных задач, учеников не было [8, с. 69]. Есть глухое упоминание о том, что в доме Л. Каравака на Васильевском острове (вторая линия Французской слободы, дом № 4) в 1717 г. жил один ученик [27, л. 30 об.]. У шпалерных мастеров, из-за нехватки шерсти, инструментов и общей неорганизованности производства, в 1717—1718 гг. вообще не было никакой работы. Вопрос об учениках для них был поставлен только в ноябре 1719 г., когда многих французских ткачей уже рассчитали и распорядились отправить на родину. Оставленным при мануфактуре Филиппу Бегаглю Младшему и Пьеру Каму (Камусу) именно тогда повелели набрать десять русских учеников, из которых первыми в ученье были определены Иван Кобыляков и Трофим Буйнаков. И. Кобыляков чуть раньше, еще летом 1719 г., начал заниматься у «шпалерника богатых шпалер» Жан-Жака Гошера, но тот вскоре был уволен и уехал во Францию [12, с. 75, 94, 100].
Немалое стремление к занятиям с учениками проявил Б. Растрелли, который в конце 1716 г., приступая к работе над конным монументом Петра I, просил царя выделить особое помещение под скульптурную школу и «прислать в науку российских людей» числом 30 человек [3, с. 22]. В «спецификации артиклов, которые принадлежат для выливания лошади его величества» флорентинец описал будущее устройство своей учебной мастерской, предполагая, что занятия он будет вести через переводчиков, разумеющих художественную терминологию. В ответ на его просьбу в январе 1717 г. было решено «ради учения учеников» предоставить им для жилья и занятий дом покойной царицы Марфы Матвеевны на 1-й Береговой (будущей Шпалерной) улице [3, с. 24]. В том же году скульптор Растрелли переехал в этот дом вместе со своей семьей, но была ли начата работа по обучению будущих скульпторов — неизвестно. В апреле 1717 г. Б. Растрелли все еще не имел «школьников» и настойчиво просил генерал-губернатора А.Д. Меншикова направить к нему «в науку скульптурную и архитектурную и протчих по моему аккорду тридцать учеников» [3, с. 24].
Активное обучение мастерами колонии будущих русских художников началось только в 1720-е годы. В 1721 г. Б. Растрелли вновь ходатайствовал об определении к нему в обучение «российских людей». Аналогичную просьбу в Канцелярию тогда же направил Ф.-П. Вассу. В подлинном документе читаем: «в прошлом 1721 году февраля 21 дня в Канцелярии от строений французы архитект Рострели, вольной литейщик Васу в скасках своих написали, буде его императорское величество укажет, из российских людей, которые умеют грамоте и писать, и они таких людей будут обучать: архитект Рострели выливать и вычищать разные всякие фигуры из свинцу и из меди и для выливания тех фигур модели и фурмы делать и рисовать чертежи тем фигурам и прочим делам, чему он сам искусен, и он таких людей выучит впредь в два года, ежели они оное могут прилежно принять, и за каждую персону возьмет он за науку, как тех людей всему выучит против себя, по 200 рублев; литейщик Васу выучит выливать и вычищать разные всякие фигуры из свинцу и из меди и для выливания тех фигур фурмы делать, чему он сам искусен, впредь в два ж года, ежели оное могут прилежно принять, а за каждую персону возьмет он за науку, как всему выучит против себя, по 150 рублев» [36, л. 541].
Мотивация мастеров к преподаванию, в целом, ясна. В работе над масштабными проектами Б. Растрелли и Ф.-П. Вассу нужны были помощники, которых они могли бы подготовить в ходе обучения. С другой стороны, мастера были заинтересованы в дополнительном заработке, особенно Б. Растрелли, чье материальное положение сильно пошатнулось из-за перехода на подрядную работу. По тем же причинам ходатайствовали о «даче учеников» Н. Пино и столяр Жан Мишель [41, с. 77].
В ответ на прошения Б. Растрелли и Ф.-П. Вассу тогда же, в феврале 1721 г., было решено прислать им «учеников из академии (имеется в виду школа математических и навигацких наук — Ю. А.), которые бы умели арифметике». В марте 1721 г. в Канцелярию городовых дел были «отправлены из академии школьники солдатские дети»: Сергей Яковлев, Василий Кобелев, Кузьма Казаков — из класса «навигации плоской»; Алексей Иванов — из арифметического класса. С. Яковлев и В. Кобелев поступили к Растрелли, а К. Казаков и А. Иванов — к Вассу [36, л. 541 об.; 37, л. 1023—1024]. К маю месяцу обучение уже началось, о чем свидетельствует ведение Растрелли с просьбой отпустить краски и бумагу, а также дрова для палаты, где «живут и учатся школьники» [22, с. 574]. Жили они и учились в доме мастера на 1-й Береговой улице. Впрочем, через год у Б. Растрелли остался только один ученик — В. Кобелев, более прилежный, чем С. Яковлев, но тоже не вполне соответствовавший требованиям мастера. Об этом рассказал сам Б. Растрелли в письме к директору Канцелярии У. А. Сенявину, сетуя на то, что при всех своих способностях воспитанники недисциплинированны, дерзки и ленивы. Все это сильно затрудняло обучение у Растрелли, который, по-видимому, не смог внушить школярам почтение к своему таланту и не был в состоянии самостоятельно водворить дисци- плину. Он писал У. А. Сенявину в декабре 1721 г.: «Я вынужден весьма почтительно представить вашему превосходительству, что ученики, которых я по моему контракту взял для обучения тому, что я умею, появляются очень редко и я вынужден сообщить, что один из них два месяца гулял, а другой появляется утром и уходит. Со своей стороны я старался со всевозможной мягкостью побудить их, чтобы они усердно занимались, дабы я мог свидетельствовать вашему превосходительству, что у них благоприятное дарование для изучения наук. Я настойчиво пользуюсь этой возможностью до конца, чтобы уведомить ваше превосходительство, что это не выполняется мной, и если вам угодно, чтобы я продолжал обучение, необходимо дать мне, по крайней мере, солдата, который мог бы надзирать за их поведением и наказывать их» [Цит. по: 18, с. 58].
В 1722—1723 гг. у Б. Растрелли «обучение фигурному делу» проходил один только В. Кобелев, что следует из просьб мастера выдать своему ученику жалованье [33, л. 878, 880]. У Ф.-П. Вассу продолжали учиться «литейному делу» оба ученика [33, л. 879, 880]. Однако ни тот, ни другой мастер не успели завершить преподавание в отведенные сроки. В. Кобелев прошел выпускные испытания только летом 1724 г., затратив на обучение «у скульптурной науки» почти три с половиной года [18, с. 58]. Затем он был отправлен для усовершенствования навыков в Италию, несмотря на то, что архитектор М. Г. Земцов, член экзаменационной комиссии, в общем-то, неудовлетворительно оценил его знания и умения, отметив, что В. Кобелев «помянутую науку близ половины изучил» [5, с. 524]. К. Казаков и А. Иванов продолжали учиться еще в апреле 1724 г. [36, л. 544—544 об., 546, 549 об.].
Ученики Б. Растрелли и Ф.-П. Вассу так и не стали большими мастерами. О работах А. Иванова упоминаний нет. К. Казаков одно время помогал Растрелли в отливке и вычищении свинцовых и медных фигур [3, с. 28]. Более известен Василий Логинович Кобелев, который после занятий у Б. Растрелли обучался в Венеции у скульптора П. Баратта. В звании «мраморного дела мастера» он вернулся в Россию в 1730 г. и вместе с товарищами по заграничной школе попал в распоряжение Гоф-интендантской конторы [15, с. 180—183]. Какое-то время он занимался резьбой по камню, изготовил несколько пирамид из яшмы, причем выразил недовольство полученной работой, желая делать то, чему «был обучен в Италии», а именно «резать на мраморе» [14, с. 126]. В январе 1732 г. В. Кобелев вместе с другими мастерами был прислан в Москву для работы над литейной формой для Царь-колокола и украшения его рельефными изображениями. Автором этих изображений (по-барочному экспрессивных ангелов, портретов императрицы Анны Иоанновны, царя Алексея Михайловича и др.) считается скульптор Федор Медведев, участие же в данном проекте В. Кобелева ограничивалось вспомогательными функциями — он помогал лепить «фурмы», чеканил и вычищал некоторые «персоны» [14, с. 126]. В 1740-е годы В. Кобелев занимался «пьедестальным делом» в садах и дворцах Петербурга и Петергофа (ремонтировал пьедесталы для статуй, производил их замену, чистил скульптуры), а также вытесывал колонны и балясины, ступени лестниц, делал мелкую резьбу по камню. Он не стал самостоятельным мастером, сначала находился в подчинении у резчика Иоганна Цвенгофа, а затем у «штукатура» Джованни Росси (Ивана Россия) [4, с. 482, 503; 5, с. 524—525].
Таким образом, следует согласиться с выводом искусствоведов о том, что в своих попытках создать в России первую школу скульптуры Б. Растрелли потерпел неудачу — и, наверное, не только из-за неспособности Канцелярии от строений обеспечить академические условия [23, с. 474], но и по причине неготовности самих русских людей к самостоятельному скульптурному мышлению. Не стал Б. Растрелли основателем скульптурной школы и в смысле целого направления в искусстве, так как не имел прямых последователей [43, с. 136]. Еще менее для этой роли годился литейщик Ф.-П. Вассу — мастер опытный и даровитый, однако часто работавший по чужим проектам и не оставивший, в отличие от Растрелли, знаковых произведений.
Прочие скульпторы и резчики, коллеги и земляки Ф.-П. Вассу и Б. Растрелли, тоже не смогли подготовить крупных художников. В 1721 г. четыре ученика Н. Пино учились вырезать архитектурные элементы — они занимались изготовлением дубовых балясин для крыльца Большого Петергофского дворца [31, л. 26]. В 1722 г. мастер «Пиновий» давал уроки рисунка ученикам Л. Каравака Василию Морозову и Егору Моченому [2, с. 130]. Вместе с Н. Пино в 1723—1725 гг. работали «у науки резного дела» «малоумеющие» ученики Тимофей Михайлов, Петр Иванов и Василий Петров [38, л. 51, 236]. Француз составил программу их десятилетнего обучения, выразив намерение усовершенствовать «школяров» во Франции, куда предлагал отправить их вместе с собой и испрашивал за каждого по 400 рублей [41, с. 77]. Согласие русской стороны на такую академическую поездку Н. Пино так и не получил. Уволенный в январе 1728 г. «за ненадобностью», он не завершил преподавание даже в Петербурге. Его свояк Бартелеми Симон, в сентябре 1727 г. принятый в Канцелярию от строений резным мастером, только принялся за обучение одиннадцати русских учеников, но вскоре также был уволен [2, с. 126]. Никаких сведений о последующих работах Т. Михайлова и его товарищей обнаружить не удалось. Вероятно, они пополнили контингент многочисленных русских мастеров, неизвестных по именам, создававших скульптурное оформление архитектурных сооружений середины XVIII в.
Весьма незначительные успехи в преподавании показал «резного каменного и деревянного дела мастер» Жан де Сен-Лоран, в 1722—1724 гг. с трудом обучивший 10 русских учеников. Это были Андрей Жуков, Нифонтий (Нифонт) Никифоров, Петр Беляев, Семен Сергеев, Степан Андреев, Андрей Кумаев (Комаев), Иван Иванов, Андрей Тимофеев, Иван Григорьев и Савелий Иванов [37, л. 989 об., 991 об.]. Кроме них в декабре 1722 г. к Сен-Лорану был определен еще одни ученик — Иван Невский [37, л. 1027 об.], однако его имя в дальнейшем источники не упоминают. В апреле 1724 г., по- сле аттестации, обучение учеников Сен-Лорана должно было завершиться, но оказалось, что они не до конца подготовлены [35, л. 366 — 366 об.; 37, л. 982 — 982 об.]. Освидетельствование проводили в июле 1724 г. архитектурный гезель М.Г. Земцов и скульптор Г.К. Оснер, которые объявили, что «ево, селдрановы, ученики в мастерстве своем от него изучилися рисованию циратен и орнаментов фундаментально, також де по возможности своей делают и на дереве резною работою по всякому рисунку, так что по пропорции половина их науки, в чем оной мастер обещается их впредь в три года готово изучить» [37, л. 991, 992]. То есть было выяснено, что за два года ученики усвоили только половину необходимых для работы знаний и умений, и было решено, в соответствии с новым контрактом, продолжить их обучение еще в течение трех лет. Сен-Лорану за его двухлетний труд заплатили тоже в два раза меньше запланированного — по 25 рублей за ученика [37, л. 993]. Ни один из бывших учеников Сен-Лорана не стал заметным скульптором или резчиком, их имена, как и многих других мастеровых, канули в Лету. Однако нет сомнений в том, что они помогали своему учителю в декоративных работах в Петергофе, а значит, внесли посильный вклад в создание этого ансамбля [35, л. 369, 372; 37, л. 984].
За мастером «в каменном обсечении и резьбе» Антуаном Кардасье в 1721—1723 гг. числились два ученика из «каменщиковых детей» — Дмитрий Васильев и Михаил Ильин. Француз докладывал, что «учил их со всякою своею прилежностию и ничего от них не скрывал», и просил Канцелярию от строений их освидетельствовать. По уверению Кардасье, не побоявшегося «подписаться под штрафом», из его учеников вышли хорошие резчики и каменотесы, достойные ранга подмастерьев, ибо они «только возможно науку приняли, и в Питергофе каменное дело отправляли исправно и ныне отправляют, что от него, Кардасиэра, приказано» [32, л. 164— 165]. Это неудивительно, поскольку Д. Васильев и М. Ильин являлись потомственными каменщиками и могли, помимо француза, перенимать мастерство у своих родителей. В дальнейшем они продолжали трудиться в Петергофе уже подмастерьями.
Из восьми бывших учеников чеканщика и полировщика Жана Нуазет де Сен-Манжа историкам искусства более всего известно имя Осипа Тимофеева, который в 1724—1729 гг. под надзором Б. Растрелли производил чеканку самого выдающегося скульптурного портрета эпохи — бюста Петра I («большой новоманерной персоны») [3, с. 38; 40, с. 42, 71]. В 1747 г. О. Тимофеев был уже «чеканного дела подмастерьем» и вместе с итальянцем Алессандро Мартелли готовил к расчистке и чеканке конную статую Петра I, отлитую по модели Б. Растрелли [18, с. 94]. Саму же чеканку осуществляли московские и петербургские мастера, среди которых имена учеников Сен-Манжа не встречаются [3, с. 80, 98—99]. Помимо О. Тимофеева, обучение рисунку и чеканке в 1720-е годы у Сен-Манжа проходили Е. Кадников, С. Иванов, Д. Михайлов, И. Евлампиев [24, с. 77, 89].
Столярное дело вместе с декоративной резьбой по дереву преподавали мастера Этьен Фолле и Шарль Руст [6, с. 35], однако имена обучившихся у них россиян установить не удалось. У столяра Жана Мишеля в 1720—1722 гг. было шесть русских учеников, которых он обязался выучить в течение двух лет, а после предлагал отправить вместе с собой во Францию и обучать там еще пять лет, причем выразил желание содержать их на своем коште [41, с. 77]. Среди них — матросские дети Н. Баженов, И. Сериков и И. Брендин, обучавшиеся у Ж. Мишеля не только ремеслу, но и «грамоте писать» (русской или французской) [24, с. 77]. Заграничными пенсионерами выученики Ж. Мишеля так и не стали, причем неизвестно, состоялись ли они вообще как профессионалы. Ж. Мишель был одаренным и трудолюбивым мастером, и его опыт создания интерьеров с использованием деревянных панелей был уникальным для России. Так же, как и опыт Фолле и Руста, умевших резать декоративные панно. Несмотря на это, обучение французскими резчиками и столярами русских учеников при Петре Великом принесло мало плода: французы не создали своей школы декоративно-прикладного искусства в России, способной конкурировать с уже сложившимися и успешно развивавшимися отечественными школами, представленными мастерами Оружейной палаты, а затем Канцелярии от строений и Адмиралтейства. Французы не подготовили мастеров, равных Ивану Зарудному, Трофиму Иванову и Ивану Телегину. Их наставническая роль сводилась к выбору тем и декоративных мотивов, общему художественному руководству на петербургских объектах, но в плане техники мастерства они мало чему могли научить.
Несколько более успешными, по сравнению с обучением русских учеников «скульптурной науке», были их занятия с французскими живописцами. Большое значение для развития монументальнодекоративной живописи в России имели педагогические усилия Филиппа Пильмана. В январе 1721 г. (многие относят эти события к 1720 г. [7, с. 30; 19, с. 96]) «иноземцу Пильману» были отданы для обучения «живописец Степан Бушуев, иконного дела мастер Федор Савин (имеется в виду Федор Саввич Воробьев — Ю. А. ), ученик Михайло Не-грубов» [33, л. 883]. Обратим внимание на то, что С. Бушуев и Ф. Воробьев (Савин, Савинов) в царском указе названы мастерами, т. е. к моменту поступления к французу они уже были подготовленными художниками, освоившими профессии живописца и иконописца при Оружейной палате (канцелярии). М. Негрубов имел статус ученика и, вероятно, тоже обладал первичными живописными навыками. Все они в апреле 1720 г. были присланы из Оружейной канцелярии в Берг-коллегию, а оттуда переданы в ученье Пильману, причем Канцелярии городовых дел было поставлено условие: «оных учеников от него, иноземца, до указу брать не велено, покамест они тому художеству обучаются» [33, л. 883].
Обучение в XVIII в. носило сугубо практический характер — ученики Ф. Пильмана отрабатывали новые приемы, расписывая потолки Монплезира [7, с. 30, 90]. Однако известно, что русские помощники Ф. Пильмана, включая его учеников, не всегда копировали манеру француза, проявив немалую творческую самостоятельность в росписях галерей и люстгаузов Монплезира. Особой «русской» стилистикой, например, обладают плафон восточного люстгауза с птицами и цветами, а также композиция «Весна» западной галереи Монплезира, где образ юной девы, лишенный французской чувственности, написан в соответствии с традициями древнерусского искусства [7, с. 80, 84, 95; 11, с. 23]. Эта живопись была создана под руководством Ф. Пильмана в 1721—1722 гг. предположительно артелью русских мастеров, в которую помимо С. Бушуева, Ф. Воробьева и М. Негрубова входили вполне состоявшиеся живописцы бывшей Оружейной палаты — Василий Ерошевский и Леонтий Федоров.
Пильмановские ученики обучались в течение трех с лишним лет. По завершении учебы сам Ф. Пильман дал им следующую аттестацию: «Оные де ученики научились от меня живописным художествам, орнаментам, которыми убираются внутри домов потолки, стены или что иное, и могут они все те живописные дела править собою без всякого отягчения» [42, с. 15—16]. Экзаменовавший их живописец Бартоломео Тарсия дал всем троим высокую оценку, заявив, что «они в художестве гораздо произведены и могут о себе без оного мастера пребыть» [7, с. 29]. Правда, этим отзывам противоречило мнение Л. Каравака, который в том же 1724 г. дал понять, что выучку С. Бушуева и других русских живописцев он «не признавает» [19, с. 103]. Ревнивой реакции Л. Каравака вряд ли стоит доверять, ибо непредвзятая оценка творчества бывших учеников Ф. Пильма-на в научной литературе очень высока [7, с. 29—30; 11, с. 20]. В 1730 г., уже после смерти С. Бушуева, М. Негрубов и Ф. Воробьев вновь держали экзамен перед Д. Трезини, М. Г. Земцовым и живописцем А. Матвеевым и были по достоинству оценены, получив наконец звание мастеров-орнаментистов [7, с. 29; 20, с. 195, 221] (с 1724 г. они числились подмастерьями и находились под «ведением» старшего мастера С. Бушуева).
Среди своих товарищей Степан Бушуев был не только старшим по возрасту и положению (фактически он занял место Ф. Пильмана после его отъезда из России в 1725 г.), но и первым по мастерству. С. Бушуев родился в 1677 г. и до поступления к Пильману имел собственного ученика1. После «французской науки» он продолжал работать в Петергофе — вместе с М. Негрубовым в 1726 г. расписал падуги Картинного зала Большого Петергофского дворца (подлинные композиции падуг — «Похищение Прозерпины», «Вулкан со щитом», «Церера и Флора», «Нептун» были утрачены во время Великой Отечественной войны, ныне восстановлены) [7, с. 130]. С. Бушуев умер в 1728 г., не завершив создание станковых картин «славных баталий» в «Летнем доме», которое было ему поручено вместе с Андреем Матвеевым [7, с. 30; 20, с. 192].
Федор Воробьев и Михаил Лукьянович Негрубов в 1730-е годы считались авторитетными живописцами и, в свою очередь, подготовили немало учеников [7, с. 29—30; 20, с. 195, 221]. Поэтому о живописной школе Филиппа Пильмана, представляющей целое направление в монументально-декоративном искусстве России, можно говорить как о реальном историческом факте. В 1728—1729 гг. Ф. Воробьев и М. Негрубов выполнили орнаментальные росписи сводов Петропавловского собора в Петербурге (утраченные еще в XVIII столетии), а в 1731 г. приступили к росписи тыльной стороны его иконостаса, обитого холстом, правда, вскоре были отозваны для украшения «Летнего дома» [44, с. 120; 45, с. 77]. Ф. Воробьев умер в 1737 г., в последние годы он писал декоративные холсты для дворцов в Петербурге и Ораниенбауме. М. Л. Негрубов участвовал в оформлении триумфальных ворот при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне (умер в 1745 г.) [20, с. 195, 221].
Помимо упомянутых художников, обучившихся у Ф. Пильмана росписям интерьеров, в 1723— 1724 гг. мастер подготовил троих живописцев для нужд шпалерного дела. Среди таковых был Алексей Соловьев, сын известного живописца Дмитрия Никифоровича Соловьева, написавшего ряд картин на евангельские сюжеты для Петропавловского собора в Петербурге. По собственному свидетельству А. Соловьева, мастер учил их «орнаментальному письму на французский манер» [13, с. 270; 39, с. 11].
Весьма востребованной в Петровской России оказалась педагогическая деятельность Л. Кара-вака — не самого одаренного, но влиятельного придворного живописца. Имя его первого ученика, с 1717 г. жившего в квартире мастера на Васильевском острове, осталось неизвестным. Возможно, этим учеником был Михаил Беляков, «из переведенцев каменщиков сын», который как раз с 1717 г. состоял при французе «у растирания красок», однако долгое время учеником не считался [38, л. 19]. В 1722 г. официально у Л. Каравака было только два ученика — Василий Васильев сын Морозов и Егор Моченый (Моченов), работавшие вместе с ним «в Сарском селе всемилостивейшей государыни императрицы у роскрашения полат» [33, л. 882, 884]. Прежде они обучались иконописи в Оружейной канцелярии, а у француза должны были получить новую квалификацию светских живописцев [33, л. 883 об. — 884 об.]. В 1723 г. число обучающихся у Л. Каравака расширилось: статус ученика обрел вышеупомянутый Михаил Беляков, а также поступил на учебу Иван Смирнов, племянник живописца Леонтия Федорова. В том же году к ученикам Л. Каравака Канцелярия от строений отнесла вернувшегося из Флоренции Михаила Захарова, который скорее был помощником, чем «студентом» [20, с. 81, 85, 223]. В следующем, 1724 г., В. Морозов и Е. Моченый перешли в обучение к мастеру А. И. Захарову, и число караваковских учеников сократилось до трех. Однако уже в январе 1725 г., к Л. Караваку («ибо он, Каравак, имеет только ныне трех учеников, а по контракту надлежит ему обучать четырех человек…»), был приписан Иван Дмитриев, сын «садовых его величества дел столяра» Дмитрия Максимова. Последний лично хлопотал об определении своего сына к какому-либо художнику, ибо подросток к живописи имел «склонность и охоту» [38, л. 378].
В отличие от «школы» Ф. Пильмана, обучение русских живописцев Л. Караваком в Петровскую эпоху оказалось не столь эффективным. Реальные успехи его «выпускников» очень скромные: В. Морозов до конца своей жизни оставался учеником, переходя от одного мастера к другому без заметного творческого роста. Е. Моченый окончил свои дни в 1757 г. в звании краскотера [20, с. 219]. О них еще в мае 1723 г. Л. Каравак жаловался в Канцелярию от строений: «от меня науки живописного дела фигурного мастерства не принимают, понеже тщания к той науке никакого не имеют, а могут быть токмо у роскрашивания и у письма и золочения дерев неискусным мастерством» [20, с. 81]. Экзаменаторы Канцелярии не согласились с выводами француза, найдя способности В. Морозова и Е. Моченого достаточными, и посоветовали Л. Караваку найти иные способы преподавания. Француз, кстати, считал весьма одаренным М. Белякова, однако и этот художник не реализовал свои возможности и в дальнейшем не имел никаких заслуг. До 1754 г. он находился в звании ученика, затем все же стал самостоятельным «живописцем», но без сопутствующей этому назначению прибавки к жалованью [20, с. 190]. Естественно, никто из учеников Л. Ка-равака не был отправлен в Парижскую Академию. Главные причины неуспеха его «школы» следует искать в отсутствии педагогических способностей у самого мастера, а не в недостатке дарований учеников, на что справедливо обратили внимание еще полвека назад Н. М. Молева и Э. М. Белютин [20, с. 81, 97].
Значение педагогического труда Л. Каравака возросло при преемниках Петра Великого, когда русское искусство развивалось уже в иных условиях, и имелись собственные подготовленные кадры, способные обучать младших товарищей. Этот труд накладывался на труд других опытных живописцев-педагогов, повышая полезный коэффициент карава-ковских занятий и занятий с другими иностранцами. Школу француза в 1730-е годы прошли известные и весьма даровитые портретисты И. Я. Вишняков и А. П. Антропов, прикрепленные к Л. Караваку «для обучения науке». Однако эти живописцы вобрали опыт разных мастеров, в том числе соотечественников, поэтому в творчестве лишь косвенным образом зависели от французского наставника [1, с. 70—71]. Их мастерство тоже нельзя считать прямым результатом преподавания Л. Каравака, у которого И. Я. Вишняков и А. П. Антропов приобретали одну из многочисленных квалификаций, приучаясь к языку французского портрета. Преподавательские усилия Л. Каравака, таким образом, сыграли важную, но вспомогательную роль в развитии портрета и вообще светского искусства в России, не являясь исходной точкой этого длительного и трудного процесса.
Наконец, еще одной гранью проблемы эффективности французских художественных «школ»
является педагогическая деятельность шпалерных мастеров при Петре I. Ее оценка уже была дана замечательным исследователем Т. Т. Коршуновой, писавшей: «…одну из задач, стоящих перед ними, — “вкоренение того их художества” в России, — мастера-французы не исполнили» [39, с. 10]. Накануне массовых увольнений французских ткачей со Шпалерной мануфактуры в 1719 и 1723 г. выяснилось, что за несколько лет их ученики остались необученными. Старший мастер Пьер Каму (Камус) откровенно пренебрегал учительскими обязанностями, проводил время в «гуляниях и отлучках», а ученики его после трех лет учебы «малое что познали и того без надзирания делать не могут» [13, с. 262]. У П. Каму учились Трофим Буйнаков (в 1719—1723 гг.) и Михаил Ахманов (в 1720—1723 гг.), переведенные затем в класс Филиппа Бегагля Младшего, самого способного французского мастера и одновременно педагога в России. Ф. Бегагль был одним из немногих иностранцев, обеспечивших качественное обучение и сумевших передать профессиональные секреты русским. В 1720-х годах, помимо Т. Буйнакова и М. Ахманова, он обучил многих ткачей-художников — Ивана Кобылякова, Антона Афанасьева, Григория Ежикова, Степана Шилкина, Сергея Климова [12, с. 93, 99—100, 107]. Всё это мастера больших дарований, чьи произведения представляют огромную художественную и историческую ценность [13, с. 251, 263—266]. Самостоятельно работать они начали уже на исходе Петровского царствования. Вообще Ф. Бегагль за время работы в России подготовил более тридцати учеников готлисс и басслисс, хотя наибольшую отдачу его педагогическая деятельность имела в последние годы жизни. Ф. Бегагль, создавший эффективную систему классов-ступеней, соответствующих определенному уровню освоения ремесла, умер в 1733 г. Среди его учеников было много ремесленников, пусть и не столь талантливых и известных, как И. Кобыляков или Т. Буйнаков, но весьма хорошо знавших свое дело. Это — Авраам Артемьев, Дмитрий Иванов, Клим Крылов, Иван Богданов, Никита Печатников и др. [12, с. 92—94, 99, 101, 103; 13, с. 271—275].
В профессиональном обучении ткача-готлисс Алексея Плотникова, наряду с Ф. Бегаглем, принимал участие мастер Жан-Батист Бурден (Бурдейн). В 1724 г. Ж.-Б. Бурден также приступил к занятиям с Климом Крыловым, Алексеем Плотниковым, Петром Дружининым и Захаром Максимовым, однако квалифицированными специалистами все они стали только под опытным руководством Ф. Бегагля [12, с. 76]. Помощниками Ф. Бегагля по учебным классам были его двоюродный брат Людовик Бегагль и мастер (с 1724 г.) Ноэль Ронсон. Людовик Бегагль умер в Санкт-Петербурге не позднее 1729 г., и отмечен в документах как хороший педагог: «…по-русски говорить искусен и ученикам в работе всякую экспликацию чинить может» [12, с. 76]. Имел русских учеников и Антуан Рошебо, мебельщик-декоратор, шпалерный мастер «для мебели» и «для обивки стен» [10, с. 113], но в какое время он преподавал свое искусство и каковы были результаты на этом поприще, неизвестно.
В целом, педагогические усилия мастеров французской колонии Санкт-Петербурга при Петре Великом не принесли тех плодов, на которые рассчитывала российская сторона. Французы, наряду с другими иноземцами, сумели решить только одну задачу — подготовили некоторое количество квалифицированных ремесленников (резчиков, столяров, литейщиков, живописцев), безымянных или малоизвестных, чье творчество не возвышалось над уровнем среднего ремесла. Такие ремесленники пополнили штат рядовых работников Канцелярии от строений, и их наличие уже на исходе Петровского царствования позволило отказаться от найма иноземных художников средней величины, что придало русскому искусству независимости. Однако французы не справились с более важной задачей — не смогли подготовить русскую смену самим себе, представленную самостоятельными мастерами, равными по творческим возможностям иностранцам. Русские художники, действительно, вскоре пришли им на смену, однако произошло это не в прямой связи с образовательной деятельностью французов, а было обусловлено комплексом явлений — рецепцией западного искусства в ходе самостоятельных творческих поисков скульпторов и живописцев в России, расширением пенсионерских поездок за границу, совершенствованием национальной системы образования, в том числе созданием петербургской академии художеств, а также иными причинами.
Результативность профессионального обучения у французских мастеров всех художественных специальностей оказалась довольно низкой. Успехи в преподавании не стали общим правилом в их работе, оставаясь редким исключением, зависящим от счастливого совпадения ряда факторов — благоприятных внешних условий для образовательного процесса, одаренности учеников и, что немаловажно, большой мотивации к труду самих учителей. Настоящих энтузиастов своего дела, талантливых не только в творчестве и исполнении проектов, но и в преподавании «художеств», среди мастеров Французской слободы было всего несколько человек — безусловно, это Филипп Пильман и Филипп Бегагль Младший. Благодаря им относительные успехи были достигнуты в обучении живописному и шпалерному делу в России уже при Петре Великом, появились первые крупные русские мастера в области декоративной живописи и ткачества. Французы учили русских с разной степенью желания и умения, но, думается, чаще воспринимали педагогический труд как вторичный по отношению к другим обязанностям. Многие из французов не смогли завершить начатое преподавание из-за кратковременности пребывания в России. Нет сомнений в том, что благодаря деятельности мастеров Французской слободы при Петре I впервые установились широкие русско-французские художественные взаимосвязи. Однако воздействие французских скульпторов, декораторов и живописцев на обучение русских мастеров преимущественно было косвенным и выражалось в том, что влияло не их преподавание как таковое (педагогика в узком смысле), а само творчество, усваиваемое в соседстве с националь- ным искусством и искусством мастеров других европейских стран.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00041 «Мастера Французской слободы Санкт-Петербурга и их роль в “европеизации” русского искусства при Петре I».
Список литературы Педагогический труд художников и декораторов французской слободы Санкт-Петербурга при Петре I
- Андреева, Ю. С. Луи Каравак и секуляризация русского искусства / Ю. С. Андреева // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Социально-гуманитарные науки». — 2017. — Т. 17, № 4. — С. 66—76.
- Антонов, В. В. Б. Симон — помощник Пино / B. В. Антонов // От Средневековья к Новому времени: материалы и исследования по русскому искусству XVIII— первой половины XIX в. / под ред. Т. В. Алексеевой. — Москва : Наука, 1984. — С. 124—130.
- Архипов, Н. И. Бартоломео Карло Растрелли. 1675—1744 /Н. И. Архипов, А. Г. Раскин. — Ленинград : Москва : Искусство, 1964. — 108, [43] с.: ил.
- Архипов, Н. И. Большой грот с каскадами в Нижнем саду г. Петродворца / Н. И. Архипов // Николай Ильич Архипов. Исследования по истории Петергофа. — Санкт-Петербург : ГМЗ «Петергоф», 2016. — C. 420—508.
- Архипов, Н. И. Фонтан «Самсон» в Нижнем саду г. Петродворца / Н. И. Архипов // Николай Ильич Архипов. Исследования по истории Петергофа. — Санкт-Петербург : ГМЗ «Петергоф», 2016. — С. 509—530.
- Бибикова, И. М. Монументально-декоративная резьба по дереву /И. М. Бибикова //Русское декоративное искусство / под ред. А. И. Леонова. — Т. 2: Восемнадцатый век. — Москва: Изд-во Академии художеств СССР, 1963. — С. 35—76.
- Борзин, Б. Ф. Росписи петровского времени / Б. Ф. Борзин. — Ленинград : Художник РСФСР, 1986. — 208 с.: ил.
- Борисова, Е. А. «Архитектурные ученики» петровского времени и их обучение в командах зодчих-иностранцев в Петербурге / Е. А. Борисова // Русское искусство первой четверти XVIII в.: материалы и исследования. — Москва : Наука, 1974. — С. 68—80.
- Веретенников, В. И. «Придворный первый моляр» Л. Каравак/В. И. Веретенников // Старые годы. — 1908. — № 6 (Июнь). — С. 323—332.
- Жерихина, Е. И. Французский мир Санкт-Петербурга / Е. И. Жерихина. — Санкт-Петербург : Росток, 2015. — 608 с.: ил.
- Калязина, Н. В. Русское искусство петровской эпохи / Н. В. Калязина, Г. Н. Комелова. — Ленинград : Художник РСФСР, 1990. — 269 с.: ил.
- Коршунова, Т. Т. Русские ткачи-шпалерники XVIII века (материалы к словарю) / Т. Т. Коршунова // Культура и искусство России XVIII века: новые исследования и материалы : сб. ст. — Ленинград : Искусство, 1981. — С. 74—108.
- Коршунова, Т. Т. Создатели шпалер петербургской шпалерной мануфактуры / Т. Т. Коршунова // Памятники культуры: новые открытия. 1975. — Москва : Наука, 1976. — С. 262—277.
- Костина, И. Д. К истории создания Царь-колокола: Новые архивные материалы /И. Д. Костина //Колокола: история и современность : сб. ст. ; отв. ред. Б. В. Рау-шенбах. — Москва : Наука, 1993. — С. 119—127.
- Костина, И. Д. Царь-колокол и его создатели / И. Д. Костина // Вопросы истории. — 1982. — № 5. — С. 180—183.
- Кошелева, О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени / О. Е. Кошелева. — Москва : ОГИ, 2004. — 486 с.: ил.
- Краткое описание города Петербурга и пребывания в нем польского посольства в 1720 году // Беспятых, Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях / Ю. Н. Беспятых. — Ленинград : Наука, 1991. — С. 139—157.
- Малиновский, К. В. Бартоломео и Франческо Растрелли / К. В. Малиновский. — Санкт-Петербург : Левша, 2017. — 272 с.
- Малиновский, К. В. Примечания / К. В. Малиновский // Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России; состав., пер. с нем., вступ. ст., предисл. и примеч. К. В. Малиновского. — Т. 1. — Москва : Искусство, 1990. — 448 с.
- Молева, Н. М. Живописных дел мастера: Канцелярия от строений и русская живопись первой половины XVIII в. / Н. М. Молева, Э. М. Белютин. — Москва : Искусство, 1965. — 336 с.: ил.
- Мюллер, А. П. Быт иностранных художников в России / А. П. Мюллер. — Ленинград : Academia, 1927. —157 с.
- Петербург в эпоху Петра I. Документы в фондах и коллекциях Научно-исторического архива СПб. Института истории. — Ч. 1. — Санкт-Петербург: Наука, 2003. — 790 с.
- Преснов, Г. М. Скульптура первой половины XVIII века / Г. М. Преснов // История русского искусства ; под ред. академика И. Э. Грабаря. — Т. V: Русское искусство первой половины XVIII века. — Москва: Изд-во АН СССР, 1960. — С. 429—496.
- Пронина, И. А. О преподавании декоративно-прикладного искусства вXVIII в. /И. А. Пронина //Русское искусство XVIII в.: материалы и исследования. — Москва : Наука, 1973. — С. 76—89.
- Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. 1726—1730 // Сб. РИО. — Т. 69. — Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1889. — 967 с.
- РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 266.
- РГАДА. Ф. 150. Оп. 1 (1716 г.). Д. 1.
- РГАДА. Ф. 150. Оп. 1 (1716 г.). Д. 3.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 3В.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 4А.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 18А.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 32А.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 34Б.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 37Б.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 39А.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 39Б.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 39В.
- РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 48Б.
- Русские шпалеры: Петербургская шпалерная мануфактура : альбом / сост. и автор вступ. ст. Т. Т. Коршунова. — Ленинград : Художник РСФСР, 1975. — 270 с.
- Русское искусство эпохи барокко. Конец XVII — первая половина XVIII века : каталог выставки. — Ленинград : Искусство, 1984. — 107, [5] с.
- Семенова, Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век) /Л. Н. Семенова. — Санкт-Петербург: БЛИЦ, 1998. — 227, [27] с.
- Успенский, А. И. Словарь художников, вXVIII веке писавших в императорских дворцах/А. И. Успенский. — Москва : Печ. А. И. Снегирева, 1913. — [2], 182 с.
- Шмидт, И. М. Декоративная скульптура архитектурных сооружений /И. М. Шмидт //Русское декоративное искусство. — Т. 2. — Москва : Изд-во Академии художеств СССР, 1963. — С. 122—148.
- Элькин, Е. Н. Декоративные росписи и живопись Петропавловского собора /Е. Н. Элькин //Краеведческие записки: исследования и материалы. — Вып. 2. Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница. — Санкт-Петербург : Акрополь, 1994. — С. 113—148.
- Элькин, Е. Н. Строительство Петропавловского собора (1712—1733) / Е. Н. Элькин // Краеведческие за писки: исследования и материалы. — Вып. 2. — Санкт-Петербург : Акрополь, 1994. — С. 56—86.