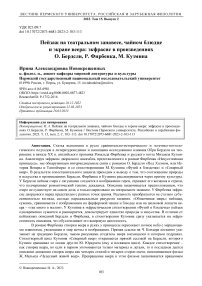Пейзаж на театральном занавесе, чайном блюдце и экране веера: экфрасис в произведениях О. Бердсли, Р. Фирбенка, М. Кузмина
Автор: Новокрещенных И.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья выполнена в русле сравнительно-исторического и эстетико-поэтологического подходов в литературоведении и посвящена исследованию влияния Обри Бердсли на творивших в начале XX в. английского прозаика Рональда Фирбенка и русского поэта Михаила Кузмина. Анализируя экфрасис дворцового ансамбля, представленного в романе Фирбенка «Искусственная принцесса», мы обнаруживаем интермедиальные связи с романом О. Бердсли «Под Холмом, или История Венеры и Тангейзера» и со стихотворениями М. Кузмина «Фузий в блюдечке» и «Северный веер». В результате сопоставительного анализа приходим к выводу о том, что соотношение природы и искусства в произведениях Бердсли, Фирбенка и Кузмина рассматривается через призму культуры. У Бердсли пейзаж озера с лягушками создается в воображении героя, отражает его желания и страхи, что подчеркивает романтический генезис декаданса. Описание заканчивается предположением, что озеро не существует на самом деле, а только нарисовано на театральном занавесе. У Фирбенка экфрасис дворцового парка представлен с разных точек зрения. Реальность преобразуется не столько субъективностью взгляда, сколько парадоксальным ракурсом видения. «Обманчивая ширь» пейзажа, сужаясь, сравнивается с изображением на фарфоровой чашке и блюдце или на шелковой лопасти веера - «так много в малом». У Кузмина в экфрастическом стихотворении «Фузий в блюдечке» пейзаж одновременно сужается и расширяется, демонстрирует единство природы и искусства. В отличие от пейзажных описаний Бердсли и Фирбенка, в стихотворении Кузмина сразу указывается на экфрастичность описания, что обусловливает его жанровую целостность. В романе Фирбенка створки веера в руках у принцессы пересекают ночное небо с мерцающими планетами, уводящими в мир мечты и воображения. Прямая ссылка на Ч. Кондера косвенно указывает на традицию Бердсли, чьими рисунками создатель веера восхищался и которым подражал. Стихотворный цикл Кузмина «Северный веер» открывается прямой ссылкой на Бердсли, которого Кузмин сравнивал со своим другом Ю. Юркуном (ему и посвящен цикл). Каждое стихотворение - как створка веера, но если в первом упоминаются только материал и детали, то в последнем дается описание движения створок веера как четырех стихий и четырех сторон света, напоминающее фильм Ж. Мельеса «Чудесный живой веер». Превращение веера в этом фильме заканчивается вращением планет на звездном небе, как на веере у Фирбенка. Таким образом, экфрасис в произведениях Фирбенка и Кузмина, эстетически восходящий к Бердсли, отличается сменой точек зрения, обращением к кинематографу и реалиям XX в.
Экфрасис, английская литература, русская литература, бердсли, фирбенк, кузмин, декаданс, модернизм, искусство и природа
Короткий адрес: https://sciup.org/147241884
IDR: 147241884 | УДК: 821.09:7 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-2-103-113
Текст научной статьи Пейзаж на театральном занавесе, чайном блюдце и экране веера: экфрасис в произведениях О. Бердсли, Р. Фирбенка, М. Кузмина
Рональд Фирбенк ( Arthur Annesley Ronald Firbank , 1886–1926) – английский писатель первой трети XX в., автор пьес и оперных либретто, денди, почитатель эстетизма, культуры конца XIX в. Один из первых написанных им романов – «Искусственная Принцесса» (“The Artificial Princess”, опубл. в 1934). Это повествование из трех глав о готовящемся праздновании Дня рождения Принцессы, которая живет во Дворце с матерью и отчимом. Центральная глава, вторая, посвящена приключениям одной из придворных дам. Принцесса отправляет ее с запиской-приглашением к Святому Иоанну Пеллегрину. Очевидная имитация сюжета о Саломее и рецепция творчества О. Уайльда отмечались в работах исследователей [Severi 2001: 55–66; Новокре-щенных 2022а: 118–126].
Нас заинтересовал другой аспект1 «Искусственной Принцессы», а именно описание пространства дворцового ансамбля, в котором обнаруживаются параллели с романом «Под Холмом, или История Венеры и Тангейзера» (“Under the Hill, or The History of Venus and Tannhauser”, 1872–1898) английского денди, родоначальника стиля модерн в графике О. Бердсли ( Aubrey Vincent Beardsley , 1872–1898) и со стихотворением «Фузий в блюдечке» (1917) и циклом «Северный веер» (1925) русского поэта, прозаика и композитора М. А. Кузмина (1872–1936).
Рональд Фирбенк создавал «Искусственную Принцессу» на протяжении нескольких десятилетий. По словам М. Бенковиц, в 1906 г. он начинает произведение, пишет до 1912 г. и продолжает в 1924–1925 гг. [цит. по: Severi 2001: 55]. Стихотворение М. Кузмина «Фузий в блюдечке» было опубликовано в Петрограде в 1917 г. в № 7 иллюстрированного художественно-литературного ежемесячника «Аргус» [Куз-мин 1990: 531]. Цикл «Северный веер» в составе книги «Форель разбивает лед. Стихи 1925–1928» увидел свет в 1929 г. в Издательстве Писателей в Ленинграде [там же: 545].
Творчество Бердсли любили и Фирбенк, и Кузмин. Они читали его литературные произведения и видели опубликованные графические работы. Об этом упоминали как сами авторы, так близкие им современники. Так, историк балета, критик и издатель Сирил Уильям Бомонт (Cyril William Beaumont, 1891–1976) оставил воспоминания о том, что «Историю о Венере и Тангейзе- ре» Бердсли Фирбенк «нарек “отдохновенной”», так он называл книги, которые ему нравились [Фирбенкиана 2004: 174]. По словам лондонского издателя Гранта Ричардса (Grant Richards, 1872–1948), Фирбенк говорил, что хотел бы достичь того, что сумел сделать Бердсли своими листами к «Похищению локона» А. Поупа (“The Rape of the Lock” (1712) by Alexander Pope) [цит. по: Edwards 2021: 57].
М. Кузмин в Дневнике от 8 октября 1906 г. дважды упоминает Бердсли. Поэт пишет, что в виденном им балете «Пробуждение Флоры» по сценарию М. Петипа и Л. Иванова, музыке Р. Дриго танцор Андр<ианов> «восхитителен в виде бердслиановского Аполлона» (отсылка к рисунку Бердсли 1896 г. «Аполлон, преследующий Дафну»). В этот же день после спектакля Кузмин едет к К. Сомову, который показывал ему «издания Beardsley» [Кузмин 2000: 236]. В 1911 г. Ликиардопуло, который переводил на русский язык роман Бердсли «История Венеры и Тангейзера», просит Кузмина «перевести стихи» Бердсли [Кузмин 2009: 284]. Кузмин переводит на русский язык баллады “The Three Musicians” и “The Ballad of a Barber” [Багно, Сухарев 2006]. Переводы Ликиардопуло и Кузмина появились в альбоме листов и произведений Бердсли, изданном «Скорпионом» в 1912 г. [Бердслей 1912; Кузмин 2011: 30, 31].
В работах литературоведов неоднократно упоминалось о влиянии творчества Бердсли на Фир-бенка [Raby 1998: 113; Weintraub 1967: 248; Edwards 2021: 56–59] и Кузмина [Кузмин 1977: 680], но специально этот аспект не изучался. Используя сравнительно-исторический и эстетико-поэтологический подходы, мы исследовали рецепцию Бердсли в произведениях Кузмина и Фирбенка [Табункина 2012б: 99–106; 2012: 121–130; 2012a: 210–220; 2013: 120–129; 2013a: 78–84; Бочкарева, Табункина 2014: 74–93; Новокрещенных 2022б: 83–105]. Цель данной статьи – сопоставить экфра-стические описания у Бердсли, Фирбенка и Куз-мина, показывая влияние декадента О. Бердсли на Р. Фирбенка и М. Кузмина, создававших свои произведения в первой трети XX в.
Пейзаж на театральном занавесе, восточной шали и фарфоровом блюдце
В романе Обри Бердсли «Под Холмом, или История Венеры и Тангейзера» шевалье Тангейзер путешествует по садам и паркам в Холме Ве- неры. Они подробно описаны, как дворец и парк Принцессы в романе Фирбенка. В четырех из десяти глав у Бердсли представлены описания террас, парков и садов, а также объемный экфра-сис пятой террасы (глава 3) с бронзовым фонтаном и тремя бассейнами, в каждом из которых помещены скульптуры. В бассейны обильно струится вода, образуя странные и ажурные узоры: “the water played profusely, cutting strange arabesques and subtle figures” [Beardsley 1996: 86]. В первом бассейне находится многоголовый дракон, лебеди и на них четыре маленьких амура с луком и стрелами. Скульптура выполнена в виде жанровой сценки – два амура отступают в страхе и два наступают на дракона: “Two of them that faced the monster seemed to recoil in fear, two that were behind made bold enough to aim their shafts at him” [ibid.: 85]. По окружности второй чаши бассейна поднимается ряд тонких золотых колонн, которые венчают серебряные голуби с распушенными хвостами и крыльями: “From the verge of the second sprang a circle of slim golden columns that supported silver doves with tails and wings spread out” [ibid.]. В центре третьего бассейна расположен тонкий столб, украшенный масками, розами, маскаронами в виде детских головок: “The third, held by a group of grotesquely attenuated satyrs, was centred with a thin pipe hung with masks and roses, and capped with children’s heads” [ibid.].
В девятой главе романа Тангейзер после завтрака едет в карете с Венерой и ее свитой по парку, осматривая сады, павильоны и украшенные водоемы: “gardens, parks, pavilions, and ornamental waters” [ibid.: 116]. По мере движения пейзаж, по сравнению с ухоженным парком (3– 6 главы), становится более таинственным, нет скульптур, слышны отголоски и таинственные звуки, бормотание из грота: “The landscape grew rather mysterious. The park, no longer troubled and adorned with figures, was full of grey echoes and mysterious sounds; the leaves whispered a little sadly, and there was a grotto that murmured like a voice haunting the silence of a deserted oracle” [ibid.: 117]. Этот пейзаж герой не столько видит, сколько воображает. Печаль Тангейзера (“Tannhäuser became a little triste”, “The Chevalier fell into a strange mood, as he looked at the lake”) подчеркивает его романтическое настроение, а воды озера названы “romantic lake”, “romantic water”.
В воображении героя серебристое озеро наполнено тончайшими рыбками, а по берегам деревья и камыши погружены в сон: “In the distance, through the trees, gleamed a still, argent lake – a reticent, romantic water that must have held the subtlest fish that ever were. Around its marge the trees and flags and fleurs de luce were unbreakably asleep” [ibid.: 117–118]. Сначала он воображает, что хочет бросить в озеро камень, чтобы нарушить его покой, разгадать его секрет: “It seemed to him that the thing would speak, reveal some curious secret, say some beautiful word, if he should dare wrinkle its pale face with a pebble”, но потом пугается собственной смелости: “ ‘I should be frightened to do that, thought,’ he said to himself ” [ibid.: 118]. Тангейзер задумывается над тем, что могло бы быть на другом берегу озера, давая волю фантазии: “Then he wondered what might be upon the other side; other gardens, other gods? A thousand drowsy fancies passed through his brain”.
Вдруг озеро начинает изменяться. Не нарушая покоя и неподвижности сна-смерти, оно увеличивается и уменьшается в размерах, отражая желания и страхи героя, чья фантазия выходит из-под контроля разума: “Sometimes the lake took fantastic shapes, or grew to twenty times its size, or shrunk into a miniature of itself, without ever once losing its unruffled calm, its deathly reserve”. Тангейзер воображает и пугается огромных лягушек с большими глазами и чудовищными лапами: “When the water increased, the Chevalier was very frightened, for he thought how huge the frogs must have become. He thought of their big eyes and monstrous wet feet…”. Когда пруд уменьшается, он смеется над их крошечными паучьими лапками и неслышным кваканьем: “<…> but when the water lessened, he laughed to himself, whilst thinking how tiny the frogs must look thinner than spiders’, and of their dwindled croaking, that never could be heard”.
Бердсли не создал лист к пейзажу с лесным озером и живущими в нем лягушками (тогда как есть листы, на которых изображены лес – «Аббат» и сад – «Разносчики фруктов», «Венера между двумя богами»), но они очень изобразительны и фантастичны. Описание заканчивается предположением, что озеро только нарисовано на театральном занавесе или декорации: “Perhaps the lake was only painted, after all. He had seen things like it at the theatre” [ibid.: 118].
Соотношение природы и искусства для декадента и эстета Обри Бердсли, жившего в самом конце XIX в., имеет романтический генезис, связанный с субъективным восприятием им размеров озера, которое изменяется в сознании героя. «Основной принцип декаданса <…> сводится к декларированию приоритета творческого субъекта над объективной реальностью. Субъект пытается максимально редуцировать объект (внешний мир)» [Тырышкина 2002: 20], – что мы и отмечаем в поэтике Бердсли.
Если в романе Бердсли «странное настроение» охватило Тангейзера, когда он смотрел на озеро (“The Chevalier fell into a strange mood, as he looked at the lake”), то в романе Фирбенка странным и причудливыми были формы цветочных клумб, которые окружали пруд с фонтаном в виде дельфина. Вплетаясь в траву, клумбы напоминали узоры на восточной шали: “the strangely shaped beds and borders, strictly floral, which, woven through the grass, suggested patterns on an Oriental shawl” [Firbank 1981: 244]. Как и у Бердсли, описание пейзажа завершается экфрастической отсылкой.
В первой главе «Искусственной Принцессы» экфрасис дворцового ансамбля в двух больших абзацах представляет сопоставление и противопоставление природного и искусственного [ibid.: 244–245]. Пространственная точка зрения на пейзаж обозначена наречиями места outside , here and there, overhead . Снаружи, под окнами Дворца, солнце освещало (взгляд сверху вниз) ветви лип, пруд, фонтан в виде дельфина, клумбы: “Outside, under the Palace windows, the sun shone down on the meek boughs of the lime trees that waved about a green pool where a Dolphin bubbled heedlessly…”. Сквозь листву деревьев виднелись холмы хребта Веллен, вдоль которого мелькали великолепные автомобили, а небо над головой (взгляд снизу вверх) было таким бледным, что казалось присыпанным пудрой. Повествователь вовлекает читателя (you could see) в рассматривание пейзажа: “Here and there where the foliage dipped, you could see the blue-washed Wellen Range, hill over hill, along whose veins flashed the splendid automobiles. Overhead the sky was so pale that it appeared to have been powdered all over with poudre-de-riz”. Затем идет возвращение взгляда через окно в комнаты, где аромат цветущих деревьев соединяется с запахом китайских чайных сигарет: “The scent of Lime flower wafted through the open windows <…> and mingled pleasantly with Tea Cigarettes from China” [ibid.: 244].
Во втором абзаце в описании пейзажа, увиденного из окна, используется синтаксическая конструкция «кто бы догадался (кто бы мог предположить)» ( Who could have guessed ), что за завесой качающихся деревьев есть кованые ворота и охраняющие их вооруженные мечами Стражи в шляпах с перьями, а за ними – белый город с бесчисленными шпилями и золотыми куполами, театрами, кафе, улицами, откуда можно слышать звуки скрипок. В описание звуков далекого города вовлекается субъект-читатель (you might hear): “Who could have guessed that behind the swaying curtain of the trees, stood the curly wrought-iron gates, with prowling Sentinels in gay plumed hats, and sun-fired swords; while beyond, the white town, with its countless Spires and gold domed
Opera House, its Theatres and spacious streets, its Cafés, from whence, sometimes, on still nights, you might hear the sound of violins, trailing capriciously, like a riband, upon the wind” [ibid.: 245]. Ворота и город не видны, поэтому создается обманчивое впечатление, что везде царствует природа, и говорится об «обманчивой шири»: “What an elegant view! What deceptive expanse!”
Эта же конструкция Who could have guessed в экфрасисе дворцового ансамбля вводит пространственную игру взглядами, которая сопровождается «весельем» и разнообразием точек зрения – смотреть вниз из окон на тихо бурлящий среди камышей и лилий фонтан и, наоборот, глазеть в оконные стекла, находясь вне дворца: “Who could have guessed at such gaieties, looking down from the Palace windows at the quiet Dolphin, as it bubbled heedlessly, amid its reeds and lilies; staring foolishly up the Royal window-panes, indifferent to the swirling dance of Butterflies, or, to the occasional leaning of a Carp” [ibid.: 245]. Взгляд на окна снизу совпадает с точкой зрения неподвижной статуи Дельфина, безразличного к танцу бабочек и случайному прыжку карпа. Повтор восклицательных предложений “What an elegant view! What deceptive expanse!” обрамляет экфра-сис во втором абзаце. «Обманчивая ширь» – это многое, заключенное в малом, – напоминает пейзаж, изящно написанный на фарфоровой чашке или блюдце: “So much, contained in so little, suggested a landscape painted delicately upon a porcelain cup or saucer…” [Firbank 1981: 245]. Целый мир (“So much”) представлен в рисунке на блюдце (“in so little”) – «многое в малом».
Мотив многого, заключенного в малом, был сформулирован еще романтиком У. Блейком ( William Blake , 1757–1827):
To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour…
Блейк рассуждает более общими категориями, чем Фирбенк, – Мир, Небеса, Бесконечность, Вечность ( World, Heaven, Infinity, Eternity ). У романтика «в каждом единичном заключена частица всеобщего: как в зерне песка воплощена частица бесконечности, так в явлении отражена сущность» [Храповицкая, Коровин 2002: 152]. У Фирбенка же многое и малое соотносятся как природа и искусство через рисунок на блюдечке: so much и so little .
Экфрасис дворцового ансамбля из романа «Искусственная Принцесса» и мотив многого (природа) в малом (фарфоровое блюдце) напоминают о стихотворении М. Кузмина «Фузий в блюдечке». Но если Фирбенк завершает описание упоминанием о фарфоровой чашке или блюдце, то Кузмин уже в названии своего экфра-стического стихотворения указывает на чайное блюдечко:
Сквозь чайный пар я вижу гору Фузий, На желтом небе золотой вулкан.
Как блюдечко природу странно узит!
Но новый трепет мелкой рябью дан.
Как облаков продольных паутинки
Пронзает солнце с муравьиный глаз,
А птицы-рыбы, черные чаинки, Чертят лазури зыблемый топаз!
Весенний мир вместится в малом мире:
Запахнут миндали, затрубит рог,
И весь залив, хоть будь он вдвое шире, Фарфоровый обнимет ободок.
Но ветка неожиданной мимозы, Рассекши небеса, легла на них, – Так на страницах философской прозы Порою заблестит влюбленный стих [Кузмин 1990: 199].
Экфрасис представляет сопоставление природных реалий «весеннего мира» с рисунком на блюдце, который становится «малым миром». Это стихотворение программно, выступает «трактатом об искусстве»: искусство предстает «рамкой для жизни, чай сливается с изображением на блюдечке» [Марков 1994: 110]. В стихотворении «звучит давняя кузминская тема единства искусства и жизни, одновременно независимо существующей и замкнутой в искусстве» [Богомолов 1999]. Природный мир разнообразен колористически и пространственно – это гора Фузий, желтое небо и золотой вулкан, лазурь, облака, солнце, залив. Запахи миндаля и звуки рога расширяют ощущение «весеннего мира». Но это «обманчивая» ширь, потому что пейзаж нарисован на фарфоровом блюдечке. Искусство сужает природу, стараясь вместить большой мир в малый, ограничив его фарфоровым ободком.
Пейзаж у Кузмина – это нарисованная картина природы, в которой открывается широта и глубина мира, осознаваемая субъектом «я». Принцип видения в этом стихотворении организован, с одной стороны, «искусно сделанными оживающими картинками “эстетизированной”, в данном случае рисованной природы», с другой, – «эта искусственность, требующая границ, рамок <…> создает возможность выхода за эти рамки, нового ракурса, иных мыслей и далей…». Этот принцип проявится в созданном далее сборнике «Форель разбивает лед» [Цивьян 1990: 46]. Соотношение природы и искусства у Кузми- на отличается «оживлением», «новым трепетом» на рисунке: «новый трепет мелкой рябью дан» [Невзглядова 1988: 113].
Чудесный живой веер
В анализируемом нами фрагменте романа Фирбенка пейзаж предполагается выписанным не только на фарфоровой чашке и блюдце, но и на шелковом экране веера: “…a landscape painted delicately <…> upon the silken panel of a fan” [Firbank 1981: 245]. Рисунок на веере, как и рисунок на блюдце, вмещает в себя мир, который замкнут искусством. Смена точек зрения на фрагменты парка в экфрасисе дворцового ансамбля похожа на появление рисунка при раскрытии пластинок веера.
Еще один веер упоминается как деталь костюма Принцессы на торжественном вечере в честь ее Дня рождения. Представлен расписанный Ч. Кондером ( Charles Edward Conder , 1868– 1909) веер цвета красной розы: “Now and then she would hold up a rose-red fan, painted by Conder, slantwise across the night: it pleased her to watch whole planets gleam between the fragile sticks; she had a capacity for dreams” [ibid.: 272]. Рисунок на веере характеризуется словосочетанием “slantwise across the night” – рассечение (букв. наискосок) ночи. Между пластинками на экране веера мерцают планеты (“planets gleam”), которые уводят принцессу в мир мечты и воображения, как и героя Бердсли – Тангейзера.
Кондер и Бердсли не только одновременно жили в г. Дьеппе, где собирались художники, писатели и богема конца 1890-х, но и, вероятно, познакомились именно там. Оба она «были сильно увлечены искусством и нравами Франции XVIII в.»: творчество Бердсли повлияло на Кондера, который «был заинтригован замысловатостью и роскошью работы, скрытым смыслом некоторых рисунков» [Galbally 2022: 130–131]. Тематикой искусства Кондера, как и Бердсли, стали «галантные сцены, пасторали, парковые прогулки» XVIII в. [Вязова 2009: 159]. Кондер общался и с Д. С. Макколом ( Douglas Sutherland MacColl , 1896–1903) [Shaw 2019], которому С. Дягилев заказал статью о Бердсли для журнала «Мир искусства» (напечатана в № 7–10 за 1900 г.) [Бочкарева, Табункина 2010: 113].
Кинематографическая иллюстрация веера с изображением планет представлена французским режиссером, основоположником игрового направления мирового кинематографа Ж. Мелье-сом (Maries-Georges-Jean Méliè, 1861–1938) в короткометражном немом фильме «Чудесный живой веер» (“Le Merveilleux eventail vivant”, Франция, 1904). Действие картины начинается на фоне ландшафта регулярного парка, вероятно, Версаля. Королю вносят коробку с гигантским веером, которая раскрывается сначала сама, а затем раскрывается находящийся в ней веер. На лопастях веера представлены дамы, одетые в наряды разных эпох и культур (Средневековье, Восток, римская Античность). Вскоре очертания лопастей пропадают, семь героинь становятся планетами, а штифт – полусферой. Звезды на полусфере создают атмосферу Вселенной.
М. Кузмин интересовался оккультизмом, положением планет, составлением гороскопов. В финальном стихотворении его цикла «Северный веер» упоминается «подземных звезд закон» и объединяются представители четырех стихий и сторон света на экране веера:
Раскройся, веер, плавно вей,
Пусти все планки в ход.
Животные земли, огней, И воздуха, и вод.
Стихий четыре: север, юг,
И запад, и восток.
[Кузмин 1990: 302]
Исследователи отмечают в «Северном веере» слова из семантического поля кино и «мистический эффект», который основан на «изменении условий световой проекции» в сочетании с биографическими подробностями жизни поэта: «зажженный при свете дня фонарь и включенный “на улице” кинопроектор»; ландшафт на Надеждинской улице «как пространство с подчеркнутой глубинной перспективой» и «“кинематографичное” удаление» по улице [Ратгауз]. Вращение стихий на планках веера напоминает кружение планет в фильме Мельеса [Табункина 2013: 78–84].
В цикл «Северный веер» входят семь стихотворений. Каждым стихотворением цикл раскрывается, как веер. Причем слово «веер» появляется только в последнем, седьмом, стихотворении: «Раскройся, веер, плавно вей, / Пусти все планки в ход». В первом стихотворении цикла веер описан через материал (слоновая кость, страусовые перья, лак), составляющие детали (дощечки, планки), рисунок на экране (лес, лед, лебедь и т. д.), способ применения (Сомкни – не вей!):
Слоновой кости страус поет:
– Оледенелая Фелица! –
И лак, и лес, Виндзорский лед,
Китайский лебедь Бердсли снится.
Дощечек семь. Сомкни, не вей!
Не иней – букв совокупленье!
На пчельниках льняных полей
Голубоватое рожденье.
Эти детали и материалы – только внешний фон для символического содержания стихотворения, обозначенного прямой речью (страус поет), импрессионистической цепочкой перечислений (лак, лес, лед). Каждая строчка стихотворения и далее каждое стихотворение из цикла символически мыслится не только как створка веера с определенным сюжетом-рисунком, но и как ситуация из жизни лирического героя. Декоративный предмет связан с человеком, миром, природой и придает жизни театральность, мифоло-гичность. Такой «мифологизированной и театрализованной фигурой» становится ближайший друг Кузмина – Юрий Юркун [Шаталов 1996: 62], внешне похожий на Бердсли. Прямая отсылка к нему содержится в первом стихотворении цикла («Китайский лебедь Бердсли снится»), посвященного Юркуну.
Веер в стихотворениях цикла выступает как экфрастический объект и произведение искусства, которое вбирает в себя множество явных и скрытых реминисценций к творчеству Бердсли. Связь Бердсли с фигурой Кузмина прослеживается и через рисовальщика вееров Кондера, который, как и Бердсли, «сыграл существенную роль в сложении стиля Сомова» [Вязова 2009: 161]. К. Сомов показывал Кузмину рисунки XVIII в., «издания Beardsley» [Кузмин 2000: 236]. В одном из писем Кузмин перечисляет Сомова и Бердсли как любимых художников: «В живописи люблю старые миньятюры, Боттичелли, Бердслей, живопись XVIII в., прежде всего Клингера и Тома (но не Беклина и Штука), люблю Сомова и частью Бенуа, частью Феофи-лактова» (письмо В. В. Руслову от 8–9 декабря 1907 г.) [Кузмин 1992: 147].
Выводы
Проблема соотношения искусства и природы в произведениях О. Бердсли, Р. Фирбенка, М. Куз-мина рассматривается через призму культуры в экфрастическом представлении пейзажа как изображения на театральном занавесе, восточной шали, фарфоровом блюдце, шелковом экране веера. Фирбенк и Кузмин представляли разные национальные культуры, но оба следовали эстетической традиции Бердсли, модернистски продолжали его творческую манеру, членя реальность, изменяя материю так, что мир представал не фиксированным и находился в состоянии становления.
У Бердсли описание озера с лягушками как рисунка на театральном занавесе обусловлено восприятием субъекта, отражая его желания и страхи, что подчеркивает романтическую традицию декаданса. Игра разными точками зрения, парадоксальный ракурс видения создают экфра-сис дворцового ансамбля у Фирбенка. «Обманчивая ширь» пейзажа «сужается» до изображения на фарфоровой чашке, блюдце или шелковом экране веера. В отличие от Бердсли и Фир-бенка, у Кузмина название экфрастического стихотворения сразу указывает на чайное блюдечко, а экфрастичность описания обусловливает жанровую целостность произведения.
В романе Фирбенка створки веера, расписанного Ч. Кондером, в руках у принцессы пересекают ночное небо с мерцающими планетами, уводящими в мир мечты и воображения. Веер указывает на традицию Бердсли, чьими рисунками восхищался Кондер. Прямой ссылкой на Бердсли открывается цикл Кузмина «Северный веер», посвященный Ю. Юркуну. Каждое стихотворение – как створка веера, но если в первом упоминаются только материал и детали, то в последнем дается описание движения створок веера как четырех стихий и четырех сторон света, напоминающих фильм Ж. Мельеса «Чудесный живой веер». Превращение веера в этом фильме заканчивается вращением планет на звездном небе, как на веере у Фирбенка. Таким образом, экфрасис в произведениях Фирбенка и Кузмина, эстетически восходящий к Бердсли, отличается сменой точек зрения, обращением к кинематографу и реалиям XX в.
Примечание
-
1 Статья написана на основе доклада на Международной научно-практической конференции «Компаративные филологические исследования в эпоху глобализации» (Конвент УГИ – 2022) в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 18– 20 апреля 2022 г.
Список литературы Пейзаж на театральном занавесе, чайном блюдце и экране веера: экфрасис в произведениях О. Бердсли, Р. Фирбенка, М. Кузмина
- Багно В. Е., Сухарев С. Л. Михаил Кузмин -переводчик // ХХ век. Двадцатые годы: Из истории международных связей русской литературы: сб. ст. СПб.: Наука, 2006. С. 147-183. URL: https://proza.ru/2010/03/28/862 (дата обращения: 23.05.2011).
- Бердслей О. Избранные рисунки. Венера и Тангейзер. Застольная болтовня. Письма / пер. М. Ликиардопуло. Стихи / пер. М. Кузмина; Росс Р. Обри Бердслей: монография; Симонс А. О. Бердслей / пер. М. Ликиардопуло. Статьи о творчестве художника. Иконография. Библиография. Примечания. М.: Скорпион, 1912. 199 с.
- Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск: Водолей, 1999. URL: https://royal-
- lib.com/book/bogomolov_nikolay/russkaya_literatur a_pervoy_treti_xx_veka.html (дата обращения: 31.01.2022).
- Бочкарева Н. С., Табункина И. А. Живописный тезаурус Обри Бердсли и Сергея Дягилева // С. П. Дягилев и современная культура: материалы междунар. симп. «VIII Дягилевские чтения» (Пермь, 15-18 мая 2009 г.). Пермь, 2010. С. 108-122.
- Бочкарева Н. С., Табункина И. А. Реминисценция О. Бердсли в экфрастическом цикле М. Кузмина «Северный веер» // Экфрастические жанры в классической и современной литературе: кол. монография / под общ. ред. Н. С. Бочкаревой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. C.74-93.
- Вязова Е. Гипноз англомании. Англия и «английское» в русской культуре рубежа XIX-XX веков. М.: НЛО, 2009. 576 с.
- Кузмин М. А. Дневник 1905-1907 / предисл., подгот. текста и ком. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. 608 с.
- Кузмин М. А. Дневник 1908-1915 / подгот. текста и ком. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. 864 с.
- Кузмин М. А. Дневник 1934 года / под ред., со вступ. ст. и прим. Глеба Морева. СПБ.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 413 с.
- Кузмин М. А. Избранные произведения / сост., подгот. текста, вступ. ст., ком. А. В. Лаврова, Р. Д. Тименчика. Л.: Худож. лит., 1990. 576 с.
- Кузмин М. А. Собрание стихов = Gesammelte Gedichte; herausgegeben eingeleitet und kommentiert von John E. Malmstad und Vladimir Markov. München: Wilhelm Fink, 1977-1978. (Центрифуга = Centrifuga: Russian reprintings and printings; Vol. 12). Vol. 3: Несобранное и неопубликованное. Приложения. Примечания. Статьи о Кузмине = Verstreut erschienene sowie neu gedruckte Gedichte. Anhang, Kommentar, Artikel über Kuz-min. 1977. 761 с.
- Кузмин М. А. Стихотворения. Письма В. В. Рус-лову // НЛО. 1992. № 1. С. 137-151.
- Марков В. Ф. О свободе в поэзии: статьи, эссе, разное. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. 368 с.
- Невзглядова Е. «Дух мелочей, прелестных и воздушных» // Аврора. 1988. № 1. С. 111-120.
- Новокрещенных И. А. Интерпретация образа Саломеи Рональдом Фирбенком // Мировая литература в контексте культуры. 2022а. Вып. 15(21). С. 118-126. doi 10.17072/2304-909X-2022-15-118-126
- Новокрещенных И. А. «Искусственная принцесса» Рональда Фирбенка как стилизация «Под Холмом» Обри Бердсли // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 20226. Т. 7, № 4. С. 83-105. doi 10.18522/2415-8852-2022-483-105
- Ратгауз М. Г. Кузмин - кинозритель // Киноведческие записки. 1992. № 13. С. 52-82. URL: http://svasiliev2007.narod.ru/business.html (дата обращения: 22.01.2023).
- Табункина И. А. Литературные связи М. А. Кузмина с английской культурой в стихотворении «Слоновой кости страус поет...» (1925) // Мировая литература в контексте культуры. 2013. Вып. 2(8). C. 78-84.
- Табункина И. А. Рецепция Обри Бердсли в стихотворении М. Кузмина «Приглашение» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. Вып. 2(18). С. 121-130.
- Табункина И. А. «Три музыканта» О. Бердсли и «Тени косыми углами.» М. А. Кузмина: сопоставительный анализ стихотворений // Мировая литература в контексте культуры. 2012а. Вып. 1(7). С. 210-220.
- Табункина И. А. Стихотворение М. Кузмина «Fides Apostolika» (1921) в контексте литературного и графического наследия Обри Бердсли // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013a. Вып. 3(23). С. 120-129.
- Табункина И. А. «The Ballad of a Barber» О. Бердсли и «Баллада о цирюльнике» М. Кузмина: сравнительный анализ // Зарубежная литература: проблемы изучения и преподавания: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 5 / под ред. О. Ю. Полякова. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012б. С.99-106.
- Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х -начала 1920-х годов: от декаданса к авангарду. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2002. 151 с.
- Фирбенкиана // Фирбенк Р. Искусственная Принцесса / пер. В. Купермана. Тверь: Kolonna Publications, Митин журнал, 2004. С. 164-197.
- Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм. М.: Флинта: Наука, 2002. 408 с.
- Цивьян Т. В. К анализу цикла Кузмина «Фузий в блюдечке» // Михаил Кузмин и русская культура XX века: тез. и материалы конф. (1517 мая 1990 г. Л.: Совет по истории мировой культуры АН СССР, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 1990. С. 43-46.
- Шаталов А. Предмет влюбленных междометий. Ю. Юркун и М. Кузмин - к истории литературных отношений // Вопросы литературы. 1996. № 6. C. 58-109.
- Beardsley A. Under the Hill // Wilde O. / Beards-ley A. Salome / Under the Hill. L.: Creation Books, 1996. P.65-123.
- Edwards R. D. Ronald Firbank and the legacy of camp modernism. PhD thesis, Birkbeck, University of London. 2021. URL: https://eprints.bbk.ac.uk/id/ eprint/47553 (дата обращения: 01.08.2022).
- Firbank R. The Artificial Princess // Firbank R. Five Novels / With an introd. by Osbert Sitwell. New York, 1981. P. 241-287.
- Galbally А. Charles Conder: The Last Bohemian. Carlton South, Vic.: Miegunyah Press: Melbourne University Press, 2002. XVI. 311 p.
- Raby P. Aubrey Beardsley and the Nineties. L.: London Houser, Great Eastern Wharf Parkgate Road, 1998. 117 p.
- Severi R. Tecnica narrativa e tradizione letteraria in "The Artificial Princess" di Ronald Firbank // Severi R. Oscar Wilde & Company. Sinestesie Fin de Secle. Bologna, Patron, 2001. P. 55-66.
- Shaw S. "Conder, Charles," Y90s Biographies, 2013 // Yellow Nineties 2.0 / ed. by Lorraine Janzen Kooistra. Ryerson University Centre for Digital Humanities, 2019. URL: https://1890s.ca/conder_bio/ (дата обращения: 03.02.2023).
- Weintraub S. Beardsley. A biography. N.Y.: Braziller, 1967. 293 p.