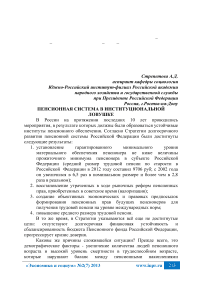Пенсионная система в институциональной ловушке
Автор: Стрепетова А.Д.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-3 (7), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140105468
IDR: 140105468
Текст статьи Пенсионная система в институциональной ловушке
В России на протяжении последних 10 лет проводились мероприятия, в результате которых должны были образоваться устойчивые институты пенсионного обеспечения. Согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации были достигнуты следующие результаты:
-
1. установление гарантированного минимального уровня
материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (средний размер трудовой пенсии по старости в Российской Федерации в 2012 году составил 9706 руб; с 2002 года он увеличился в 6,5 раз в номинальном размере и более чем в 2,8 раза в реальном);
-
2. восстановление утраченных в ходе рыночных реформ пенсионных прав, приобретенных в советское время (валоризация);
-
3. создание объективных экономических и правовых предпосылок формирования пенсионных прав будущих пенсионеров для получения трудовой пенсии на уровне международных норм;
-
4. повышение среднего размера трудовой пенсии.
В то же время, в Стратегии указываются всё еще не достигнутые цели: отсутствуют долгосрочная финансовая устойчивость и сбалансированность бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, прогрессирует кризис доверия.
Каковы же причины сложившейся ситуации? Прежде всего, это демографические факторы - увеличение количества людей пенсионного возраста и высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте, которые нарушают баланс между пенсионными накоплениями экономически активного населения и пенсионными выплатами пожилым гражданам. Усугубляет ситуацию наличие таких факторов, как значительное количество рабочих мест, предусматривающих досрочное пенсионное обеспечение, и наличие скрытой заработной платы.
Все эти факторы – результат функционирования неэффективных устойчивых институтов, которые Виктор Меерович Полтерович назвал «институциональными ловушками».
Институциональное развитие, как и технологическое, включает две компоненты - инновационную, порождаемую в результате естественного отбора либо конструирования, и имитационную, возникающую вследствие заимствования (трансплантации) институтов из других институциональных систем[1].
По мнению В.М. Полтеровича, неудачи многих реформ проистекают из стремления заимствовать передовые институты из более развитых институциональных систем прежде, чем сформируются условия для их нормального функционирования. С этим сложно не согласиться, поскольку в практике реформирования пенсионной системы России такая ситуация произошла с негосударственными пенсионными фондами, когда в начале 90-х годов после признания пенсионной системы Чили, построенной на негосударственных пенсионных фондах, лучшей в мире был принят Указ Президента РФ «О негосударственных пенсионных фондах».
Без малого шесть лет фонды просуществовали в правовом вакууме, аккумулируя довольно большие средства без адекватной защиты прав будущих пенсионеров. Закон «О негосударственных пенсионных фондах» был принят 7 мая 1998 г.[2]. Учитывая текущее развитие отрасли и положений законодательных актов, применяемых в отношении деятельности НПФ, можно сделать вывод, что при существенном падении стоимости финансовых инструментов вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры на финансовых рынках, большая часть из существующих НПФ не сможет соответствовать требованиям действующего законодательства. Данное обстоятельство ставит под сомнение эффективность сформировавшейся системы законодательного регулирования деятельности НПФ [3].
Существуют и другие неэффективные институты пенсионной системы России. Например, основной институт, которому уделяется первостепенное внимание на протяжении всего периода реформ – базовая пенсия.
Базовая пенсия устанавливается в одинаковом для всех пенсионеров размере. По своему содержанию она представляет собой социальную помощь (как по размеру, так и по функции социальной защиты), а ее финансовый механизм представляет форму государственного перераспределения (в неоправданно больших размерах) финансовых средств, принадлежащих населению [4]. В других странах государство перераспределяет средства налоговой системы, поэтому направляемые 26%, исчисленных от заработной платы работников, являются фактически вторым (дополнительным) подоходным налогом (первый равняется 13%), что означает уплату работниками 33% подоходного налога на заработную плату.
Например, в Великобритании или в Японии до недавнего времени существовал институт базовых пенсий, но его финансовые механизмы были построены не только на фиксированной величине выплат, но и на фиксированной величине взносов, а значит, соблюдался (в отличие от России) принцип социальной справедливости [5]. Такая система уплаты взносов способствует формированию еще одной «институциональной ловушки» - низкая эффективность пенсионной и налоговой систем формирует мотивационные установки у работодателей и работников к утаиванию части заработной платы.
Для сравнения: в США при уплате 12% от заработной платы работник получает пенсию в размере 40-45% от средней заработной платы. Это яркий пример эффективности распоряжения страховыми взносами населения. Поэтому многие специалисты отмечают избыточность финансовых ресурсов для базовой части пенсии (более чем в два раза) и, напротив, нехватки для страховой части пенсии [6].
В российской практике реформирования пенсионной системы есть другой пример «ловушки». В начале 2000-х годов был принят ряд пенсионных законов, определивший законодательную базу будущей реформы. После чего началось ее практическое воплощение.
В 2003 г. развернулись дебаты между ПФР и управляющими компаниями, рассчитывавшими привлечь пенсионные накопления, по поводу того, как должны распределяться роли в управлении ими. В итоге только около 5% всех владельцев накопительных пенсионных счетов согласились отдать свои деньги в управление частным компаниям, остальные средства ПФР были переданы в управление государственному Внешэкономбанку. И это при том, что государственные учреждения вправе вкладывать средства только в низкодоходные государственные бумаги, что при нынешнем уровне инфляции в России принесет прямые потери будущим пенсионерам. Тем не менее, активность всех участников процесса, казалось, обещала быстрый прогресс. Но во всех этих дискуссиях, в том числе в принятом пенсионном законодательстве, не учитывались некоторые обстоятельства: 1) возможность изменения доходной базы ПФР (с 2005 г. ЕСН снизился с 35,7 до 26% фонда заработной платы, а с учетом применения регрессивной шкалы — по факту примерно до 24%); 2) возможность изменения пенсионного возраста, о чем перед выборами и думать считалось неприличным; 3) необходимость заметного вклада граждан в собственные пенсионные накопления (наряду с работодателями и государством, как в других странах), без чего формирование пенсионных накоплений в мало-мальски приемлемых суммах вряд ли было возможным, либо становилось чересчур обременительным для экономики. Иными словами, предполагалось, что граждане с 1953 по 1967 годы рождения будут вносить на свои счета 2% от зарплаты, а лица, родившиеся после 1967 г., — 6%. Когда вышеуказанные факты пришлось принять во внимание, группа лиц 1953—1967 годов рождения была исключена из программы пенсионных накоплений, вследствие чего вся реформа оказалась под вопросом. В мае 2004 г. на объединенной коллегии Минэкономразвития и Минфина России было сделано важное заявление о «мягком» варианте повышения пенсионного возраста и о перечислении наемными работниками на свои пенсионные счета средств в размере 4% от заработка. Но затем процесс монетизации льгот, вызвавший волну протестных настроений, парализовал пенсионную реформу, как и ряд других возможных институциональных преобразований, создав тем самым негативный прецедент, усиливающий недоверие населения и во многом сводящий на нет результаты предшествующей работы [7].
Таким образом, основная задача реформирования - проблема выбора перспективной траектории–последовательности институтов, удовлетворяющей определенным требованиям и потому имеющей высокие шансы на успех. Для описания множества возможных траекторий необходимо задать институциональное пространство, в котором происходит движение [8]. Как видно из приведенных примеров, создание такого пространства, в котором бы институты функционировали эффективно, представляет собой сложность, как для исследователей, так и для экономистов, правоведов и юристов.
В конце восьмидесятых – начале девяностых годов прошлого века шли интенсивные дебаты по поводу того, следует ли догоняющим странам, реформируя свои институты, использовать «шоковую терапию» или «градуалистский подход». В рамках развиваемой ниже точки зрения на реформы очевидно, что шоковая терапия, как бы ни понимать этот термин, - стратегия, порождающая очень частный вид институциональных траекторий, который может оказаться приемлемым лишь при весьма специальных обстоятельствах [9].
Что касается градуализма, то его содержательная трактовка как раз и приводит к упомянутой выше проблеме выбора. В контексте перехода к рынку эта проблема напоминает известную задачу оптимального управления с закрепленными концами: начальное состояние институтов определено, а конечное представляет собой желаемую совокупность институтов современного развитого рынка. Вопрос мог бы состоять в том, какие промежуточные институты следует создавать в каждый момент времени, чтобы максимизировать целевой функционал [10].
Однако, очевидно, что в процессе реформирования пенсионной системы или какой-либо другой системы нельзя пренебрегать основными положениями институциональной теории, чтобы избежать создания новых «институциональных ловушек».
Во-первых, институты пенсионной системы должны соответствовать тому общественному укладу, который господствует в современном обществе, другим институтам и демографическому состоянию населения, историческим и культурным традициям страны.
Во-вторых, поскольку пенсионные институты являются правовыми институтами, которые регулируют длительные отношения, их правовое поле должно быть достаточно устойчивым и возникновение правовых вакуумов является неприемлемым.
В-третьих, необходимо обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы за счет новых источников финансирования пенсий.
Несмотря на то, что российская правовая база всё ещё весьма несовершенна, а экономические механизмы слабо проработаны, сводить реформы к этим проблемам крайне опасно. В то же время нельзя рассчитывать и на спонтанную самоорганизацию институтов в условиях рыночной экономики, поэтому для переустройства и усовершенствования пенсионной системы необходимо рационально отобрать наиболее эффективные институциональные образцы с учетом социальнокультурных традиций российского общества.