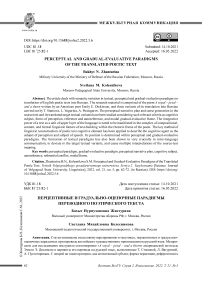Перцептивные и градуально-оценочные парадигмы переводного поэтического текста
Автор: Жантурина Бахыт Нурмухановна, Колесникова Светлана Михайловна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена смысловому варьированию в текстовых, перцептивных и градуально-оценочных парадигмах при переводе английского художественного произведения на русский язык. Материалом для исследования послужило стихотворение «A sepal - petal - and a thorn» американской поэтессы Эмили Э. Дикинсон и варианты его перевода на русский язык, выполненные Т. Стамовой, Л. Вагуриной, А. Пустогаровым. С опорой на такие критерии, как когнитивный субъект, форма перцепции, референтность и автореферентность, модальная градуально-оценочная рамка, нами рассмотрены перцептивный повествовательный план и генерация смысла в исходном и переводном текстах. Показано, что интегративная сила текста как единицы высшего уровня языка проявляется в комплексе композиционных, содержательных и формально-языковых факторов текстообразования в риторических границах стиха. С применением метода лингвистической реконструкции когнитивной составляющей художественного текста описан когнитивный субъект как субъект восприятия и субъект речи, позиция которого определяется в текстовых перцептивных и градуально-оценочных парадигмах. Установлено, что формирование текстовых парадигм протекает по-разному при межъязыковом функционировании поэтического текста, вызывает девиации в переводных текстах и влияет на множественность интерпретаций исходного текста.
Перцептивная парадигма, градуально-оценочная парадигма, перцептивный повествовательный план, когнитивный субъект, автореферентность, референциальный конфликт, модальная рамка
Короткий адрес: https://sciup.org/149141044
IDR: 149141044 | УДК: 81.18 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.5.6
Текст научной статьи Перцептивные и градуально-оценочные парадигмы переводного поэтического текста
DOI:
В современных лингвистических исследованиях активно изучаются сегментные языковые единицы, интегрированные в супрасег-ментную единицу – текст. В настоящее время в текстолингвистике на материале русского языка оформилось направление, которое успешно сочетает текстоцентрический и антропоцентрический подходы во внутриязыковых исследованиях [Колесникова, Бурская, 2021; Мельник, 2014], представляя смысловые характеристики отдельных текстовых компонентов и описывая «языковые и психолингвистические способы выражения авторской репрезентации... образов, “идеальных объектов”, их свойств, типов отношений и характера действий, поступков персонажей» [Колесникова и др., 2021, с. 49].
В межъязыковых исследованиях и теории перевода традиционно считается, что переводной текст является вторичным относительно исходного текста – оригинала и не связан с процессами текстопорождения. При этом высказывается мнение, что исходный текст ограничивает возможности создания текста на другом языке, влияет на порождение смысла и выбор соответствующих репрезентации оригинала языковых единиц [Тюленев, 2004]. Такой теоретический взгляд вполне оправдан с дидактических позиций, поскольку концентрируется на линейном развертывании смысла в тексте, но полностью игнорирует нелинейное парадигматическое движение смысла, сопровождающееся интегрированием языковых единиц в текст. Переводные поэтические тексты при сопоставлении с текстом-источником, как правило, характеризуются определенной свободой интерпретации, содержательным и формальным варьированием.
Целью нашего исследования стало описание варьирования смысла и его организации по разным основаниям в текстовые парадигмы при межъязыковом функционировании текста. Статья посвящена изучению генерации нового смысла в переводном поэтическом тексте как динамической системе, открытой для разных интерпретаций на другом языке. Множественность интерпретаций с позиции читателя и выработка нового смысла соотносятся с нелинейными связями означающих.
Материал и методы
Материалом для исследования послужило стихотворение № 19 Эмили Э. Дикинсон « A sepal – petal – and a thorn », рассмотренное нами в качестве исходного текста для трех переводов на русский язык, выполненных Т. Стамовой, Л. Вагуриной, А. Пустогаровым.
Природа поэтического текста позволяет рассматривать композицию в двух деятельностных модусах – в модусе видения (seeing) и модусе говорения (saying) [Genette, 1972]. В каждом из них разные субъекты, точка зрения каждого субъекта в наррации и его функция. Наблюдатель / Observer, «наблюдая» посредством органов чувств и перцептивных систем, обладает видением или иным другим чувственным модусом, а субъект речи обладает «голосом» и вербализирует когнитивный опыт наблюдателя. В. Шмид справедливо полагает, что перцептивный план повествования является одним из композиционных слоев художественного текста и равноправно существует наряду с пространственным, идеологическим, временным и языковым планами, уточняя, что именно перцептивный план соотносится с познавательной (когнитивной) деятельностью человека (см.: [Шмид, 2008; Жантурина, 2021]).
Под термином «перцепция» в русле современного когнитивного подхода к гуманитарному знанию понимается восприятие и интерпретация человеком информации об окружающей среде при использовании органов чувств и перцептивных систем. Перцептивный (психический и физиологический) субстрат в организации текста, как мы полагаем, можно считать также и его когнитивной составляющей, важной характеристикой когнитивной структуры, связанной с конкретными языковыми воплощениями. А.А. Кибрик отмечает, что за разнообразием языковых структур «скрывается достаточно жесткая семиотическая логика, ограничивающая варьирование наблюдаемой языковой формы и устанавливающая истинные связи между языковыми формами и когнитивными структурами» [Кибрик, 2015, с. 33].
При исследовании семантико-смысловых отношений в тексте мы ориентировались как на линейное синтагматическое развертывание смысла [Чернейко, 2017], так и на его парадигматическую вертикальную организацию. В перцептивный повествовательный план мы включали как собственно перцептивные, так и градуально-оценочные текстовые парадигмы.
При этом мы исходили из того, что текст как «единство высшего ранга, как структурно-семантическое единство, отличное от простой последовательности предложений, способен оказывать определенное воздействие на входящие в его состав элементы» [Тураева, 2009, с. 23]. Текст как интегративная уровневая единица языка создается при взаимодействии сегментных языковых уровней, реализуя определенные функции на базе разных единиц языка. Семантический анализ слова и словосочетания по методике компонентного анализа и анализа словарных дефиниций по- зволяет выявить функциональную нагружен-ность единиц лексического уровня, анализ предложения по семантико-синтаксической методике проясняет семантико-смысловые функции актантов, а метод лингвистической реконструкции, предложенный А.А. Кибриком, позволяет представить семантическое пространство текста в отношениях значения и смысла.
Результаты и обсуждение
Рассмотрим перцептивный план повествования исходного поэтического текста, в котором участвует когнитивный субъект высказывания.
A Sepal – Petal – and a Thorn
Upon a Common Summer’s Morn –
A Flask of Dew – A Bee or two –
A Breeze – a caper in the trees –
And I’m a Rose (Дикинсон, 2017, с. 56).
Короткий поэтический текст из 5 строк с мужской рифмой в строках 1 и 2: thorn – morn , с внутренней рифмой в строке 4: breeze – trees , с аллитерацией на звуки [p], [l]: se p a l – p eta l , со слоговой схемой 8-8-8-8-4 предстает в значимых для понимания звукокомплек-сах. По сути, текст состоит из одной строфы, выраженной распространенным предложением, и включает перечисление именных структур, которые предшествуют предикативному ядру предложения I’m a Rose .
Объективное содержание заключается в конкретно-наглядном описании речевой ситуации с главными компонентами агента-субъекта I и испытываемого им состояния am a rose . С одной стороны, субъект восприятия (перцептор) регистрирует свои впечатления и мысленно отображает ситуацию в составе некоего когнитивного содержания (перцептов). С другой стороны, субъект речи (повествователь) словесно организует опыт перцептора, вербализуя его впечатления в пер-цептивах восприятия. Совмещение перцепто-ра и субъекта речи назовем когнитивным субъектом стиха, формирующим свой мир восприятия и речи.
Позиция говорящего субъекта, выраженного в стихе посредством личного местоимения I (я), обозначена как внешняя точка зре- ния перцептора и совпадает с точкой зрения говорящего, с внутренней точкой зрения персонажа, которым является все то же лицо I (я). Позиция когнитивного субъекта излагается с двух точек зрения: познающего и говорящего субъектов. Вместе с тем агент-субъект восприятия участвует в реализации метафорического «двойного» смысла в речи говорящего: лицо отождествляет себя с розой, уравнивая антропологические и «растительные» смыслы через персонифицирующую силу уподобления природных объектов живому существу. Метафорическое тождество в предикативном ядре сопровождается процедурой, растворяющей отличительные признаки и унифицирующей общее в двух разных объектах. Формула «жизнь есть познание» применена к растению, «знание жизни» которого, в отличие от человека, в норме непроизносимо и имплицитно.
Экзистенциальные смыслы существования представлены ощущениями субъекта восприятия по субъектно-объектной модели чувственного восприятия: субъект перцепции, перцептор, находится под воздействием объектов восприятия, перцептивов или содержания восприятия; информация от перцептивных систем человека оказывается субстратом для формирования когнитивного знака [Жантурина, Колесникова, 2020].
Субъект речи в стихе, он же субъект вербального воспроизведения перцептивного состояния, совпадает с перцептором, образуя голос повествователя в наррации; личное местоимение в I’m a rose (Я (есть) роза, цветок) на момент речи становится центром текстового семантического пространства, варьирующегося в зависимости от точки зрения говорящего, открытого разным интерпретациям благодаря метафоре отождествления и образующего текстовую парадигму по основанию «когнитивный субъект».
Вполне очевидно, что референтная ситуация стиха сконструирована перцептором, организующим мир своего активного опыта восприятия через набор денотатов в референтах перцептивов. Характер референции художественного текста определяется самим текстом, так как «референт... находится внутри текста, а не за его пределами» [Чернейко, 2017, с. 12]. «Парадокс поэтической референции», по мнению О.Г. Ревзиной, состоит в том, что «не имея первичной референциальной соотнесенности, стихотворный текст наделен способностью к потенциально неограниченным множественным неязыковым соотнесениям» (цит. по: [Чернейко, 2017, с. 13]). Поэтическое восприятие организовано самим текстом по логическим основаниям познания реального мира, а также распределении человеком перцептивной и градуально-оценочной информации.
Помимо когнитивного субъекта, перцептивная парадигма доступна осмыслению через широкозначный глагол be , который устанавливает тождество субъекта I (я) и именной части a rose (цветок, роза): все, что приписано розе, характеризует и говорящего, и перцептора, и объекты восприятия (перцепти-вы). Ядром перцептивной парадигмы оказывается семантическая организация нелинейных связей в подлежащно-сказуемостной группе по основанию «когнитивный субъект». В силу автореферентности поэтического текста совмещение субъекта восприятия и субъекта речи может происходить по «законам реальности», когда свойства восприятия и речь приписаны человеку, или же по «законам мифологизированной реальности», в которой человеческие свойства перцепции и речи приписаны цветку с помощью персонифицирующего отождествления.
Форма перцепции устанавливается в релевантном денотативном пространстве и той части текстовой парадигмы, которая прослеживается в именных дескрипциях внутренних и внешних телесных ощущений субъекта. Перцептивный компонент – указание на пер-цептивы зрения при номинации в субстанти-вах petal , sepal , thorn – открывает «оптическое окно», указание на перцептив слуха в bee – «акустическое окно», а указание на перцепти-вы тактильного ощущения dew , breeze , caper соответствует перцептам ощущения температуры воды, силы ветра и вибрации при движении во внешнем мире. Этот семантический компонент, несомненно, содержится в значениях сенсорных имен существительных и вычленяется в семантической структуре слова при референциальном подходе к значению .
Широчайший глагольный смысл «быть» в именной части составного именного сказуемого конкретизирован через референцию и автореференцию к «соматизмам», частям внутренней структуры референта-цветка: sepal, petal, thorn. Общим основанием становится представление об их внутренней структуре, своего рода «анатомии». Остается неопределенной референция субъекта: все перечисляемые перцептивы относятся к зрительной, слуховой и гаптической системам восприятия человека, но в конструкции синтаксического перечисления неясно, кто или что вербализует свои ощущения: соотносится ли I (я) с голосом внешнего наблюдателя (человека) или же с внутренним голосом цветка, персонифицированного тождеством когнитивного субъекта и перцептива восприятия я – цветок. Неоднозначность субъектной референции не снимается и имплицитными глубинными структурами *I have a petal, sepal, thorn; I (can) feel a flask of dew, a bee or two, breeze and caper in the trees.
Предикат существования be дополнен, таким образом, скрытыми предикатами обладания have и тактильного ощущения feel . Перцептивы восприятия автореферентны, соотносятся с зоной гаптической системы человека, но в силу отождествления могут принадлежать и цветку, как бы составляя сходную перцептивную систему неживого растительного объекта. Перцепция тактильности в этом тексте следующая: ощущения внешней температуры росы у цветка ( dew ), вибрации от легкого движения внешнего объекта-ветерка на цветке ( bee ) при воздействии природной стихии на цветок ( breeze ) и пространственные перемещения, доступные в форме вибраций, рядом с цветком ( caper in the trees ) в локативе и характеристике среды обитания цветка. Типичный для человека порядок восприятия через перцепты можно приписать содержанию восприятия человека, зрительным перцептивам внешнего наблюдателя, но реализуемым в иной перцептивной мифологизированной реальности, в функциональном круге восприятия цветка.
Границы восприятия цветка обозначены и референциальным выбором говорящего при номинации в денотативном пространстве стиха. В целом такой выбор направлен на идентификацию объектов-референтов (перцепти-вов), активных и актуальных на момент речи в восприятии перцептора и воспроизводимых автореферентно внутренним субъектом речи в данном тексте.
Исключение составляет референциальный конфликт (о нем см.: [Федорова, 2015]), неразрешаемый здесь в риторических границах английского стиха. На базе именной дескрипции caper in the trees с непосредственно составляющими N caper + Prep Phrase in the trees [Prep + N Phrase (Det + N)] референциально не уточнено движение в кронах деревьев. Двусмысленность возникает благодаря существительному caper («a playful leap or hop» (Webster’s, 2020); прыжок, шалость, проказа), в значении которого в норме присутствует указание на агента – производителя действия. Неопределенность выбора субъекта действия при «пустой» валентности агенса в номинативной конструкции перечисления создает конструкцию двойного синтаксиса и препятствует однозначной идентификации референта: непонятно, кто прыгает на деревьях (птицы?) или что вызывает движение листвы и деревьев (ветер?). Экспликация каузальной причинно-следственной связи не позволяет понять, то ли листья деревьев шалят на ветру, то ли птицы прыгают и проказничают в ветвях. Идентификация референта в локативе затруднена, референциальный выбор субъекта действия не уточнен (ветер в листьях или птицы) и не снимается в референциальной рамке поэтического текста, совпадающей с его риторическими границами.
Коммуникативная модальная рамка высказывания определяется повествовательным типом предложения, в котором реализованы скрытые прагматические смыслы уверенности субъекта речи в том, что он утверждает: «несомненно, я цветок». Оценочная модальность привязана к временнóму плану повествования a common summer’s morn : признаковая семантика прилагательного common («occurring frequently or habitually, usual» (Webster’s, 2020)) содержит нейтральную оценку – заурядное событие. В исходном для перевода английском тексте не заложен потенциальный модальный градуально-оценочный смысл.
Многокомпонентность градуального суждения (об этом подробно см.: [Колесникова, 2016; 2019]) связана с функционированием различных структур градуальных высказываний, их ролью в организации поэтического тек- ста. Семантика компонентов градуирования формирует модальную рамку, которая устанавливает объекты высказывания с точки зрения нормы, стандарта. Градуальная модальная рамка представляет собой мерительное отношение говорящего субъекта, а логика градуирования определяется целостным содержанием высказывания (модальной рамкой). Формула градуирования: S → А > В – В < А, где S – субъект градуирования; А, В – объект(-ы) градуирования; >, < – мерительное отношение высокой или низкой степени проявления признака по отношению к норме. Ср. в стихе смыслы прилагательного common: ‘обычный’, ‘нормальный’, ‘стандартный’. Норма соответствует логико-психологической категории основания градуирования, логико-лингвистическому понятию шкалы градаций, стереотипу, стандарту градуирования. Нейтральную точку выражают слова, соответствующие норме. См.: common summer ’s morn (обычный, привычный рассвет) = «такой, как всегда» в хронотопе события английского текста.
Градуальные характеристики охватывают качественно-количественные смыслы (признаки, субстанции и действия). В поэтической речи градуальные смыслы задаются и мерительным отношением во внеязыковой действительности. Мерительное отношение выступает в качестве промежуточного звена, связывающего комплекс градуальных языковых средств и их системно-структурную организацию с мыслительным содержанием градуального суждения. Разноуровневые языковые средства (прилагательные, глаголы, наречия, слова категории состояния, оценочные существительные и др.) используются Я - говорящим для выражения качественно характеризующих значений, их разновидностей и вариантов, содержащихся в едином семантическом комплексе поэтического текста.
Парадигматические и синтагматические связи взаимодействуют в поэтическом тексте и в процессах формирования и выражения модальных градуально-оценочных отношений. Например, градуальные значения как семантическая парадигма представлены значениями слов больший / меньший, больше / меньше. Синтагматические связи компонентов градуированного высказывания формируют коннотативные компоненты значения у исконно неизменяемых слов.
Система высказываний в поэтическом тексте представляет семантико-грамматическую парадигму с градуальной доминантой, дающей возможность выражать различные качественно характеризующие смыслы путем акцентирования значения лингвистическими и экстралингвистическими средствами. Такая парадигма объединяет стилистически разобщенные единицы, градуальная семантика связана с субъективной оценкой [Колесникова, 2019] . Градуальный предикат находит свое место в семантической модели «градуирующий субъект – градуальный предикат – градуируемый объект».
Покажем текстовые парадигмы в русских переводных поэтических вариантах, опираясь на перцептивные и градуально-оценочные парадигмы и принимая во внимание факторы когнитивного субъекта, автореферент-ности, форм перцепции, референциального конфликта и градуальной модальной рамки.
Русский переводной текст выполнен Т. Стамовой (далее – ПТ1):
Шип, чашелистик, лепесток, Обычнейший рассвет.
Пчела иль две, росы глоток,
Бриз, шорох в листьях, птичий свист И я – цветок! (Дикинсон, 2010, с. 57).
Переводной текст остается пятистишием с рифмой в нечетных строках 1, 3, 5: лепест ок – глот ок – цвет ок . Переводчиком также сохранено функциональное фонетическое выделение в составе аллитерации, которое в русском тексте опирается на звуки [ш] ( ш ип – ча ш елистик – обычней ш ий – ш орох ) и [ч] ( ч ашелистик – обы ч нейший – п ч ела – пти ч ий ). Градационные ряды при этом организованы по принципу нисходящей и восходящей градации и используются для актуализации градуально-оценочного смысла. Аналогично исходному тексту (далее – ИТ), познавательная деятельность перцептора в ПТ1 представлена в модусах чувственного восприятия человека, вербализованных в синтаксических структурах перечисления, в идентифицирующей метафоре олицетворения и релевантном денотативном пространстве, образованном по
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ принципу регистрации перцептов при восприятии. Общность ПТ1 с исходным английским текстом обнаруживается в том, что гаптичес-кие ощущения перцептора и субъекта речи воплощены в «соматизмах» цветка шип , чашелистик , лепесток , в хронотопе события обычнейший рассвет , в локативах внешнего пространственного воздействия и модальности тактильно-чувственного восприятия пчела , росы глоток , бриз .
Акустическое окно, открытое когнитивному субъекту в ИТ, в ПТ1 расширено рядом тактильных денотатов и дополнено слуховыми перцептами шорох , птичий свист , отсутствующими в ИТ, появление которых можно объяснить смысловым развитием предметной ситуации, расширением релевантного денотативного пространства и введением новых денотативных признаков предметной ситуации, мотивированных каузальной причинно-следственной связью денотатов: если есть ветер, то слышен шорох; если это – утро, то, возможно, слышен птичий свист.
В синтаксической организации ПТ1 также наблюдаются изменения: высказывание организовано двумя строфами вместо одной строфы в ИТ, что графически представлено знаками препинания – точкой в строке 2 и восклицательным знаком в строке 5. Повествовательное предложение Шип, чашелистик, лепесток, / Обычнейший рассвет , содержащее утверждение о факте в хронотопе описываемого события, сопровождается восклицательным предложением Пчела иль две, росы глоток, / Бриз, шорох в листьях, птичий свист / И я – цветок! Несомненно, при этом происходит изменение коммуникативной модальности высказывания, исходное повествовательное эмоционально-нейтральное предложение ИТ заменено восклицательным предложением, которое, как известно, не входит в коммуникативные типы предложений, но выражает чувства, эмоции и оценки говорящего. ПТ1 насыщен эмоциями, в нем выражена положительная оценка, сопровождающая субъективно-модальное отношение когнитивного субъекта.
Изменения претерпевает и референциальная соотнесенность когнитивного субъекта, так как Т. Стамова делает однозначный выбор в пользу перцептора-цветка, тем са- мым снимая двойственность когнитивного субъекта ИТ. Гаптические ощущения, переданные ИТ, в переводе сопровождаются новыми слуховыми перцептами, усилен эмоциональный фон текста с помощью восклицательного предложения. Антропологическая метафора росы глоток акцентирует меру количества в семантическом компоненте на основе соматизма человека глотка – глоток, но при неодушевленном перцепторе. Перцептивная парадигма, аналогично ИТ, сформирована имплицитными предикатными смыслами: быть (be), иметь (have), ощущать гапти-чески (feel), но расширена предикатом слышать hear. Переводной русский текст в этом варианте построен на изменении доли перцеп-тора в когнитивном субъекте и сопутствующих добавлениях форм перцепции.
Преобразование перцептивного плана наблюдается и в переводе, выполненном Л. Вагуриной (далее – ПТ2).
Лишь пестик, листик, лепесток, Чуть слышный легкий ветерок Флакон росы и две пчелы, Шипы, луч солнца – у меня И роза – я (Дикинсон, 2017, с. 2).
В ПТ2 перцептивный субстрат повествования при разрешении референциального конфликта непосредственно связан с определением точки зрения когнитивного субъекта.
Русское пятистишие сохраняет метрику и рифму английского поэтического текста в строках 1, 2: лепест ок – ветер ок , но содержит новый рифмованный повтор в строках 4, 5: мен я – я . Аллитерационный ряд имеет более разнообразный характер, чем в ИТ, и опирается на звуки [ш], [л].
Наречие чуть , занимающее сильную позицию в строке 1, семантически тождественно наречиям немного , несколько , малость , имеющим общий компонент в значении «в некоторой степени; чуть-чуть, слегка». Оно выражает негативную оценку, связанную с чувством сожаления, и вносит изменения в градуально-оценочную парадигму текста, преобразуя нейтральный оценочный фон ИТ в яркую доминанту новой парадигмы русского переводного текста.
Сходно с ПТ1, ПТ2 предлагает расширенный ряд гаптических перцептивов флакон росы, две пчелы, добавленных аудиоперцеп-тивов чуть слышный легкий ветерок и нового визуального перцептива луч солнца. В денотативное пространство включены практически все перцептивные системы человека, который в качестве внешнего наблюдателя смотрит на цветок, освещенный солнцем, и слышит ветерок. В основе текстовой парадигмы лежит широкий ряд форм перцепции на основе глагола быть (be) и имплицитных смыслов в *иметь (have), ощущать гапти-чески (feel), слышать (hear), видеть (see). Добавление еще одной формы перцепции (слуховой) усиливает позицию когнитивного субъекта-человека и снимает двойственность референциального выбора, представленную в ИТ. Референциальный конфликт, заложенный в ИТ (caper in the trees), разрешен путем добавления нового денотата – луч солнца.
Коммуникативная модальность высказывания ИТ и ПТ2 в повествовательном предложении реализуется в линейных границах одной поэтической строфы и, на первый взгляд, совпадает в обоих текстах. Однако регистрация фактов в перечислении перцептов ИТ нарушена в первой строке ПТ2: интродук-тивная модально-оценочная частица лишь , в силу своей ограничительной семантики, содержит скрытый смысл ‘недостаточное количество, неполнота структуры’, отсутствующий в ИТ.
Перевод ИТ, предложенный А. Пустога-ровым (далее – ПТ3), выполнен в соответствии с общей стратегией «одомашнивания» (domestication): риторические границы поэтического текста заданы иными константами ландшафта.
Шип, чашечка и лепесток...
Рассветный летний ветерок
Березу дергает за косы, сдувает росы, Вокруг бормочут пчелы, осы
Я – эта роза! (Дикинсон, 2012, с. 10).
Переводчик в ПТ3 находит привычный для русской поэзии денотат береза, сопровождая ее описание не менее привычной русской метафорой косы – (волосы) – ветви березы (Иванова Н.Н., Иванова О.Е., 2015, c. 59–60). Одновременно синтаксическая конструкция перечисления с именными дескрипциями из ИТ преобразована в полные высказывания с подлежащим и глаголом-сказуемым на базе семантики целенаправленного (ветерок дергает, сдувает) и речевого действия (пчелы, осы бормочут).
Несомненно, в данном варианте перевода оба глагольных действия при таких подлежащих – субъектах очеловеченных действий отмечены олицетворяющей силой человеческого восприятия. Когнитивный субъект поэтому не совпадает с двойственным когнитивным субъектом из ИТ: позиция внешнего наблюдателя-человека исключает автореференцию цветка. Подобное выделение оказывается достаточным для разрешения референциального конфликта ИТ на английском языке – локатив в ПТ3 опущен.
Заключение
В результате применения метода лингвистической реконструкции когнитивной составляющей текста исследована генерация смысла в поэтическом произведении Э. Дикинсон и обнаружено, что интегративная сила текста состоит в комплексе композиционных, содержательных и формальных факторов текстообразования. Перцептивный повествовательный план, наряду с другими композиционными приемами, составляет архитектуру текста и актуализирует антропологическую доминанту когнитивного субъекта. Когнитивный субъект (субъект восприятия – наблюдатель / пер-цептор и субъект речи – повествователь), на наш взгляд, проявляет себя в деятельностных модусах текста – видения и говорения, в модусах проявления перцептивных систем человека (зрительная, слуховая, оль-фатическая, гаптическая перцептивные системы) и автореферентности художественного текста. Позиция когнитивного субъекта устанавливается в текстовых парадигмах, то есть в текстовом семантическом пространстве, организованном риторическими границами стиха и варьированием нелинейных смыслов в разных речевых воплощениях. Перцептивная парадигма организована по основаниям «когнитивный субъект», «форма перцепции», «референтность» и «ав-тореферентность». Градуально-оценочная парадигма организована по основаниям
«когнитивный субъект» и «градуальный / мерительный признак» в градуально-оценочной модальной рамке.
Сопоставив первичный английский текст и три переводных русских текста, мы установили, что текстовые девиации в переводах, прослеживаемые по линии изменения лексико-грамматических форм, происходят на базе преобразования исходных текстовых парадигм английского поэтического текста. Двойственный когнитивный субъект ИТ при переводе может сохраняться и создавать двойственный перцептивный план наррации (ПТ1, ПТ2) или трансформироваться в единичного когнитивного агента при процедурах расширения перцептивного поля наблюдения (ПТ3). Нейтральная градуально-оценочная парадигма исходного текста преобразована в яркие градуально-оценочные парадигмы переводного русского текста во всех случаях.
Таким образом, когнитивные факторы проявляются в организации перцептивного и градуально-оценочного субстратов повествования и устанавливаются в текстовых парадигмах при внутриязыковом и межъязыковом функционировании поэтического текста.
Список литературы Перцептивные и градуально-оценочные парадигмы переводного поэтического текста
- Жантурина Б. Н., 2021. Перцептивный повествовательный план в рассказе М. Спарк «Темные очки» // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. № 1. С. 41-49. DOI: 10.37482/2687-1505-V073
- Жантурина Б. Н., Колесникова С. М., 2020. Знаки когниции и перцепции русского переводного поэтического текста Эмили Дикинсон «Tell All the Truth but Tell it Slant» // Вестник МГУ Серия 22, Теория перевода. № 1. С. 63-76.
- Кибрик А. А., 2015. Когнитивный подход к языку // Язык и мысль : Современная когнитивная лингвистика / сост. А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев ; ред.: А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев, А. В. Кравченко, Ю. В. Мазурова, О. В. Федорова. М. : Яз. слав. культуры, 2015. С. 29-59.
- Колесникова С. М., 2016. Заметки по семантике и грамматике современного русского языка : Избранные труды. М. : Флинта. 318 с.
- Колесникова С. М., 2019. Субъективная градуальная оценка действия и теория «степеней совершаемостей» русского глагола // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. № 4. С. 49-58.
- Колесникова С. М., Бурская Е. А., 2021. Поэтический текст В. Маяковского: влияние аффиксов на фоносемантическую градуальную картину производного слова // Верхневолжский филологический вестник. № 1 (24). С. 81-86.
- Колесникова С. М., Бурская Е. А., Леденёва В. В., Шаталова О. В., 2021. Средства репрезентации иди-оглосс «Дети», «Семья», «Жизнь» в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 20, № 1. С. 47-62. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.1.4
- Мельник Н. В., 2014. Деривация русского текста : Лингвистические и персонологические аспекты. М. : ЛЕНАНД. 279 с.
- Тураева З. Я., 2009. Лингвистика текста. Текст: структура и семантика. Изд. 2-е, доп. М. : ЛИБРО-КОМ. 128 с.
- Тюленев С. В., 2004. Теория перевода. М. : Гардари-ки. 334 с.
- Федорова О. В., 2015. Типология референциаль-ных конфликтов (экспериментальные исследования) // Язык и мысль : Современная когнитивная лингвистика / сост. А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев ; ред.: А. А. Кибрик, А. Д. Коше-лев, А. В. Кравченко, Ю. В. Мазурова, О. В. Федорова. М. : Яз. слав. культуры. С. 635-674.
- Чернейко Л. О., 2017. Как рождается смысл : Смысловая структура художественного текста и лингвистические принципы ее моделирования. М. : Гнозис. 208 с.
- Шмид В., 2008. Нарратология. М. : Яз. слав. культуры. 312 с.
- Genette G., 1972. Figures III. P. : Seuil. 265 p.
- Дикинсон Э. Два Заката. М. : Водолей, 2010. 62 с. (Серия: Пространство перевода).
- Дикинсон Э. Избранница в белом / пер. с англ. Л. Ва-гуриной, В. Авсияна. М. : Звонница-МГ, 2017. 254 c.
- Дикинсон Э. Мне доказать тебе так просто : Избранная лирика / пер. с англ. А. Пустогарова. М. : Э.РА, 2012. 162 с.
- Иванова Н. Н., Иванова О. Е., 2015. Словарь языка поэзии. Выразительные средства русской лирики конца XVIII - первой трети XX века : Ок. 5000 образных средств и выражений. М. : Азбуковник. 1058 с.
- Webster's, 2020 - Meriam-Webster's Unabridged Dictionary. Springfield : Merriam-Webster Inc., 2020. 1514 p.