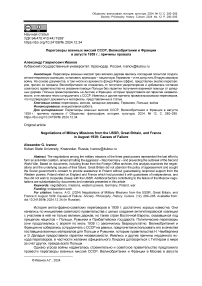Переговоры военных миссий СССР, Великобритании и Франции в августе 1939 г.: причины провала
Автор: Иванов Александр Гаврилович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Переговоры военных миссий трех великих держав явились последней попыткой создать антигитлеровскую коалицию, остановить агрессора - нацистскую Германию - и не допустить Вторую мировую войну. На основе документов, в том числе из архивного фонда Форин оффис, представлен анализ переговоров, причин их провала. Великобритания не отказалась от политики умиротворения и добивалась согласия советского правительства на оказание помощи Польше без гарантии получения взаимной помощи от западных держав. Польша ориентировалась на Англию и Францию, которые предоставили ей гарантии независимости, и не желала тесно сотрудничать с СССР. Имелись и другие причины провала московских переговоров, что подтверждают документы и материалы, представленные в статье.
Переговоры, миссии, западные державы, германия, польша, война
Короткий адрес: https://sciup.org/149147086
IDR: 149147086 | УДК: 94(470:410:44)“1939” | DOI: 10.24158/fik.2024.12.34
Текст научной статьи Переговоры военных миссий СССР, Великобритании и Франции в августе 1939 г.: причины провала
История англо-франко-советских переговоров в 1939 г. достаточно хорошо известна. Они начались по инициативе советского правительства с целью создания антигитлеровской коалиции с участием в ней не только великих держав, но также стран Восточной Европы, оказавшихся под прицелом нацистов – Польши, Румынии и Прибалтийских государств. Политические переговоры (они продолжались с апреля по июль 1939 г.) закончились безрезультатно. Великобритания и Франция не собирались сотрудничать с СССР на равных, предпочитая использовать его в качестве поставщика военных материалов для Польши и Румынии, которым правительства Н. Чемберлена и Э. Даладье предоставили гарантии независимости. Имелись и другие причины неудачного исхода переговоров, в частности желание официального Лондона договориться с Гитлером о мире за счет других, прежде всего Польши.
Однако угроза войны надвигалась стремительно и советское правительство предложило провести переговоры военных миссий СССР, Великобритании и Франции в Москве в августе
1939 г. Эта тема получила освещение в сборниках документов1, монографиях и статьях отечественных и зарубежных историков (1939 год…, 1990; Иванов, 2020; Мурхаус, 2020; На пороге войны…, 2020; Панкрашова, 1989; Ржешевский, 1989; Сиполс, 1989). Однако при всей их значимости некоторые вопросы, связанные с московскими переговорами, не получили должного освещения, в частности оценка правительством Н. Чемберлена советского военного потенциала, цели и намерений СССР. Сделать это позволяют документы и материалы фонда Форин оффис Национального архива в Лондоне.
Из изданий последних лет отметим сборник статей «Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала» (Антигитлеровская коалиция…, 2019). В числе авторов известные отечественные и зарубежные историки. Это комплексное исследование проблем предвоенной истории Европы – от ликвидации Чехословакии Германией в марте 1939 г. до начала Второй мировой войны. Несомненным достоинством данного издания является широкий охват проблем, с которыми столкнулись тогда страны Европы, СССР и Япония.
В оценке историками событий кануна войны присутствует заметный разброс мнений. Некоторые зарубежные авторы вопреки фактам обвиняют советское руководство в преднамеренном срыве переговоров в Москве. Так, английский историк Н. Флеминг считает, что руководство СССР параллельно с московскими переговорами договаривалось с немцами о заключении пакта о ненападении с Германией, так как Сталин был уверен в том, что «если СССР встанет на сторону Англии и Франции, то Германия, разгромив Польшу, быстро договорится с ними, а СССР останется один на один с Германией» (Fleming, 1979: 110–111).
Однако с такой оценкой не согласны зарубежные коллеги Н. Флеминга. Причины неудачного исхода московских переговоров они усматривают в другом: нежелании правительств Н. Чемберлена и Э. Даладье договариваться с СССР о создании антигитлеровской коалиции. Вот что, например, пишет американский историк Дж. Хэслам: «С учетом отсутствия серьезных намерений в Лондоне поворот русских к немцам был неизбежным». И далее: «Англия и Франция должны винить себя за упущенные возможности» (Haslam, 1984: 216, 228). Авторитетный британский историк А. Тэйлор признает лицемерие стран Запада, которые стали обвинять СССР после 23 августа 1939 г., т. е. после подписания советско-германского договора о ненападении, хотя они сами обрекли Чехословакию на уничтожение и «готовы были заключить новое соглашение с Гитлером, на этот раз за счет Польши» (Taylor, 1975: 35).
Переговоры военных миссий СССР, Великобритании и Франции начались в Москве 12 августа 1939 г., хотя они могли начаться и раньше. Дело в том, что англичане, которые по сути диктовали условия французам, выбрали обходной маршрут для проезда миссий – через Балтийское море в Ленинград, а затем поездом в Москву. Это затянуло начало переговоров на два с половиной дня. Подоплека этого такова. Английский посол в Берлине Н. Гендерсон (один из самых убежденных сторонников политики умиротворения агрессоров) сообщил в Лондон 31 июля, что проезд миссий поездом транзитом через Германию будет выглядеть как провокация и именно так будет воспринят в Берлине2. 1 августа тема отъезда миссии в Москву обсуждалась на заседании кабинета Н. Чемберлена. Министр по координации обороны лорд Чэтфилд подчеркнул, что ехать поездом в Москву нежелательно, а что касается самолета, то немцы «расценят это как недружественный акт». Остается одно – передвигаться по морю. Министр иностранных дел лорд Галифакс отметил, что использовать крейсер для поездки в Россию также нежелательно, поскольку это будет выглядеть в глазах немцев как вызов. Остается одно – зафрахтовать пассажирский корабль. Н. Чемберлен поддержал этот вариант, подчеркнув, что два потерянных дня ничего не решают3. В тот же день Форин оффис телеграфировал временному поверенному в делах Великобритании во Франции Р. Кемпбеллу, что «было бы неразумно использовать крейсер, по воздуху договориться не удалось <французы не приняли этот вариант. – А. И.> и решили зафрахтовать пассажирский пароход (из Лондона в субботу 5 августа)»4.
Но дело не только в этом. Правительство Н. Чемберлена (несколько в меньшей степени правительство Э. Даладье) не испытывало особого желания договариваться с представителями советской стороны, и это подтверждает протокол заседания английского кабинета от 26 июля. Обсуждались проблемы, связанные с предстоявшими переговорами в Москве. В протоколе отмечено, что «крайне желательно вести переговоры очень медленно до тех пор, пока не оформлено политическое соглашение». И далее: «Не передавать русским… информацию о наших планах и постараться получить информацию от них относительно их возможной помощи Польше»1.
31 июля Комитет имперской обороны (высший военно-политический орган страны во главе с премьер-министром) подготовил меморандум на основе предложений кабинета Н. Чемберлена для английской военной миссии. В нем были такие пункты: «Вести переговоры очень медленно; к русским относиться сдержанно» и не передавать им никакой конфиденциальной информации, поскольку отсутствует политическое соглашение; воздерживаться от обсуждения вопросов совместной стратегии на западе и в Средиземном море; собирать любую информацию, связанную с Дальним Востоком, но избегать обсуждения ситуации там; не обсуждать вопросы, связанные с Прибалтийскими странами. Квинтэссенция меморандума: «Английскому правительству представляется нежелательным брать на себя какое-либо определенное обязательство, могущее связать нам руки при любых обстоятельствах. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы ограничиться в военном соглашении возможно более общими формулировками. Что-нибудь вроде согласованной декларации о политике могло бы соответствовать этому»2. Таким образом, Великобритания (а также Франция, которая следовала в фарватере британской политики) стремилась заручиться поддержкой СССР, не давая ему никакой гарантии взаимной помощи. Это проявилось почти сразу на переговорах в Москве и вызвало отрицательную реакцию советской делегации.
В меморандуме содержались также оценки состояния вооруженных сил и вооружений потенциальных противников: Германии с одной стороны, СССР, Великобритании, Франции, Польши и Румынии с другой. Потенциал Германии был преувеличен, начальники штабов считали, что она может выставить на фронт 120–130 дивизий; Франция в условиях мобилизации имела бы 86 дивизий, а Великобритания – 16 дивизий на начальной стадии войны. Армия Польши насчитывала примерно 50 дивизий, но она в отличие от вермахта была армией старого образца – преобладали пехота и кавалерия. Еще менее боеспособной была армия Румынии – недостаточно оснащенные 22 пехотные и 3 кавалерийские дивизии.
Что касается Красной армии, то ее оценка британскими начальниками штабов была невысокой, хотя, по их подсчетам, СССР мог выставить на фронт 100–110 пехотных (стрелковых) и 20 кавалерийских дивизий, а также 4 механизированных корпуса. Вывод начальников штабов говорит сам за себя: «Россия не представляет собой серьезную военную силу… а ее своевременная помощь Польше исключена»3. Поскольку реальная угроза нацистской агрессии нависла над Польшей, такая оценка наряду с другими негативными факторами исключала образование антигитлеровской коалиции. Переговоры в Москве, едва начавшись, почти сразу застопорились.
Западные миссии в отличие от советской делегации (ее возглавил нарком обороны, маршал К.Е. Ворошилов) были представлены второстепенными лицами: английскую миссию возглавил адмирал П. Дракс, французскую – генерал Ж. Думенк. В самом начале переговоров выяснилось, что англичане прибыли в Москву, не имея необходимых полномочий для их ведения и заключения военной конвенции. Несколько дней спустя полномочия были получены, но все это насторожило советскую делегацию.
СССР предложил развернутый план военных действий трех великих держав при всех возможных случаях агрессии Германии. План предусматривал подключение к совместным военным операциям вооруженных сил Польши и Румынии4. Если бы он был реализован, на пути агрессоров мог быть воздвигнут надежный барьер.
Однако Польша и Румыния не желали сотрудничать с СССР и пропускать советские войска через свою территорию. 18 августа английский посол в Варшаве Г. Кеннард сообщил в Лондон, что министр иностранных дел Польши Ю. Бек считает, что «если Польша согласится на проход русских войск через свою территорию, это приведет к немедленному объявлению войны <Польше. – А. И.> Германией, поскольку Гитлер воспримет это решение как очередной шаг… в политике окружения (Германии. – А. И.)» (Иванов, 2020: 145–146). В следующей телеграмме Г. Кеннард изложил содержание беседы французского военного атташе в Варшаве Ф. Мюссе с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом В. Стахевичем. Атташе, следуя инструкциям из Парижа, попытался убедить польского руководителя в необходимости заключения военного соглашения с СССР и предоставления частям Красной армии возможности прохода «через ограниченные коридоры на севере и юге Польши». В ответ генерал выразил «серьезные сомнения относительно искренности намерений» советского правительства, которое «скорее всего желает оккупировать территорию Польши» (Иванов, 2020: 146). Таким образом, ключевой вопрос переговоров разрешен не был, а без этого, как считала советская миссия, «все начатое предприятие о заключении военной конвенции между Англией, Францией и СССР_ заранее обречено на неуспех»1.
Позиция официальных представителей Великобритании и Франции по вопросу прохода советских войск через территорию Польши в случае войны с Германией была противоречивой. Так, 20 августа Форин оффис телеграфировал Г. Кеннарду, что «если Бек будет упорствовать, переговоры сорвутся и это развяжет Гитлеру руки по отношению к Польше. С другой стороны, заключение военно-политического соглашения с Советским Союзом может удержать Гитлера от войны». Британские дипломаты считали, что «риск пропуска советских войск через польскую территорию меньше другого риска - разрушения Польши» (Иванов, 2020: 146-147). В тот же день эта телеграмма была передана Ю. Беку. А вот начальник французского генерального штаба генерал М. Га-мелен, по сообщению английского посольства в Париже от 21 августа, «с сочувствием» отнесся к отказу поляков пропускать советские войска (Иванов, 2020: 147). Причин такой раздвоенности было несколько. Дело в том, что англо-французские гарантии, предоставленные Польше весной 1939 г., не имели реального содержания. Речь в них шла о независимости Польши, но не о неприкосновенности ее границ. Таким образом, сохранялась возможность для Великобритании как инициатора политики гарантий попытаться договориться с Гитлером полюбовно за счет Польши. И еще один ключевой момент. 3 апреля 1939 г. английские начальники штабов по поручению правительства Н. Чемберлена представили меморандум «Военное значение гарантий Польше и Румынии». Авторы провели анализ состояния вооруженных сил и вооружений потенциальных противников - Германии с одной стороны, Великобритании, Франции, Польши и Румынии с другой. Вывод начальников штабов звучал довольно категорично: «Ни Англия, ни Франция не в состоянии оказать прямую помощь Польше или Румынии на море, на суше или в воздухе для противодействия германскому вторжению. Более того, учитывая состояние английских и французских вооружений, ни Англия, ни Франция не могут обеспечить вооружениями Польшу или Румынию. Это подчеркивает важность получения помощи от СССР» (Иванов, 1993: 161). Таким образом, англо-французские гарантии мало чего стоили. Они предназначались для успокоения общественности, возмущенной агрессивными действиями руководителей Третьего рейха, и были призваны как-то воздействовать на нацистского фюрера, хотя это было более чем проблематично. Разумеется, этот документ оставался абсолютно секретным, хотя поляки рассчитывали на помощь западных союзников. Но эта помощь не последовала. Великобритания и Франция объявили войну Германии 3 сентября 1939 г., два дня спустя после того как она напала на Польшу. Но военных действий они практически не вели. На западном фронте началась «странная война».
Переговоры в Москве для Англии (в известной мере также для Франции) имели больше политический смысл, нежели военный: расчет был затянуть их до осенней распутицы, осложнив тем самым задачу для Гитлера в его кампании блицкрига против Польши, использовать эту длительную паузу для переговоров с немцами о заключении сделки по типу Мюнхенского соглашения 1938 г., на этот раз за счет Польши (а переговоры велись по различным негласным каналам с июня 1939 г. вплоть до начала Второй мировой войны). В Лондоне рассчитывали также, что советское руководство все же согласится оказать помощь Польше в одностороннем порядке. Однако это никак не отвечало жизненно важным интересам СССР.
Разумеется, сказывалось и недоверие сторон друг к другу. Оно имело глубокие корни и усугублялось многими факторами, в том числе недавним прошлым - чехословацким кризисом и Мюнхенским сговором в 1938 г., когда СССР был подвергнут западными державами остракизму и отстранен от решения судетской проблемы, а по сути судьбы Чехословакии, его союзника. Сталин и его окружение резко отрицательно восприняли политику умиротворения, справедливо рассматривая ее как направленную на поощрение агрессии Германии на восток, в том числе против СССР.
Архивные документы свидетельствуют, что Великобритания даже в условиях предвоенного политического кризиса в Европе не отказалась от политики умиротворения. Так, на заседании кабинета Н. Чемберлена 24 мая 1939 г. при обсуждении тройственных переговоров министр иностранных дел лорд Галифакс и министр по делам доминионов Т. Инскип заявили следующее: «Когда мы усилим наши позиции посредством заключения соглашения с российским правительством, мы должны выступить с инициативой о возобновлении политики умиротворения». Таким образом, «у нас появится возможность договариваться <с Германией. - А. И.> с позиции силы, и скорее всего Германия прислушается к нам». Они также считали, что для успеха переговоров с немцами необходимо заверить их в том, что Англия не собирается осуществлять экономическую блокаду Германии и готова обсуждать с ней «в любое время любые вопросы». Министры не исключали, что «это предложение может быть отвергнуто <немцами. - А. И.>, но если оно будет принято, то послужит важным шагом к умиротворению. Если наши позиции будут достаточно сильными, мы сможем взять инициативу на себя в подходе к Германии». Н. Чемберлен не отверг этого в принципе, но заметил, что момент для принятия данного предложения «еще не созрел. Необходимо не только оставаться сильным, но добиться того, чтобы другие осознали этот факт. К тому же общественное мнение… еще не готово для такого поворота» (Иванов, 2020: 109–110). Итак, налицо были глубокие разногласия между участниками тройственных переговоров.
Атмосферу тех дней кануна Второй мировой войны хорошо отражает письмо руководителя британской военной миссии П. Дракса министру по координации обороны лорду Чэтфилду от 16 августа 1939 г.: «Русские отзываются презрительно об Англии и Франции как о капитулировавших державах, они считают, что Англия и Франция спешат заключить соглашение и что подходящее давление обеспечит необходимые уступки. Манера, с которой они выдвигают нам свои требования (не просьбы) напоминает манеру, с которой победившая держава диктует свои условия побежденному противнику». И далее: «Совершенно очевидно, что они придают очень большое значение получению положительного ответа от Польши и Румынии. У них нет никакого желания заключать соглашение в ближайшее время кроме как на условиях, совпадающих с их тре-бованиями»1. В письме П. Дракса лорду Чэтфилду от 17 августа глава британской миссии подчеркнул: «Мы считаем, что существенного прогресса <на переговорах. – А. И.> можно достигнуть лишь при условии, что Польша и Румыния займут благожелательную, а не двусмысленную позицию <в вопросе о проходе советских войск. – А. И.>»2.
Московские переговоры зашли в тупик. Правда, Ю. Бек под нажимом англичан и французов несколько смягчил свою позицию. 23 августа он дал согласие на следующую формулировку: «Французский и английский штабы уверены, что в случае общей акции против агрессоров сотрудничество между СССР и Польшей не исключено на условиях, которые надлежит установить. Вследствие этого штабы считают необходимым проведение обсуждения с советским штабом всех возможностей» (Семиряга, 1992: 90–91). Но главный вопрос – о проходе советских войск через территорию Польши – остался по-прежнему открытым и, кроме того, в столицы западных держав поступили сведения о подписании пакта о ненападении между СССР и Германией.
В западной историографии расхожей является версия о преднамеренном решении Сталина заключить пакт с Гитлером и тем самым сорвать переговоры в Москве (Мурхаус, 2020: 22; Bell, 1986: 260). Эту версию опровергает такой авторитетный историк, как профессор Кембриджского университета Р. Эванс (2012: 750): «В начале августа 1939 года Риббентроп и Вайцзеккер <статс-секретарь германского МИД. – А. И.> с одобрения Гитлера подготовили планы совместного разделения Польши с Советским Союзом. Но Сталин все еще колебался. Однако наконец 21 августа он согласился со все более настойчивыми запросами Гитлера о подписании официального пакта».
Жесткая логика событий 1939 г. подтолкнула Сталина к принятию этого непростого решения. Война Германии против Польши надвигалась стремительно, переговоры в Москве ввиду проволочек и нежелания западных держав сотрудничать с СССР на равных в отражении фашистской агрессии потеряли свой смысл, в случае поражения Польши (а в этом мало кто сомневался в Москве, Лондоне и Париже) части вермахта выходили на западную границу с СССР рядом с Минском. На Халхин-Голе шли бои советских воинских частей с японцами. Наконец, через «кембриджскую пятерку» Сталину было известно о тайных англо-германских переговорах и вариантах проведения конференции по типу «второго Мюнхена». Все это суммарно повлияло на решение кремлевского вождя подписать пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол с Германией.
Советско-германский пакт проистекал из логики событий кануна Второй мировой войны, в том числе провала англо-франко-советских переговоров в Москве. В этом смысле интерес представляет оценка начальника французского генерального штаба генерала М. Гамелена: «Если бы поляки согласились на поддержку России, русско-германский пакт не был бы подписан» (Иванов, 2020: 152).
Уроки 1939 г. не должны быть забыты. Антигитлеровская коалиция сформировалась после нападения Германии на СССР в 1941 г. Ведущее место в ней занимал Советский Союз, вооруженные силы которого сыграли решающую роль в разгроме вермахта и избавлении человечества от нацистской тирании.
Список литературы Переговоры военных миссий СССР, Великобритании и Франции в августе 1939 г.: причины провала
- 1939 год. Уроки истории / отв. ред. О.А. Ржешевский. М., 1990. 508 с.
- Антигитлеровская коалиция - 1939: формула провала / под общ. ред. В.Ю. Крашенинниковой. М., 2019. 336 с.
- Иванов А.Г. 1939 год. Европа между миром и войной. Краснодар, 2020. 187 с.
- Иванов А.Г. Агрессоры и умиротворители. Гитлер, Муссолини и британская дипломатия. М., 1993. 208 с.
- Мурхаус Р. Дьявольский союз. Пакт Гитлера - Сталина, 1939-1941. М., 2020. 544 с.
- На пороге войны. 1939 год : материалы междунар. науч. конф. «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии» / отв. ред. Ю.А. Никифоров. М., 2020. 447 с.
- Панкрашова М.И. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. // Международная жизнь. 1989. № 8. С. 28-39.
- Ржешевский О.А. Москва, Спиридоновка, 17 // Военно-исторический журнал. 1989. № 7. С. 72-81.
- Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии 1939-1941. М., 1992. 302 с.
- Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М., 1989. 335 с.
- Эванс Р.Дж. Третий рейх. Дни триумфа: 1933-1939. Екатеринбург; М., 2012. 958 с.
- Bell P. The Origins of the Second World War in Europe. L.; N. Y., 1986. 326 p.
- Fleming N. August 1939: The Last Days of Peace. L., 1979. 242 p.
- Haslam J. The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 1933-1939. N. Y., 1984. 310 p.
- Taylor A.J.P. The Second World War. L., 1975. 234 p.