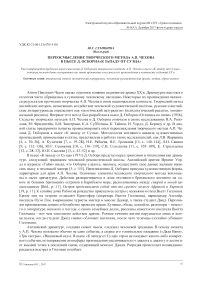Переосмысление творческого метода А.П. Чехова в пьесе Д. Осборна "К западу от Суэца"
Автор: Семикина Юлия Геннадьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Лингвистика и филология
Статья в выпуске: 6 (53), 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема переосмысления Д. Осборном творческого метода А.П. Чехова в пьесе «К западу от Суэца»., которая может быть воспринята как опыт прочтения классического произведения в контексте событий XX в.
Творческий метод, поэтический натурализм, чеховская реалистическая драма, мотив, образ-символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14822645
IDR: 14822645 | УДК: 82-21:001.53(470+410)
Текст научной статьи Переосмысление творческого метода А.П. Чехова в пьесе Д. Осборна "К западу от Суэца"
Антон Павлович Чехов оказал огромное влияние на развитие драмы XX в. Драматурги жестокого столетия часто обращались к гуманному чеховскому наследию. Некоторые их произведения являются результатом прочтения творчества А.П. Чехова в ином национальном контексте. Творческий метод английских авторов, испытавших воздействие чеховской художественной системы, русские и английские литературоведы определяют как «поэтический натурализм» (психологический реализм, эмоциональный реализм). Впервые этот метод был разработан в пьесе Д. Осборна «Оглянись во гневе» (1956). Сходство творческих методов А.П. Чехова и Д. Осборна отмечали в своих исследованиях В.А. Ряпо-лова, Ю. Фридштейн, Б.И. Зингерман, К.А. Субботина, К. Тайнен, И. Уордл, Д. Кершоу и др. В данной статье предпринята попытка проанализировать опыт переосмысления творческого метода А.П. Чехова Д. Осборном в пьесе «К западу от Суэца». Методология мотивного анализа художественных произведений, примененная в статье, представлена в работах таких исследователей, как Л.В. Жаравина [4, с. 30–36], А. Кузичева [7, с. 19–28], Н.Е. Рябцева, Н.Е. Тропкина [15, с. 140–144], Л.Н. Савина [9, с. 132–136], Ю.Г. Семикина [10, с. 136–139], С.В. Солодкова [11, с. 105–109], Е. Стрельцова [12, с. 28–33], Ю.Н. Сысоева [13, с. 43–52] и др.
В пьесе «К западу от Суэца» (1971) Д. Осборн предстал перед зрителями и читателями как драматург, следующий традициям чеховской реалистической школы. Английский критик Ирвинг Уор-дл в журнале «Тайм» писал, что Осборну удалось, наконец, осуществить свое давнее желание написать пьесу в чеховской манере [5, c 155]. Произведению Д. Осборна присуща художественная форма, характерная для драм А.П. Чехова. Основные элементы чеховского творческого метода воплощены в пьесе драматурга. Действие разворачивается в доме отставного британского военного на одном из бывших британских островов в Карибском море, расположенных между старой и новой цивилизациями [Ibid., p. 11]. Остров представляет собой что-то среднее между Африкой и Европой [19, p. 11]. К хозяйке дома Робин на рождество приехали ее сестры с мужьями и отец (Вьетт Гиллман). Кроме них на острове отдыхают Кристофер (секретарь Вьетта Гиллмана), парикмахер Алстайр, писатель Оуэн Лэм, американсие туристы мистер и миссис Деккер, а также студент Джед. Персонажи произведения лениво и беззаботно проводят время. Купанье, обеды, коктейли, разговоры – немного о литературе, немного о погоде, о своих семейных делах, рассказы известного писателя Вьетта Гиллмана – вот чем заполнено действие драмы. Ровное течение жизни нарушается лишь в конце пьесы, когда студент Джед гневно обличает англичан, после чего туземцы случайно убивают Гиллмана.
Английский драматург, создавая сюжет пьесы, следовал чеховской традиции. В основу сюжета у А.П. Чехова положено обычно не само событие, а скорее его томительное ожидание («Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»). В пьесе «К западу от Суэца» герои не ожидают какого-либо конкретного события, но напряжение атмосферы произведения увеличивается от диалога к диалогу и достигает высшей точки в последней сцене, содержащей монолог Джеда. Разрядка происходит неожиданно: раздается выстрел и Гиллман погибает.
Осборн вслед за Чеховым отказался не только от решающего события в развитии действия, но и от принципа единодержавия героя, что приводит к децентрализации образов и сюжета. Английский драматург намеренно обращался к чеховскому принципу построения конфликта произведения (изображение духовного разлада с действительностью, неприятие героями монотонного течения будней). В пьесе «К западу от Суэца» нет напряженной интриги. Действие распадается на две линии развития: внешнюю, характеризующуюся «статичностью», и внутреннюю, отражающую напряженную духовную жизнь героев. Внутренняя линия развития действия изображается посредством подтекста, со всеми его составляющими. Подтекст содержит дистанционный намек на развязку, что также сближает произведение Осборна с чеховской драматургией. Корреспондент миссис Джеймс спросила восьмидесятилетнего писателя Гиллмана: «Чего вы боитесь больше всего?» Вьетт ответил, что боится нелепой смерти и добавил: «Я ее предчувствую» [19, p. 78].
Д. Осборн, как и Чехов, умело использует в своей пьесе деталь. Например, одним предложением, характеризующим героя, автор помогает зрителю и читателю понять особенную черту внутреннего мира Гиллмана, который говорит о себе: Я никогда не был молодым. Я всегда чувствовал себя старым [Ibid., p. 48]. Возможно, его присказка old thing является следствием подобного мироощущения (выражение old thing на русский язык обычно переводится как дружок , голубушка . Если же рассматривать перевод отдельных слов этого выражения, то в контексте произведения это выражение приобретает несколько иной смысл: old – старый, thing – вещь, предмет (создание, существо)). Свою дочь Гиллман иногда называет old thing , вследствие чего, по словам Мэри, Робин чувствует себя старой [Ibid., p. 78].
Пьесу Д. Осборна называют чеховской вследствие общности тем и мотивов, а также благодаря изображению сходных человеческих типов и созданию многозначных образов-символов. И. Уордл считал, что в произведении Д. Осборна «слились элементы “Дяди Вани” и “Вишневого сада”: хозяин виллы – это современный английский вариант дяди Вани, Вьет – Серебрякова, а протестующий студент-американец – Трофимова» [5. с, 155]. Английский драматург интерпретировал некоторые фабульные мотивы чеховских пьес. В произведении Осборна звучат темы, характерные для всей поздней драматургии А.П. Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»).
А.П. Чехов близок Осборну своим вниманием к чувствам и взаимоотношениям людей, к их внутреннему миру. Английский драматург стремился достичь чеховского понимания, сочувствия к своим героям, он показывал подлинные чувства действующих лиц: у одних это апатия (Кристофер, Робин, Бригадир), у других – гнев (Джед).
Трактовка темы любви особенно близка к чеховской, однако время внесло коррективы. Драматургия А.П. Чехова раскрывает трагикомедию сердечных «несовпадений», «безответных привязанностей», она вся овеяна печалью неразделенного чувства. В пьесе «К западу от Суэца» автор углубил свойственную чеховским героям разобщенность. Это также обусловлено их сосредоточенностью на своем внутреннем мире. Оуэн Лэм, говоря о Вьете Гиллмане, отмечает: «<…> Он занят собой как и все мы » [19, p. 66]. «Неконтактность» персонажей особенно четко проявляется в диалогах, что сближает творческий метод Осборна с поэтикой драматургии А.П. Чехова. Русский классик отмечал, что «люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто» [16, с. 230].
Эдвард: Послушай тех птиц.
Фредерика: Они тоже довольны собой.
Эдвард: очень хорошенькие.
Фредерика: Не такие уж хорошенькие, как и те старые туземные песни, что они поют каждую ночь и те ужасные инструменты. Одна из самых плохих песен об Англии.
Эдвард: Что?
Фредерика: Проклятые птицы. Шум, вот что мы слышим прежде всего.
Эдвард: Только в деревне.
Фредерика: Нет, в Лондоне тоже. Будит меня каждый день.
Эдвард: Не знаю, как тебе помочь.
Фредерика: И я тоже.
Эдвард: Все же лучше, чем аэропланы.
Фредерика: А?
Эдвард: Птицы [19, p. 12].
Положение действующих лиц усугубляется тем, что они, подобно чеховским героям, любят, но им не отвечают взаимностью. Кристофер (секретарь Вьетта) разошелся с женой, т.к. она его разлюбила. Эванджи (дочь Вьетта) увлеклась Кристофером, а он, в свою очередь, – Фредерикой. Парикмахер Аластайр также влюблен в Фредерику, однако она безразлична ко всем.
Герои пьес А.П. Чехова пытались выразить свои чувства. Особенно лиричны и поэтичны объяснения в любви, например, Нина признается Треплеву: «Мое сердце полно вами» [17, с. 10]. Герои Д. Осборна уже не способны так тонко и поэтично выражать свои чувства. Наиболее ярко эта их особенность проявляется в разговоре Фредерики и ее мужа Эдварда.
Фредерика: Будем друзьями.
Эдвард: Мы и так друзья.
Фредерика: Женатые друзья.
Эдвард: Да. Женатые друзья [19, p. 24].
В некоторых случаях английский драматург показывает крайнюю степень неконтактности героев, они словно не замечают окружающих людей, настолько сильна их погруженность во внутренний мир. Вот, например, что говорит о себе Эдвард: «<…> Иногда мне кажется, что я не понимаю ни слова из того, что мне говорят. Как если бы они были такими же непонятливыми, как и я » [Ibid., p. 25].
Погруженность героев в собственный мир может проявиться и в их неспособности к глубоким переживаниям, о чем свидетельствуют слова Гиллмана: «<…> Слава Богу, мне не нужно кого-то любить » [Ibid., p. 74].
Другой темой, сближающей произведения Д. Осборна с драматургией А.П. Чехова становится искусство. Тема искусства – сквозная в чеховской «Чайке», и является одной из основных в пьесе «К западу от Суэца». Например, Треплев и Тригорин – писатели, Аркадина и Нина Заречная – актрисы, Сорин – несостоявшийся писатель, Шамраев – «человек “около театра”, провинциальный поклонник «корифеев» сцены» [8, с. 19]. Русский драматург размышлял о назначении писателя и о его долге. «Чайка» являлась мудрым откликом писателя на серьезные споры о путях развития русского театра, более того – русского искусства в целом [2, с. 151].
Подобно А.П. Чехову, Д. Осборн в пьесе «К западу от Суэца» развивал тему искусства. Английский драматург также размышлял о месте писателя в жизни общества. В произведении Д. Осборна, так же, как и в пьесе «Чайка», много разговоров о литературе. Людьми искусства являются: Оуэн Лэм, Вьет Гиллман, его дочь Эванджи и секретарь Кристофер.
Об Оуэне Лэме автор не сообщает каких-либо определенных сведений. Читателю становится известно из контекста произведения, что он немного младше Гиллмана, которому около семидесяти лет. Кристофер говорит, что Лэм менее известен, чем Гиллман, но все же считается преуспевающим писателем. В разговоре с Вьеттом Оуэн Лэм поднимает проблему, ставшую актуальной в XX в. – меркантильный интерес, мотивирующий творческий процесс.
Вьетт: Я занят тем, что я «писатель». Боже, Лэм, зачем мы это делаем?
Лэм: Ради денег. И ради удовольствия [19, p. 61].
Вьет Гиллман, давая интервью представительнице местной прессы, объясняет, что согласился на это, поскольку ему нужны деньги. О творческой деятельности Кристофера также известно немного. Из разговора Робин и Роберта мы узнаем, что Кристофер отказался от собственной карьеры и посвятил свою жизнь Вьетту Гиллману, талантом которого он восхищается. Мэри, дочь Вьетта, отмечает, что секретарь «отдает» ее отцу все способности и все свое время. Роберт характеризует Кристофера следующим образом: Я не считаю его посредственностью. Возможно, он хочет слишком многого, но, в отличие от Эванджи, он отказался от всего. Люди иногда выбирают посредственность [19, p. 61].
В произведениях А.П. Чехова («Чайка») и Д. Осборна («К западу от Суэца») прослеживаются общие черты в изображении людей искусства: образ трудолюбивого и талантливого писателя Тригорина близок героям пьесы английского драматурга – Эванджи и Вьетту Гиллману. Подобно Тригорину Эванджи постоянно думает о своей работе. Тригорин, описывая свой творческий процесс, говорит: Едва я окончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей – четвертую… Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу [18, с. 29]. Аналогичную характеристику стиля работы Эванджи дают ее родственники.
Робин: Я полагаю, Эванджи работает над своей книгой?
Мэри: Скорее всего.
Робин: Она всегда будет работать на пределе своих возможностей. Я говорила ей: «Отдохни».
Мэри: Вы знаете Эванджи. Работа для нее – это все. <…>
Робин: Она беспокоится о произведении, которое собирается писать.
Роберт: И о следующем, а после него – о другом [19, p. 34].
Тригорин постоянно находится в состоянии творческого поиска, любая жизненная ситуация может стать основой сюжета его будущего произведения. Когда кончаю работу, – говорит он, – бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан – нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро – новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать [18, с. 29].
Нечто подобное происходит и с Эванджи. Она приехала к сестре на Рождество. Остров так поразил воображение Эванджи, что она задумала написать о нем очерк, а может быть и книгу. И вместо того, чтобы отдыхать, собирает материалы для будущего произведения.
Взгляды Вьетта Гиллмана на творческий процесс в какой-то мере близки размышлениям Тригорина. Тригорин: Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, неодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица (выделено нами – Ю.С. ), затравленная псами, вижу что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей [17, с. 30].
Вьетт Гиллман в интервью, которое он давал корреспондентке местной газеты, развивает темы, намеченные чеховским героем.
Вьетт: Вы хотите знать мои политические взгляды? Я только старый радикал, который ненавидит прогресс. Никто не ненавидит его больше, чем я <…> Я стараюсь не думать о моих коллегах писателях. Однако, если они лучше меня, то это меня очень тревожит [19, с 70–71].
Как эти размышления похожи на признание Тригорина: <…> Как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший писатель, но он писал хуже Тургенева » [17, с. 30].
Во время беседы с Вьеттом Гиллманом журналистка миссис Джеймс спросила: Что Вы думаете о людях?
Вьетт: Несовершенство, стремящееся к улучшению.
Мисс Джеймс: Вы действительно так считаете?
Вьетт: Нет, но Вы, по-видимому, хотели, чтобы я сказал что-либо в этом роде. Хотя я думаю, что существует гибельная фальшь (выделено нами – Ю.С. ) и очень современная идея, что человек может быть абсолютно честным.
Вьет: Критики священны. Вы должны разъяснить своим читателям, что критики играют более важную роль, чем поэты и писатели. <…> Если критику удается удержать вас от создания произведения, то можно считать, что он великолепно выполнил свою задачу [19, p. 73–74].
После этих слов вспоминается реплика Тригорина: Я не люблю себя как писателя [17, с. 30]. Кроме того, Вьет Гиллман затрагивает темы, волнующие его современников: религия, забастовки, взаимоотношения между людьми (любовь, дружба), человек искусства и талант, дарование. Гиллман в разговоре с журналисткой перескакивает с одной темы на другую, отвечая на непоследовательные вопросы мисс Джеймс.
Талантливые, проницательные люди искусства в произведениях русского и английского драматургов пытаются осознать основные проблемы эпохи выразить каким-либо образом свою точку зрения. Одной из таких проблем становится развитие цивилизации [1, с. 12; 19, p. 12]. Герой А.П. Чехова еще пытается идти в ногу со временем, но понимает, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед [17, с. 30], а он все отстает и отстает. Тригорин сравнивает себя с лисицей , затравленной псами. Поезд как символ прогресса ускользает от него. Персонаж Д. Осборна ненавидит прогресс, т.к. в XX в. стало очевидно, что развитие науки может уничтожить все человечество. Изобрели атомную бомбу. Цивилизация разрушает мир человека. Почти сразу после интервью островитяне убивают Гиллмана. Последнюю реплику в пьесе произносит Эдвард: Боже мой, они застрелили лиса … [19, p. 84].
Эта грань темы искусства, неразрывно связанная с проблемой смены эпох, нашла отражение в произведениях А.П. Чехова и Д. Осборна. В последней пьесе русского драматурга отразились «его мысли о собственной жизни, о России, о мире, который он покидал. <…> Невероятным физическим и творческим сверхусилием он превозмог самого себя и увидел, угадал наступающий век» [7, с. 26]. Символами новой эпохи в пьесах А.П. Чехова можно считать дом в имении Раневской и вишневый сад, который продают с аукциона и вырубают. Для Раневской дом и сад являются эстетическими ценностями, связывающими ее с прошлым. Для Лопахина сад сам по себе не имеет никакой ценности и является «вещью». У чеховского героя есть своя концепция жизни. Он – прагматик. Эта черта (прагматизм) стала отличительной особенностью XX в. Все должно приносить выгоду. Хотя Лопахин является не только разрушителем, но и созидателем, все же основой его мировоззрения является польза. Опасность такой жизненной концепции понимает Трофимов, поэтому он и дает ему совет: <…> не размахивай руками! Отвыкни от этой привычки – размахивать [17, с. 244].
Всю трагичность происходящего передают чеховские ремарки: «во втором и четвертом действиях. Пьеса заканчивается ремаркой: слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву [Там же, с. 254]. Можно по-разному трактовать этот звук: лопнула струна русской жизни, или словно лопнула какая-то «струна» в душах людей.
Подобно русскому драматургу Д. Осборн в пьесе «К западу от Суэца» размышляет об уходящем в небытие «старом мире». Название произведения напоминает читателям о Суэцком кризисе, после которого Англия потеряла свои колонии. Многие действующие лица пьесы родились в бывших колониальных владениях Великобритании – в Куала-Лумпуре, в Сингапуре, на Цейлоне, в Рангуне, Месопотамии. Герои Осборна часто беседуют о славном прошлом «старой доброй Англии». Ностальгия по прежним временам звучит в воспоминаниях дочерей Вьетта о рабочем кабинете их дедушки, в котором они видели бирманские ружья, грамматику зулу, руководство по урду, высушенные шкуры питонов, щиты, сделанные из сыромятной кожи [19, p. 60], потемневшие фотографии, на которых была запечатлена вся семья. Героини произведения тоскуют по идиллическим временам, когда они были счастливыми детьми, когда была жива их мать. Во время разговора Фредерика восклицает: Ах, домой в Англию [Ibid., p. 61]. Эту реплику можно соотнести со словами сестер Прозоровых: В Москву! В Москву!. Домой в Англию и в Москву – это не географические понятия. Эти фразы свидетельствуют о желании героев повернуть время вспять.
Воспоминания действующих лиц о прошлом (своеобразные тексты в тексте, такие как рассказ Сорина о мечтах, которые у него были в молодости, признания Войницкого в момент «прозрения», повествование Шарлотты о детстве и т.д.) являются по отношению ко всей ткани произведения микрочастицами и выполняют очень важную функцию, обусловленную соподчинением и взаимосвязью «микро» и «макро» элементов [8, с. 51]. Микросюжеты данного типа (воспоминания о прошлом) осложняют основной сюжет, структурируют его. Вслед за А.П. Чеховым Д. Осборн, используя этот же прием в своей пьесе «К западу от Суэца», добивается внутренней гармонии построения сюжета при помощи, на первый взгляд, не связанных между собой рассказов героев о прошлом.
В своем произведении английский драматург соединил присущие чеховским пьесам тему тоски по прошлому и тему крушения «старого мира», а также усилил трагизм их звучания. Образ уходящей эпохи материализован в пьесе в виде дома отставного бригадира, в котором много прекрасных старинных вещей. Дом привлекает своим необычным видом американских туристов, принявших его за сувенирную лавку.
Д. Осборн переосмыслил чеховский образ прекрасного цветущего вишневого сада. Для него сад стал символом тоски героев по очарованию уходящей эпохи и, в какой-то мере, их неприятия новой эпохи, разрушающей «старый мир». Тому подтверждением являются слова Фредерики: Ничего нельзя исправить. Все прогнивает или покрывается плесенью. <…> Подобно огромному зеленому саду, изуродованному бомбами [19, p. 30].
Созданный английским драматургом образ-символ сада неразрывно связан с образом двух птиц, которых по функции, выполняемой этим образом в тексте, можно соотнести с чеховской чайкой. Образ чайки в одноименном произведении появляется в сцене свидания Константина Треплева и Нины Заречной. Нина признается: А меня тянет сюда к озеру, как чайку [17, с. 10]. Затем этот образ возникает на протяжении действия несколько раз, напоминает о себе многочисленными деталями, повторами, перекличками. Центральный образ-символ чайки скрепляет пьесу. Невозможно однозначно определить значение образа чайки. Паперный, например, пишет, что он вбирает – в особом преломлении – темы искусства и любви, пересекающиеся в отношениях героев, важнейшие мотивы пьесы [8, с. 37].
Образ птиц в произведении Осборна впервые появляется во время разговора Фредерики и ее мужа Эдварда. Возникая вновь и вновь, он пронизывает всю децентрализованную образную систему пьесы, воссоединяя ее изнутри. Наиболее полно значение образа птиц раскрывается в разговоре Фредерики, Роберта, Эдварда и Мэри.
Роберт: Посмотри на тех птиц.
Фредерика: Не начинай.
Роберт: Это что, качки?
Фредерика: Мы называем их «тупицами».
Мэри: Почему?
Фредерика: Мистер и миссис Тупица. Потому что они такие беспомощные. Беспомощные и отчаявшиеся. Они смогли снести несколько яиц, половину из которых сами разбили. Они наполовину построили свое гнездо, но его сдуло ветром. Когда все же гнездо было построено, они едва могли вспомнить, где оно находится.
Эдвард: Вполне вероятно.
Фредерика: Я даже не знаю, кто из них хуже, он или она. Они отчаялись.
Эдвард: Забота о собственном саде – это неплохое утешение, надежда, даже если эта последняя надежда будет разрушена бомбами [19, p. 31].
Высказывание Эдварда перекликается со словами Войницкого: Когда нет настоящей жизни, то живут миражами [16, с. 82]. В другом разговоре Вьет Гиллман называет этих птиц птицами тоски . В пьесе Д. Осборна образы птиц и сада дополняют друг друга, сочетают в себе ностальгию, тоску героев по старой, доброй, патриархальной Англии, их желание вернуть время, когда они были счастливы.
Английский драматург усилил трагизм тем «Вишневого сада». По утверждению А.С. Суворина А.П. Чехов осознавал, что «разрушается нечто очень важное, разрушается, может быть, по исторической необходимости, но все-таки это трагедия русской жизни» [14, с. 235]. Все же автор пьесы оставил читателям надежду на благополучное будущее. Лопахин способен оценить и разделить высокие чувства. Он очень трудолюбив, читает книги, посещает театр. Трофимов говорит о нем: У тебя тонкая, нежная душа [17, с. 244].
Другой человек «новой эпохи» – Трофимов. Он чист душой и помыслами. Ему чужд практицизм Лопахина, которому он говорит: Я свободный человек. <…> Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд, человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле. И я в первых рядах! [Там же, с. 244].
В пьесе «К западу от Суэца» Д. Осборн изобразил современного Трофимова – представителя молодого поколения второй половины XX в. Это американец Джед. Текст произведения позволяет провести такую параллель.
Алстайр: Это Джед. Он студент. Он еще учится.
Вьет: Как дела, Джед? На каком вы курсе?
Джед: Не все ли равно.
Вьетт: Да, я знаю, что вы имеете в виду. Алстайр сказал, что вы – студент. Вы – вечный студент, как Трофимов [19, p. 51].
Джед – воплощение цинизма, жестокости и бездуховности. Именно он вынес приговор «доброй старой Англии» и ее представителям, живущим на острове. <…> Мне безразличны воспоминания. <…> Единственная вещь, имеющая значение – это кровь. <…> Мне очень жаль. Нет, не жаль… вас. Очень скоро прольется кровь. <…> Мы смеемся над вами, вы не люди, вы – свиньи. Мы – люди. Мы, а не вы. <…> Вы не сможете стать молодыми. Все, что вам остается, все, что вам следует сделать – это умереть. И весьма скоро. Совсем скоро. Завтра, например. Или даже сегодня [Ibid., p. 84].
Монолог Джеда содержит большое количество бранной лексики. Призывы к насилию Д. Осборн ассоциирует с фашизмом. Восторженные, в некоторой степени лиричные, речи Пети Трофимова «превратились» у героя Осборна в злобное стремление к разрушению и в пророчество смерти.
Конец пьесы английского драматурга пессимистичен: Вьетт нелепо погибает, на смену старой цивилизации приходит новая, несущая насилие и разрушение, опустошение души людей. Одна эпоха сменяется другой, а конфликт между духовными устремлениями человека и неизменным трагизмом будней остается. В связи с этим в пьесе Осборна звучит чеховский мотив «задавленного, убитого буднями праздника» [3, с. 63]. «Несостоявшийся праздник – это и запрещенное Серебряковым музицирование и несостоявшийся роман Астрова с Еленой Андреевной, и безответная любовь Сони к Астрову, и загубленная жизнь дяди Вани» [Там же, с. 66].
В произведении «К западу от Суэца» действующие лица приехали на остров на Рождество. Однако праздник не состоится, т.к. нелепый выстрел оборвал жизнь одного из героев. В связи с мотивом «убитого праздника» в пьесе английского классика появляется мотив приезда гостей, характерный для таких произведений А.П. Чехова, как «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад».
В пьесе Д. Осборна влияние чеховской драматургии проявляется не только в общности тем и мотивов, но и в сходстве созданных авторами человеческих типов. Английский драматург сознательно ориентируется на героев пьес А.П. Чехова. В его произведении мы встречаемся с писателями Вьеттом
Гиллманом, Эванджи, Оуэном Лэмом, врачом Эдуардом, учителем Робертом, с отставным военным Бригадиром, со студентом Джедом, – все они наделены легко узнаваемыми чертами чеховских персонажей. Их судьбы могут быть восприняты как жизнь действующих лиц пьес А.П. Чехова после финальной сцены. Причем Д.Осборн иногда «предлагает» возможные варианты судьбы героев чеховских пьес.
В образе Эванджи мы узнаем молодого Тригорина. Вьет Гиллман – Тригорин в конце его жизненного и творческого пути. «Войницкий Иван Петрович» (секретарь Кристофер), не найдя счастья в семейной жизни, находит себе другого «Серебрякова» (Вьетта Гиллмана). Возможен и другой вариант: он становится известным писателем, о чем можно предположить исходя из образа Оуэна Лэма. Осборн намекает на возможное сходство этих двух образов посредством «чеховской» ремарки.
А.П. Чехов сопровождает появление Войницкого в первом действии ремаркой садится на скамью, поправляет свой щегольской галстук . По воспоминаниям К.С. Станиславского А.П. Чехов говорил: «У меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, помещики лучше нас с вами одеваются» [18, с. 358]. Д. Осборн указывает в ремарке, что Лэм одет в дорогой костюм, носит клубный галстук [19, p. 49]. Эдвард напоминает Астрова пристрастием к спиртному и ироничным отношением ко всему, а Фредерика, скрывающая свои истинные чувства под «маской» скепсиса, – Соленого. Ее, как и чеховского героя, можно назвать «трагичным» шутом, что и делает Оуэн Лэм, говоря: Вы клоун, имеющий достоинства и недостатки [Ibid., p. 65].
Образы сестер в произведении Д.Осборна в какой-то мере являются намеком на женские образы пьесы А.П. Чехова «Три сестры». Доказательством может служить некоторое сходство сюжетных ситуаций. Маша замужем за Кулыгиным Федором Ильичом, учителем гимназии. Муж осборновской героини Мэри тоже учитель. Робин замужем за отставным бригадиром. После свадьбы они уехали жить на остров. Эта ситуация может быть воспринята как воплощение мечты Ирины и Тузенбаха.
Таким образом, пьеса Д. Осборна «К западу от Суэца» представляет собой феномен творческого переосмысления драматического наследия А.П. Чехова. Произведение английского классика построено в соответствии с основными принципами чеховского творческого метода. Д. Осборн стремился достичь в изображении внешней и внутренней жизни своих героев гармоничного единства. Английский драматург еще раз доказал, что произведения А.П. Чехова перестали быть только достоянием русской культуры. Пьеса «К западу от Суэца» может быть воспринята как опыт прочтения классического произведения в контексте событий XX в.
Список литературы Переосмысление творческого метода А.П. Чехова в пьесе Д. Осборна "К западу от Суэца"
- Алексееву К.С. (Станиславскому) 30 октября 1903 г.//А.П. Чехов о литературе. М., 1955.
- Бердников Г.П. Чехов-драматург: Традиции и новаторство в драматургии А.П. Чехова. М., 1972.
- Зингерман Б. И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.
- Жаравина Л.В. Парадоксы национальной самоидентификации в прозе Варлама Шаламова//Филология и культура. 2009. № 16. С. 30-36.
- Ковалев И. Ройал Корт: театр признанных традиций//Театр, 1972. № 6. С. 152-155.
- Красавченко Т. Чехов в зарубежном литературоведении//Вопросы литературы, 1985. № 2. С. 210-241.
- Кузичева А. Кончился ли «век Чехова»?//Театр,1993. № 3. С. 19-28.
- Паперный З. С. «Чайка» А.П. Чехова. М., 1980.
- Савина Л.Н. Идиллический хронотоп дворянской усадьбы и его отражение в автобиографических произведениях С.Т. Аксакова «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука»//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. 2012. Т. 68. № 4. С. 132-136.
- Семикина Ю.Г. Изображение опыта отцовства в художественных произведениях авторов-женщин конца XX начала XXI в.//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филологические науки. 2012. № 8. С. 136-139.
- Солодкова С.В. Православная метафизика в поэзии А.К. Толстого: «морской код» как художественный феномен//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. 2012. № 6(70). С. 105-109.
- Стрельцова Е. Вера и безверие. Поздний Чехов//Театр. 1993. № 3. С. 28-33.
- Сысоева Ю.Н. Формы художественной репрезентации ментальности в романе Малкольма Брэдбери «В Эрмитаж!»//В мире научных открытий. 2012. № 11. С. 43-52.
- Топалер Е. Театр Чехова//Чехов А.П. Пьесы. М., 1993. С. 3-6.
- Тропкина Н.Е., Рябцева Н.Е. Визуальная апперцепция пространства в русской поэзии второй половины XX в.//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. 2014. № 5 (90). С. 140-144.
- Чехов А.П. О литературе. М., 1955.
- Чехов А.П. Пьесы 1895-1904//Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Т. 13. М., 1986.
- Чехов в воспоминаниях современников. М.: 1986.
- Osborne J. West of Suez. London, 1971.