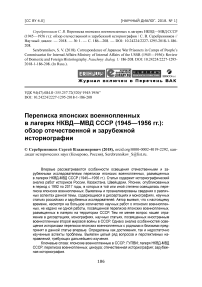Переписка японских военнопленных в лагерях НКВД-МВД СССР (1945-1956 гг.): обзор отечественной и зарубежной историографии
Автор: Серебренников Сергей Владимирович
Журнал: Научный диалог @nauka-dialog
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 1 (73), 2018 года.
Бесплатный доступ
Впервые рассматриваются особенности освещения отечественными и зарубежными исследователями переписки японских военнопленных, размещенных в лагерях НКВД-МВД СССР (1945-1956 гг.). Статья содержит историографический анализ работ историков России, Казахстана, Швейцарии, Японии, опубликованных в период с 1992 по 2017 годы, в которых в той или иной степени освещалась переписка японских военнопленных. Выявлены и проанализированы сведения о различных аспектах данной темы, содержащиеся в диссертациях и монографиях, научных статьях российских и зарубежных исследователей. Автор выявил, что к настоящему времени, несмотря на большое количество научных работ о японских военнопленных, не издано ни одной работы, посвященной переписке японских военнопленных, размещенных в лагерях на территории СССР. Тем не менее вопрос нашел отражение в диссертациях, монографиях, научных статьях, посвященных иностранным военнопленным второй мировой войны в СССР. Однако анализ особенностей освещения историками переписки японских военнопленных с родными и близкими предпринят в данной статье впервые. Определены как достижения, так и недостаточно изученные аспекты проблемы. Выявлен целый ряд вопросов и перспективных направлений, требующих дальнейшего изучения.
Японские военнопленные в ссср, гупви, лагеря нквд-мвд ссср, переписка военнопленных, цензура, отечественная историография, зарубежная историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14956901
IDR: 14956901 | УДК: 94(47).084.8+355.257.72(520)“1945/1956” | DOI: 10.24224/2227-1295-2018-1-186-208
Текст научной статьи Переписка японских военнопленных в лагерях НКВД-МВД СССР (1945-1956 гг.): обзор отечественной и зарубежной историографии
Одним из результатов советско-японской войны 1945 года стало пленение большей части Квантунской армии и размещение на территории СССР, по разным оценкам, от 540 до 610 тыс. бывших военнослужащих японской армии [Кузнецов, 2011, с. 580].
Видный российский историк военного плена Н. В. Суржикова писала: «…несмотря на экстремальные условия, в которые была поставлена страна, сталинское руководство нашло возможным одновременно с содержанием громадных масс военнослужащих и гражданского населения сохранить жизнь и содержать внушительное количество военнопленных. Их эвакуация с фронтов, оборудование лагерей в тыловых районах страны, охрана, обеспечение регулярным питанием, вещевым довольствием, медицинским обслуживанием, организация почтовых отправлений (выделено мной. — С. С. ) и трудового использования потребовали проведения колоссального объема работ и вложения значительных материальных средств, в том числе и в ущерб своим, советским, гражданам» [Суржикова, 2006, с. 388].
Но, несмотря на большое количество научных работ о японских военнопленных, к настоящему времени не издано ни одной работы, посвященной переписке японских военнопленных, размещенных в лагерях на территории СССР. Тем не менее, в той или иной степени, вопрос нашел отражение в диссертациях и монографиях о японских военнопленных, а также иностранных военнопленных второй мировой войны. Опубликован и целый ряд научных статей, авторы которых затрагивают интересующий нас вопрос. Однако анализ освещения историками переписки японских военнопленных с родными и близкими до сих пор не был осуществлен.
2. Переписка японских военнопленныхв публикациях российских историков 1990-х годов
Первым о переписке японских военнопленных написал историк из Улан-Удэ О. Д. Базаров. В 1992 году он упомянул о ней в небольшой статье, посвященной японским пленным, размещенным на территории Бурят-Монгольской АССР. Автор утверждал, что « к середине 1946 г. (выделено мной. — С. С.) положение военнопленных несколько улучшилось. Наладилась переписка с родными (выделено мной. — С. С.) » [Базаров, 1992, с. 73]. Других сведений, а также ссылок на документы, подтверждающие наличие переписки к середине 1946 года, он не привел.
В учебном пособии, изданном иркутским историком С. И. Кузнецовым в 1994 году, а также в защищенной им в том же году докторской диссертации вопрос о переписке японцев также нашел отражение. Историк отметил, что переписку с родными и близкими пленным разрешили в 1946 году (месяц не был указан), причем только на бланках «Письмо военнопленного», предоставляемых администрацией лагерей [Кузнецов, 1994а, с. 93]. С. И. Кузнецов первым из исследователей отметил, что для обработки писем военнопленных «во Владивостоке была создана цензура из числа переводчиков японского языка, здесь сосредотачивалась вся корреспонденция японцев» [Кузнецов, 1994а, с. 93]. Он указал, что цензура не разрешала пленным:
— упоминание о местонахождении лагеря,
— критику в адрес Советского Союза и Советской власти.
Далее историк отметил: «то, что цензурой расценивалось как крамола, добросовестно вымарывалось в письмах черной тушью» [Кузнецов, 1994а, с. 93]; «Письма, представляющие оперативный интерес, передавались цензорами руководителю цензорской группы» [Кузнецов, 1994а, с. 93].
И, наконец, историк отметил, что много лет спустя в Японии были опубликованы наиболее интересные из писем военнопленных, которые «доносят чувства бывших солдат по поводу разгрома японской армии и трагедии сибирского интернирования. Некоторые из писем оказались своеобразными произведениями эпистолярного жанра» [Кузнецов, 1994а, с. 93].
В его диссертации эти сведения из учебного пособия были повторно опубликованы.
Во второй половине 1990-х годов О. Д. Базаров и С. И. Кузнецов опубликовали монографии, в которых затрагивался вопрос о переписке японских военнопленных.
О. Д. Базаров не пишет, с какого времени японским пленным было разрешено отправлять письма. Но отмечает, что «до января 1948 года военнопленные могли не чаще, чем один раз в 2—3 месяца писать» [Базаров, 1997, с. 25]. Историк указывает, что пленные могли отправлять на родину только «открытые письма (на почтовых открытках)», и разъясняет, что они собой представляли: «Эти открытки были разделены на две части — на одной писалось письмо, а на другой половине ответ. Таким образом, в Японии не оставалось документальное свидетельство о военнопленном» [Базаров, 1997, с. 25]. Эти слова историка выглядят наивно. Во-первых, не оставалось само дошедшее до адресата письмо (открытка), если оно отправлялось обратно, в СССР. Но скопировать (сфотографировать) его было не трудно; во-вторых, «не оставалось, — как пишет историк, — документальное свидетельство» только в том случае, если из Японии ответ отправлялся.
-
О. Д. Базаров сообщает важные сведения из инструкции МВД № 00939 от 22 октября 1946 года, в которой пленным запрещалось сообщать определенные сведения в письмах:
— места дислокации лагерей,
— сведения о болезни и смерти японцев,
— сведения о промышленных объектах, о характере работ,
— сведения о жизни советских людей,
«и тому подобное», — заключает историк [Базаров, 1997, с. 25].
Корреспонденция тех, кто нарушил запреты, «арестовывалась», — указал историк [Базаров, 1997, с. 25]. И привел данные за 1947 год, в течение которого за нарушения установленных правил переписки «цензорским отделением было задержано около сорока тысяч писем военнопленных японцев [Базаров, 1997, с. 25]. Автор сослался при этом на данные Архива МВД Республики Бурятия (ф. 50-л).
О. Д. Базаров рассматривает ситуацию с перепиской военнопленных в духе концепции тоталитаризма и скептически оценивает возможность для многих из них связаться с родными и близкими. Он приводит целый ряд причин:
— перевод пленных из одного лагеря в другой,
— перевод в другой район СССР,
— направление в пункт репатриации,
— болезнь (если «кто-то попадал на больничную койку спецгоспиталя или гражданской больницы»).
Ответа от родных и близких при названных выше обстоятельствах, по мнению О. Д. Базарова, военнопленный уже не получал. При этом автор не привел цифр количества пленных, переведенных в другие лагеря, и не объяснил причины, по которым терялась возможность доставить ответ пленному, если он попал в госпиталь.
Завершая освещение вопроса о переписке японских пленных, О. Д. Базаров сообщил сведения о постоянных почтовых адресах лагерей и спец-госпиталя, находившихся на территории Бурятии: «лагерь МВД № 6 — «СССР, лагерь № 7006», лагерь МВД № 30 — «СССР, лагерь № 7030», спецгоспиталь № 944 — «СССР, лагерь № 2944» [Базаров, 1997, с. 25].
С. И. Кузнецов в своей монографии опубликовал тот же текст, который в 1994 году был размещен в его учебном пособии, но сделал небольшое добавление, касающееся фрагмента инструкции МВД от 22 октября 1946 года, запрещавшей военнопленным сообщать в письмах сведения о дислокации лагеря и др. (мы уже привели ее содержание в этом аспекте, анализируя монографию О. Д. Базарова) [Кузнецов, 1997, с. 118—119].
3. Освещение переписки японских военнопленных в публикациях российских историков 2000—2017 годов
В начале 2000-х М. Н. Спиридонов и С. В. Карасев защитили кандидатские диссертации, в которых впервые рассмотрели вопросы, связанные с пребыванием японских пленных в лагерях Красноярского края [Спиридонов, 2001] и Читинской области [Карасев, 2002], а С. Г. Сидоров в докторской диссертации, посвященной трудоиспользованию военнопленных в СССР, затронул и вопрос о переписке, в связи с тем, что руководство страны рассматривало переписку в качестве одной из мер, для того чтобы «поднять производительность труда, дисциплину военнопленных» [Сидоров, 2001, с. 134].
М. Н. Спиридонов уделил вопросу о переписке относительно много внимания. Освещение вопроса он начал с анализа Женевской конвенции от 27 июня 1929 года и советского «Положения о военнопленных» от 1 июля 1941 года. Историк привел сведения из названной конвенции о том, что каждый военнопленный имеет право в недельный срок после прибытия в лагерь послать сообщение своей семье о своем пленении и состоянии здоровья, а также отметил, что в советском документе также предусматривалось право пленного сообщить на родину о своем нахождении в плену «при первой возможности» [Спиридонов, 2001, с. 47]. Однако, подчеркнул историк, вопрос о переписке японских военнопленных был поднят лишь спустя почти год после того, как они оказались на территории СССР — 3 июля 1946 г. в докладной записке министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова на имя И. В. Сталина, В. М. Молотова и Л. П. Берия, а сама переписка официально была разрешена только 22 октября 1946 г. (выделено мной. — С. С .) приказом МВД СССР «О введении в действие инструкции о порядке переписки военнопленных японцев с их семьями, проживающими в Японии, Маньчжурии, Корее» [Спиридонов, 2001, с. 47]. Пишет М. Н. Спиридонов и о том, что «почтовая карточка военнопленного» с местом для обратного ответа такой была согласно специальной инструкции. Письма не на бланках и в страны, не фигурирующие в приказе от 22.10.1946 г., — отмечает историк, — не принимались [Спиридонов, 2001, с. 47].
М. Н. Спиридонов указал, что японскому военнопленному разрешалось отправлять родственникам одно письмо в три месяца, но при этом отметил, что «военнопленным, перевыполнявшим норму на производстве, разрешалось отправлять два письма в три месяца» [Спиридонов, 2001, с. 47].
Историк пишет, что письма отправлялись только со штампом «Проверено цензурой», а те, в которых, вопреки запрету, была информация о ме- стах дислокации предприятий, на которых работали пленные, характере выполняемой ими работы, сведения о других военнопленных, об их смерти, а также послания антисоветского содержания, подлежали конфискации [Спиридонов, 2001, с. 48].
Представляет большой интерес приведенный М. Н. Спиридоновым фрагмент воспоминаний военнопленного Есида Юкио о том, как встретили известие о возможности написать домой японские пленные. Помимо естественной радости от этого известия, некоторые из военнопленных, — как отметил Есида Юкио, — предположили, что «это ловушка или расследование нашего мышления, так как русское командование дало нам указание, что можно писать только буквами (ката-кана), то есть для русских будет легко прочитать и понять» [Спиридонов, 2001, с. 48].
В диссертации С. В. Карасева переписка японских военнопленных с родными и близкими не рассматривается. Лишь в разделе «Оперативночекистская работа в лагерях японских военнопленных» в числе задач, поставленных перед лагерной администрацией органами управления НКВД по делам военнопленных, была указана такая задача: «решение вопросов получения и отправки корреспонденции военнопленными» [Карасев, 2002, с. 120].
-
С. Г. Сидоров в своей диссертации, освещая различные аспекты, связанные с трудоиспользованием военнопленных, отметил, что переписка «рассматривалась как фактор, имеющий политическое значение и способствующий повышению производительности труда» [Сидоров, 2001, с. 184].
Историк отметил, что японским военнопленным переписка с родными и близкими была разрешена «лишь через год после разрешения переписки немцам, австрийцам, венграм и румынам» — 27 июля 1946 года распоряжением Совета Министров СССР [Сидоров, 2001, с. 184—185].
-
С. Г. Сидоров также указал, что японцы, в отличие от бывших военнослужащих западных армий, могли отправлять 1 письмо в 3 месяца на специальной почтовой карточке. И в качестве поощрения допускалась отправка еще одного такого письма [Сидоров, 2001, с. 185].
Также историк отметил, что за проступки японский пленный мог быть лишен права переписки на срок от 3 до 5 месяцев [Сидоров, 2001, с. 185]. Отметим, что о лишении японцев переписки как виде наказания, никто ранее не писал.
-
С. Г. Сидоров также обратил внимание на такой аспект, как попытки незаконного вывоза иностранными военнопленными при репатриации на родину писем и записок, взятых у товарищей. «Подобные записки не-
редко обнаруживались у инвалидов в ботинках, протезах и других тайниках <…> Лица, у которых обнаруживались письма и записки, от репатриации отстранялись», — отметил историк [Сидоров, 2001, с. 191]. Но исследователь не привел таких фактов в отношении японских пленных, находившихся в СССР.
В начале 2000-х годов вопросы, связанные с пребыванием иностранных военнопленных второй мировой войны в лагерях Западной Сибири, начала изучать Н. М. Маркдорф. В центре ее внимания были немецкие пленные, размещенные в этом регионе. Но в последние годы Н. М. Маркдорф вместе с А. А. Долголюком стала публиковать работы об иностранных военнопленных, размещенных на территории всего сибирского региона. В их монографиях, изданных в 2014 и 2016 годах [Долголюк и др., 2014; 2016], присутствует материал о переписке немецких военнопленных и работе сотрудников оперативно-чекистской системы по предотвращению несанкционированной переписки. Историки пишут о вскрытых нарушениях «правил перлюстрации лагерной переписки» немецких военнопленных лагеря № 526. Они отмечают, что имела место и несанкционированная переписка пленных немцев, которой способствовал лагерный персонал, переводчики из числа советских и интернированных немцев; этот персонал «в обход цензорских отделений отправлял письма военнопленных через городские почтовые отделения» [Долголюк и др., 2016, с. 260]. Но о подобных фактах в отношении японских военнопленных авторы не сообщают, как и в целом о переписке бывших военнослужащих японской армии.
Е. Л. Катасонова, опубликовавшая в первой половине 2000-х годов две монографии [Катасонова, 2003; 2005], а в 2004 году защитившая докторскую диссертацию [Катасонова, 2004], о переписке японских военнопленных говорит в контексте отношения к СССР со стороны бывших союзников по второй мировой войне в первые послевоенные годы, а также тревоги у населения Японии за судьбу своих соотечественников. Историк пишет: «Строго дозированная переписка, запрет на посещение лагерей любыми правительственными и общественными организациями, отказ от гуманитарной помощи пленным через иностранные посольства и миссии — <…><это> отнюдь не способствовало росту доверия к СССР» [Катасонова, 2004, с. 88; 2005, с. 60].
Во второй половине 2000-х годов С. В. Карасев опубликовал новую монографию и защитил докторскую диссертацию [Карасев, 2006; 2007], территориальные рамки которых охватывали все регионы СССР, где находились японские военнопленные. И хотя задачи его исследования предполагали освещение вопроса о переписке, данный вопрос не был раскрыт.
Как и в кандидатской диссертации, в числе задач, поставленных перед лагерной администрацией органами управления НКВД по делам военнопленных, автор указал: «решение вопросов получения и отправки корреспонденции военнопленными» [Карасев, 2002, с. 120; 2006, с. 259; 2007, с. 383]. Но далее отметил: «В силу специфичности вопросы, которые решались органами НКВД-МВД в лагерях военнопленных, не представляется возможным отразить в полном объеме, провести анализ этой работы по всем регионам СССР» [Карасев, 2006, с. 259; 2007, с. 383]. Вопрос о получении и отправке корреспонденции пленными японцами и в докторской диссертации, и в монографии (2006) не был освещен.
В 2016 году С. П. Ким защитил кандидатскую диссертацию, в которой фрагментарно рассмотрел вопрос о переписке японских военнопленных, находившихся на территории СССР. Историк отметил: «Переписка бывших японских солдат и офицеров была разрешена в октябре 1946 г.» [Ким, 2016, с. 247]. Но при этом в сноске историк указал, что «переписка для японских военнопленных была разрешена постановлением Совета Министров СССР № 9302-рс от 27 июля 1946 г.» [Ким, 2016, с. 247]. И тут же отметил: «Инструкция о порядке переписки была введена в действие приказом министра внутренних дел № 00939 «О введении в действие инструкции о порядке переписки военнопленных японцев с их семьями, проживающими в Японии, Корее, Маньчжурии» от 22 октября 1946 г.» [Ким, 2016, с. 247]. То есть, по мнению исследователя, разрешением переписки следует считать не постановление Совета Министров СССР, а введение в действие инструкции о порядке переписки военнопленных японцев с их семьями, что последовало 22 октября 1946 года.
Историк привел не публиковавшиеся ранее данные МВД СССР о том, что из 194 тыс. писем, отправленных японцами к 1 января 1947 года, «лишь в 15 % (в 29 100 письмах) из них были затронуты вопросы политического и идеологического характера. С 1 января по 1 октября 1947 г. японцами были отправлены 547233 письма. Из них положительные отзывы о “демократическом движении” в лагерях МВД и отдельных рабочих батальонах МВС содержали только 10 % (54723) писем, а резко негативные отзывы о нем присутствовали лишь в 2,8 % (15322) писем» [Ким, 2016, с. 173].
Интересна и информация С. П. Кима о располагавшемся во Владивостоке «цензурном управлении». Историк первым опубликовал сведения о штате управления, указав, что он «насчитывал всего 18 человек, включая начальника, двух оперативных сотрудников и 15 переводчиков» [Ким, 2016, с. 248], что было одной из причин «затягивания» процедуры проверки исходящей и входящей корреспонденции.
В том же, 2016-м, году Э.-Б. М. Гучинова опубликовала монографию, в которой говорится о переписке японских военнопленных, находившихся в сибирских лагерях. Э.-Б. М. Гучинова указывает, что переписка японским пленным была разрешена в июле 1946 года [Гучинова, 2016, с. 120]. Предложение о том, чтобы разрешить переписку японским военнопленным, было внесено руководителям страны министром внутренних дел СССР С. Н. Кругловым 3 июля 1946 года: «С. Н. Круглов докладывал руководителям страны, что с одной стороны, среди военнопленных японцев растут демократические настроения, а с другой, по данным МИДа, в Японии усиленно распространяют слухи о якобы невыносимых условиях жизни военнопленных японцев в СССР. В этой связи он предлагал разрешить обмен письмами между военнопленными и их семьями, проживающими в Японии, Маньчжурии и Корее, предоставив военнопленным японцам право посылать одно письмо в три месяца, а имеющим хорошие производственные показатели — два письма в три месяца» [Гучинова, 2016, с. 120].
В русле концепции тоталитаризма Э.-Б. М. Гучинова рассматривает действия военной цензуры и всю систему организации переписки, и, в частности, такие аспекты, предусмотренные правилами: «пустой бланк для ответа», требование к пленному делать запись в почтовой карточке «четким разборчивым почерком обязательно чернилами», и даже качество бумаги, на которой печатали открытки. Э.-Б. М. Гучинова пишет: «Тотальный институт простирал свои щупальца насколько мог: из лагеря в Японию шли одинаковые безликие открытки на серой бумаге, и из Японии в лагеря шли такие же одинаковые безликие открытки» [Гучинова, 2016, с. 120]. Но о каких письмах, в таком случае, писал С. И. Кузнецов (см. выше)? Он утверждал, что наиболее интересные из писем военнопленных, те, которые «доносят чувства бывших солдат по поводу разгрома японской армии и трагедии сибирского интернирования», были в Японии опубликованы [Кузнецов, 1994а, с. 93].
Э.-Б. М. Гучинова освещает работу цензоров: «Цензура проверяла письма из лагеря и письма в лагерь. Перед выдачей письма ставили штамп: проверено цензурой <…> Цензура не просто следила, чтобы нежелательная информация не уходила за рубежи СССР. Специальные сотрудники не только перлюстрировали почту, но и занимались контент-анализом переписки. Отдел цензуры регулярно отчитывался о настроениях пленных высшему должностному лицу в стране — тов. И. Сталину, копии посылали А. Жданову, В. Молотову, Л. Берии. Эти данные собирались по лагерям, суммировались и направлялись в министерство <…> Особо яркие письма переписывались для доклада начальству» [Гучинова, 2016, с. 121]. Письма отрицательного характера, — подчеркивает исследователь, — конфисковывались [Гучинова, 2016, с. 121].
Отметим и суждение Э.-Б. М. Гучиновой в отношении оценки работы политических органов, активистов, лагерной администрации в зависимости от анализа текстов посланий, отправляемых военнопленными на родину: «Чем больше было написано писем с позитивными отзывами об СССР, тем лучше считалась работа актива и лагерной администрации» [Гучино-ва, 2016, с. 121].
Завершим анализ работ российских историков обращением к трудам А. Л. Кузьминых [Кузьминых, 2014а; 2014б; 2016] и М. В. Ходякова [Ходя-ков, 2014а; 2014б; 2016], опубликованным в 2014—2016 годах.
А. Л. Кузьминых в диссертации, монографии и статье проанализировал организацию переписки иностранных военнопленных второй мировой войны в СССР. Опубликованный им материал (в том числе о переписке бывших военнослужащих японской армии), а также оценки и суждения следует оценить как значимые.
Историк отмечает, что органы НКВД-МВД отводили переписке большое значение в политической работе с военнопленными [Кузьминых, 2016, с. 334].
А. Л. Кузьминых, как и Э.-Б. М. Гучинова, напрямую связал принятие в июле 1946 году руководством страны решения о разрешении переписки между пленными японцами и их родными с желанием пресечь распространяющиеся в Японии слухи «о невыносимых условиях жизни военнопленных в Советском Союзе» [Кузьминых, 2014а, с. 89; 2016, с. 338]. Но, в отличие от Э.-Б. М. Гучиновой, не указал важную составляющую такого решения: рост демократических настроений среди пленных в связи с разворачивающейся политической работой в лагерях. А. Л. Кузьминых отметил, что военнопленным разрешалось сообщать не только информацию о состоянии своего здоровья, бытовых условиях, но и о политических настроениях [Кузьминых, 2014а, с. 88]. Но вряд ли руководство страны и МВД пошло бы на это, не будучи уверенным в положительных результатах политического «перевоспитания». Кроме того, к середине 1946 года стали видны первые результаты усилий по улучшению условий жизни японских пленных (по сравнению с осенью 1945 года) [см.: Серебренников, 2017а; 2017б; 2017в]. К тому же, очевидно, рассчитывали на то, что пленные будут в основном рассказывать о «благополучных» условиях в лагере из-за нежелания тревожить родственников, а также стремления «сохранить лицо» (ведь жаловаться на жизнь не очень красиво).
Значимы опубликованные А. Л. Кузьминых сведения о том, что с января по октябрь 1947 года «через цензорское отделение УМВД Приморского края отправлено за границу 547 233 письма пленных японцев», а из-за границы на их адреса поступили из Японии — 257 119, из Маньчжурии, Кореи и Южного Сахалина — 1789, а в целом — 258 908 писем [Кузьминых, 2014а, с. 89].
Ценен и приведенный историком анализ исходящей за период с января по октябрь 1947 года корреспонденции. Он важен с точки зрения оценки пленными их содержания в лагерях (удовлетворенность / неудовлетворенность условиями содержания, питания, медицинского обеспечения и т. д.), а также оценки эффективности политической работы среди них: «В процессе просмотра исходящей корреспонденции было выявлено писем с положительными отзывами: 65 % — о Советском Союзе, 17 % — о питании и содержании в лагерях, 10 % — о демократическом движении и коммунистической партии Японии. Писем отрицательного характера (недовольство условиями содержания и питания в плену) — 2,8 %» [Кузьминых, 2014а, с. 89].
А. Л. Кузьминых отметил, что лагерные начальники «регулярно информировали центр о содержании переписки, приводя в докладных записках характерные высказывания как положительного, так и отрицательного характера» [Кузьминых, 2016, с. 339].
Кроме того, А. Л. Кузьминых первым из исследователей затронул такой вопрос, как переписка иностранных граждан, осужденных военными трибуналами. Он указал, что распоряжением МВД СССР от 12 июня 1947 года № 370 сс переписка для таких иностранцев была запрещена, а 23 ноября 1949 был введен запрет на переписку всех категорий осужденных и подследственных военнопленных [Кузьминых, 2014а, с. 90; 2016, с. 340]. Но в апреле 1952 года осужденные японские военнопленные и интернированные получили право отправлять на родину письма. Это разрешение они получили спустя полтора года после соответствующего разрешения для осужденных немецких военнопленных [Кузьминых, 2014а, с. 90; 2016, с. 340341].
В монографии М. В. Ходякова, посвященной иностранным военнопленным второй мировой войны в лагерях НКВД-МВД СССР на территории Эстонии, затрагивается вопрос об их переписке с родными и близкими [Ходяков, 2016]. Кроме того, ранее он посвятил переписке много внимания в статье о настроениях иностранных военнопленных в лагерях НКВД-МВД, а также опубликовал специальную статью по этой проблеме [Ходя-ков, 2014б, с. 169—181; 2014а, с. 39—54].
Историк указывает, что «сам факт получения письма или открытки из дома оказывал огромное влияние не только на моральное, но и на физическое состояние людей <_> Вместе с тем, переписка становилась важнейшим каналом для получения информации о настроениях военнопленных, а также мощным пропагандистским рычагом в деле идеологической обработки военнопленных» [Ходяков, 2014а, с. 52].
М. В. Ходяков отметил, что согласно принятым правилам, подтвержденным распоряжением МВД СССР от 15 апреля 1947 года, закрытые письма не должны были ни отправляться, ни доходить до военнопленных [Хо-дяков, 2014а, с. 48]. Но вскоре, — указал автор, — ситуация с перепиской изменилась и советское руководство разрешило узникам войны «посылать один раз в квартал закрытые письма на родину» [Там же]. О возможности отправлять не только открытки, но и, с 1948 года, закрытые письма, писал и А. Л. Кузьминых [Кузьминых, 2016, с. 340]. Это нововведение преследовало цель, при видимой демократизации, усилить оперативный контроль за настроениями военнопленных.
Но, по нашим сведениям, никто из историков не писал о том, что японские военнопленные также отправляли (с 1948 года) закрытые письма.
4. Освещение переписки японских военнопленных в публикациях зарубежных исследователей 2000—2017 годов
Зарубежные исследователи, посвятившие свои исследования пребыванию японских военнопленных на территории СССР, также затрагивали вопрос о переписке.
Японский профессор Такэси Томита опубликовал работы [Томита, 2011; 2015; 2017], в которых освещен целый ряд важных вопросов, имеющих отношение к пребыванию японцев в лагерях СССР. В работах, изданных в 2011 и 2015 годах, он затрагивает вопрос о переписке. Характеризуя обращение с японскими пленными, он указал: «было грубо ограничено право на связь с внешним миром», хотя и отметил (через несколько строк), что «переписку с семьями военнопленным стали понемногу разрешать с осени 1946 года» [Томита, 2015, с. 538]. Осталось неясным: 1) что имел в виду японский историк, когда писал о грубом ограничении права на связь с внешним миром; 2) что означает фраза «переписку <…> стали понемногу разрешать с осени 1946 года» (в работах С. Г. Сидорова, А. Л. Кузьминых, Э.-Б. М. Гучиновой, С. П. Кима (см. выше), в сборнике документов «Японские военнопленные в СССР: 1945—1956» [Японские военнопленные …, 2013, с. 297] о постепенном (поэтапном) разрешении переписки не говорится).
В статье, опубликованной в 2011 году, Т Томита привел анализ, осуществленный во второй половине 1940-х годов сотрудниками штаб-квартиры оккупационных войск в Японии (GHQ). Они анализировали письма японских военнопленных, написанные в период пребывания в лагерях СССР, и письма, написанные ими уже после репатриации.
Представляют интерес оценки, которые привел Т. Томита в статье: «Письма японских военнопленных свидетельствуют о восстановлении советской экономики и об относительной эффективности советской идеологической обработки. Изменяется общая картина — власти удваивают усилия, чтобы знакомить японских военнопленных с советской действительностью. Условия проживания и работы улучшаются, а в некоторых лагерях даже разрешается контролируемое самоуправление (по данным анализа 129 000 писем в мае 1948 г.)» [Томита, 2011, с. 598].
Швейцарский исследователь Рихард Дэлер, подготовил и опубликовал в 2001 году дипломную работу «Японские военнопленные в сибирском плену 1945—1956 гг Переосмысление лагерных событий на словах и картинках» [Дэлер, 2001], а в 2006 году — диссертацию «Японские и немецкие военнопленные в Советском Союзе 1945—1956. Сравнение воспоминаний о пережитом» [Делер, 2006].
Он, в отличие от других авторов, сообщил: «переписка с семьей была вначале ограничена одной открыткой, объемом не более 25 слов», а затем «двумя — четырьмя письмами в год» [Дэлер, 2001, с. 10], но не разъяснил, как долго длилось ограничение количества отправляемых открыток (то есть как долго отправляли одну открытку в год). Говоря о двух — четырех письмах в год, он, возможно, имел в виду и дополнительные открытки, которые разрешено было отправлять тем пленным, кто перевыполнял производственные нормы.
Что же касается ограничения по количеству слов, то они, очевидно, диктовались размерами самой открытки. Вряд ли цензоры, о которых Рихард Дэлер также упоминает, считали количество слов.
Обращает на себя внимание и то, что в заключительном разделе диссертации он ничего не говорит о переписке (возможно, считая этот вопрос не таким важным, как другие) [Дэлер, 2006].
В последние два с небольшим десятилетия появились диссертации, ряд монографий и большое количество научных статей о пребывании иностранных военнопленных, в том числе японцев, в различных регионах Казахстана [Бекмагамбетов, 2014; Михеева, 2010; Жанбосинова, 2012; Жангуттин, 2008]. По данным, опубликованным Б. О. Жангуттином, к 1946 году в лагерях Казахской ССР содержались 27 648 японцев [Жан-гуттин, 2008, с. 112].
В этих работах дан обстоятельный анализ целого ряда вопросов: размещения военнопленных, их трудового использования, политической работы среди военнопленных и др.; однако переписка японских военнопленных и интернированных рассматривается в лучшем случае фрагментарно.
5. Выводы
Анализ работ показывает, что ряд исследователей (А. Л. Кузьминых, С. И. Кузнецов, С. Г. Сидоров, М. Н. Спиридонов, Т. Томита и др.) провели изучение вопросов темы и опубликовали значимый материал о переписке японских военнопленных, находившихся в различных регионах СССР, с родными и близкими.
К настоящему времени выявлено, что:
-
— переписка японских военнопленных с родными и близкими была разрешена лишь в середине 1946 года — то есть спустя почти год после их пленения и «лишь через год после разрешения переписки немцам, австрийцам, венграм и румынам» [Сидоров, 2001, с. 184—185]; японские пленные получили возможность писать родственникам, проживающим в Японии, Маньчжурии и Корее, и получать от них ответные послания;
-
— переписка японским военнопленным была разрешена не только с целью демонстрации Советским руководством соблюдения СССР норм международного права (положений Женевских конвенций 1929 и 1949 годов). Ее разрешили и для «разоблачения» активно распространявшихся в Японии слухов о «невыносимых условиях жизни военнопленных в Советском Союзе» (рассчитывая, что к родственникам пленных попадут проверенные цензурой письма (открытки) с положительными отзывами об условиях жизни в плену), и с целью усиления воздействия на самих военнопленных (нормализации внутрилагерной обстановки, укрепления дисциплины в лагерных отделениях, стимулирования роста производительности труда и т. д.). Учитывалось то, что письма из дома давали военнопленным моральную, эмоциональную поддержку, и в целом переписка улучшала микроклимат и атмосферу в лагерях. Наконец, переписка позволяла отслеживать настроения военнопленных, что повышало эффективность политической и оперативной работы;
— «цензурное управление» располагалось во Владивостоке; оно проводило большую работу по проверке исходящей и входящей корреспонденции. Управление насчитывало небольшой штат сотрудников — 18 чел., что не соответствовало потребностям и являлось одной из причин, по которой
«затягивалась» процедура проверки корреспонденции. Цензоры не просто следили, чтобы нежелательная информация не уходила к адресатам. Специальные сотрудники занимались контент-анализом переписки. «Особо яркие письма» (выражение Э.-Б. Гучиновой) переписывались для доклада начальству. Письма «отрицательного характера» конфисковывались. Чем больше было написано писем с позитивными отзывами об СССР, тем более высокую оценку получала работа лагерной администрации и актива;
— японцы могли отправлять одно письмо (почтовую карточку) в три месяца (военнопленным же германской армии разрешалось отправлять одну карточку в месяц [Кузьминых, 2014б, с. 397]). В качестве поощрения допускалась отправка японским военнопленным еще одного такого письма. За проступки японский пленный мог быть лишен права переписки на срок от 3 до 5 месяцев.
Вместе с тем обнаружилась потребность в специальном исследовании комплекса проблем, непосредственно связанных с перепиской японских военнопленных, находившихся в СССР в 1945—1956 годах. В подобном комплексном исследовании необходимо отразить и такие стороны этой темы, которые пока либо не освещены в исторической литературе, либо отражены фрагментарно, в том числе:
— необходимо выявить точные сведения о том, когда начала осуществляться переписка японских военнопленных с родными и близкими.
Трудно не согласиться с мнением С. Г. Сидорова, А. Л. Кузьминых и Э.-Б. М. Гучиновой о том, что официально переписка японских военнопленных была разрешена в июле 1946 года. Но не менее важным является вопрос о начале переписки. Фактическое осуществление переписки началось, судя по всему, с октября 1946 года. Об этом говорит следующее: отсутствие в исторических трудах заиксированных фактов переписки до октября 1946 года; опубликованная исследователями информация о приказе МВД СССР № 00939 «О введении в действие инструкции о порядке переписки военнопленных японцев с их семьями, проживающими в Японии, Маньчжурии, Корее» о т 22 октября 1946 года , а также инструкции, регламентировавшей порядок обмена почтовыми карточками.
В то же время остается неясным: почему С. П. Ким в своей диссертации написал: «Переписка бывших японских солдат и офицеров была разрешена в октябре 1946 г.», а в сноске указал: «Переписка для японских военнопленных была разрешена постановлением Совета Министров СССР № 9302-рс от 27 июля 1946 г. (выделено мной. — С. С.)» [Ким, 2016, с. 247]. Более логичной выглядит позиция М. Н. Спиридонова, который подчеркнул, что вопрос о переписке японских военнопленных «был поднят лишь 3 июля 1946 г. (выделено мной. — С. С.) в докладной записке министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова на имя И. В. Сталина, В. М. Молотова и Л. П. Берия», а сама переписка «официально была разрешена только 22 октября 1946 г.» (выделено мной. — С. С.) приказом МВД СССР «О введении в действие инструкции о порядке переписки военнопленных японцев с их семьями, проживающими в Японии, Маньчжурии, Корее» [Спиридонов, 2001, с. 47]. При этом М. Н. Спиридонов ничего не пишет о постановлении Совета Министров СССР № 9302-рс от 27 июля 1946 года.
Но совершенно ясно, что «наладиться», — как писал О. Д. Базаров, — к середине 1946 года [Базаров, 1992, с. 73] переписка никак не могла;
— необходимы более подробные данные о количестве открыток (и, возможно, писем), отправленных японскими военнопленными и интернированными, находившимися в СССР, а также направленных им из-за рубежа; о количестве единиц посланий, задержанных и конфискованных цензурой. Эти сведения необходимо выявить как в целом по стране за годы пребывания японцев на территории СССР, так и по конкретным регионам страны и лагерям японских военнопленных;
— требуется более детальное изучение вопроса о такой форме стимулирования добросовестного труда пленных, как разрешение отправлять на родину дополнительные письма (открытки). Пока же имеется лишь информация историков о том, что военнопленным, перевыполнявшим нормы на производстве, разрешалось отправлять не одно, а два письма в три месяца;
— требуется обстоятельнее выявить содержание тех докладных записок, которые территориальные УВД—УМВД регулярно направляли в центр, приводя в них наиболее характерные выдержки из переписки военнопленных с родными и близкими как положительного, так и отрицательного характера. «Письма, — как справедливо отмечает А. Л. Кузьминых, — являлись источником, содержащим информацию не только о положении в лагерях, но и о ситуации в странах, в которых проживали родственники военнопленных» [Кузьминых, 2014а, с. 89].
-
— нужен анализ выполнения приказов наркома (министра) НКВД (МВД), направленных на налаживание переписки японских военнопленных и ее регулирование; более полное выявление и анализ тех трудностей в организации переписки, которые имели место (нехватка бланков почтовых открыток, задержки корреспонденции в пути по различным причинам и т. д.);
-
— следует всесторонне осветить вопрос о цензурировании переписки японских военнопленных; также важно подробнее раскрыть этот канал получения информации о настроениях военнопленных;
-
— требуется выявить, разрешалось ли японским военнопленным писать, как военнопленным германской армии (с 1948 года), «закрытые» письма на родину и, соответственно, получать такие послания;
-
— необходимо выявить, имела ли место нелегальная («несанкционированная») переписка японских военнопленных, использование ими техники тайнописи;
-
— важно также более полно изучить вопрос о переписке японских военнопленных, находившихся под следствием и осужденных военными трибуналами;
Видный историк советского военного плена А. Л. Кузьминых отмечал, что переписка с родными и близкими являлась важным инструментом политической работы с военнопленными и интернированными. Она, во-первых, улучшала атмосферу и микроклимат в лагерях, во-вторых, позволяла следить за настроениями узников войны, что повышало эффективность политической и оперативной работы, в-третьих, стала важным аргументом СССР перед международным сообществом, свидетельствующим о соблюдении Советским государством принципов и норм международного права [Кузьминых, 2014а, с. 90].
Всесторонний анализ переписки, организации почтовых отправлений еще предстоит осуществить историкам, изучающим пребывание японских военнопленных на территории СССР.
Список литературы Переписка японских военнопленных в лагерях НКВД-МВД СССР (1945-1956 гг.): обзор отечественной и зарубежной историографии
- Японские военнопленные в СССР, 1945-1956: сборник документов/сост. В. А. Гаврилов, Е. Л. Катасонова. -Москва: МФД, 2013. -784 с.
- Базаров О. Д. «Сибирское интернирование»: японские военнопленные в Бурятии (1945-1948 гг.)/О. Д. Базаров. -Улан-Удэ: ВСГАКИ, 1997. -93 с.
- Базаров О. Д. Что известно о японских военнопленных, содержавшихся в Бурятии после окончания второй мировой войны/О. Д. Базаров//История Бурятии в вопросах и ответах. -Улан-Удэ: Сибирь, 1992. -Вып. 3. -С. 71-74.
- Бекмагамбетов Р. К. Военнопленные на территории Казахстана/Р. К. Бекмагамбетов. -Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014. -166 с.
- Галицкий В. П. Социально-психологические аспекты межгрупповых отношений в условиях военного плена/В. П. Галицкий//Социологические исследования. -1991. -№ 10. -С. 48-63.
- Гучинова Э.-Б. Рисовать лагерь. Язык травмы и памяти японских военнопленных о СССР /Э.-Б. Гучинова. -Режим доступа: http://src-home.slav.hokudai.ac.jp/kaken/Guchinova2016.
- Долголюк А. А. Военнопленные в Сибири (1943-1950 гг.): историческое исследование и документальные материалы/А. А. Долголюк, Н. М. Маркдорф. -Новосибирск: НГПУ, 2014. -Часть I. -254 с.
- Долголюк А. А. Иностранные военнопленные и интернированные в Сибири (1943-1950)/А. А. Долголюк, Н. М. Маркдорф. -Москва: Кучково поле; Императорское русское историческое общество, 2016. -544 с.
- Дэлер Р. Японские военнопленные в сибирском плену 1945-1956 гг. Переосмысление лагерных событий на словах и картинках: русское сокращенное изложение /Р. Дэлер//Interculture EU-RO-NI. -Режим доступа: http://eu-ro-ni.ch/publications/Liz_rus.pdf.
- Дэлер Р. Японские и немецкие военнопленные в Советском Союзе 1945-1956 гг. Сравнение их сообщений о пережитом: диссертация/Р. Дэлер//Interculture EU-RO-NI. -Режим доступа: http://eu-ro-ni.ch/publications/Di_rus.pdf.
- Жанбосинова А. С. Лагерная система Восточного Казахстана как составная часть ГУЛАГА-ГУПВИ/А. С. Жанбосинова. -Усть-Каменогорск: ВКГУ им. С. Аманжолова, 2012. -96 c.
- Жангуттин Б. О. ГУПВИ: военнопленные и интернированные на территории Казахстана (1941-1951 гг.)/Б. О. Жангуттин//Российская история. -2008. -№ 2. -С. 107-114.
- Карасев С. В. История плена: советско-японская война и ее последствия (1945-1956 годы): диссертация … доктора исторических наук: 07.00.02/С. В. Карасев. -Иркутск, 2007. -518 с.
- Карасев С. В. Проблемы плена в советско-японской войне и их последствия (1945-1956 годы)/С. В. Карасев. -Иркутск: ИрГТУ, 2006. -354 с.
- Карасев С. В. Японские военнопленные на территории Читинской области (1945-1949 гг.): диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.02/С. В. Карасев. -Иркутск, 2002. -225 с.
- Катасонова Е. Л. Последние пленники Второй мировой войны: малоизвестные страницы российско-японских отношений/Е. Л. Катасонова. -Москва: Институт востоковедения РАН, 2005. -257 с.
- Катасонова Е. Л. Решение гуманитарной проблемы японских военнопленных в отношениях СССР (РФ) и Японии (1945-2003 гг.). Исторический аспект: диссертация … доктора исторических наук/Е. Л. Катасонова. -Москва, 2004. -507 с.
- Катасонова Е. Л. Японские военнопленные в СССР: большая игра великих держав/Е. Л. Катасонова. -Москва: Институт востоковедения РАН; Крафт +, 2003. -432 с.
- Кузнецов С. И. Политика советского государства в отношении японских военнопленных советско-японской войны 1945 г./С. И. Кузнецов//Сибирская ссылка: сборник научных статей/ред. А. А. Иванов, С. И. Кузнецов, Б. С. Шостакович. -Иркутск: Оттиск, 2011. -Вып. 6 (18). -С. 580-591.
- Кузнецов С. И. Проблема военнопленных в российско-японских отношениях после второй мировой войны: учебное пособие/С. И. Кузнецов. -Иркутск: ИГУ, 1994а. -190 с.
- Кузнецов С. И. Японские военнопленные в СССР после второй мировой войны (1945-1956 гг.): диссертация … доктора исторических наук: 07.00.02/С. И. Кузнецов. -Иркутск, 1994б. -346 с.
- Кузнецов С. И. Японцы в сибирском плену (1945-1956 гг.)/С. И. Кузнецов. -Иркутск: Издательство журнала «Сибирь», 1997. -261 с.
- Кузьминых А. Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939-1956 годы)/А. Л. Кузьминых. -Вологда: Древности Севера, 2016. -527 с.
- Кузьминых А. Л. Организация переписки военнопленных и интернированных в СССР/А. Л. Кузьминых//Человек: преступление и наказание (Рязань). -2014а. -№ 2 (85). -С. 87-90.
- Кузьминых А. Л. Система военного плена и интернирования в СССР генезис, функционирование, лагерный опыт (1939-1956 гг.): диссертация … доктора исторических наук: 07.00.02/А. Л. Кузьминых. -Архангельск, 2014б. -579 с.
- Михеева Л. В. Иностранные военнопленные и интернированные второй мировой войны в Центральном Казахстане (1941 -начало 1950-х гг.)/Л. В. Михеева. -Караганда: МГТИ-Лингва, 2010. -208 с.
- Серебренников С. В. Вещевое обеспечение японских военнопленных на территории СССР в 1945-1956 гг. (страницы отечественной и зарубежной историографии)/С. В. Серебренников//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. -2017а. -№ 8 (121). -С. 159-171.
- Серебренников С. В. Медицинское обслуживание японских военнопленных в лагерях и спецгоспиталях Сибири и Дальнего Востока СССР (1945-1950 гг.) (вопросы отечественной историографии)/С. В. Серебренников//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -2017б. -№ 10 (84). -Ч. 1. -С. 152-159.
- Серебренников С. В. Продовольственное обеспечение японских военнопленных на территории Сибири и Дальнего Востока СССР (1945-1950 гг.): страницы отечественной историографии/С. В. Серебренников//Историческая и социально-образовательная мысль. -2017в. -Том 9, № 4. -Часть 1. -С. 64-80.
- Сидоров С. Г. Труд военнопленных в СССР. 1939-1956 гг.: диссертация … доктора исторических наук: 07.00.02/С. Г. Сидоров. -Волгоград, 2001. -428 с.
- Спиридонов М. Н. Японские военнопленные в Красноярском крае (1945-1948 гг.): проблемы размещения, содержания и трудового использования: диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.02/М. Н. Спиридонов. -Красноярск, 2001. -304 с.
- Суржикова Н. В. Новейшая отечественная историография проблем военного плена Второй мировой войны/Н. В. Суржикова//Историк в меняющемся пространстве российской культуры: сборник статей. -Челябинск: Каменный пояс, 2006. -С. 387-396.
- Томита Т. Архивные документы о японских военнопленных в Советском Союзе, 1945-1956 гг./Т. Томита//Сибирская ссылка: сборник научных статей. Иркутск: Оттиск, 2011. -Вып. 6 (18). -С. 592-609.
- Томита Т. Интернированные в Сибирь японцы и их участие в общественном движении после возращении на родину/Т. Томита//Российско-японские отношения в формате параллельной истории: коллективная монография. -Москва: МГИМО-Университет, 2015. -С. 531-561.
- Томита Т. Немецкие и японские военнопленные в СССР: сравнительно-историческая оценка/Т. Томита//Сибирская ссылка: сборник научных статей. -Иркутск: Оттиск, 2017. -Вып. 8 (20). -С. 453-463.
- Ходяков М. В. Иностранные военнопленные Великой Отечественной войны в лагерях НКВД-МВД Эстонии. 1944-1949 гг./М. В. Ходяков. -Санкт-Петербург: Бумажные книги, 2016. -320 с.
- Ходяков М. В. Переписка иностранных военнопленных в лагерях НКВД-МВД Эстонии во второй половине 1940-х гг./М. В. Ходяков//Новейшая история России. -2014а. -№ 2 (10). -С. 39-55.
- Ходяков М. В. «Я никогда не стану другом Советского Союза»: настроения иностранных военнопленных в лагерях НКВД-МВД во второй половине 1940-х гг./М. В. Ходяков//Петербургский исторический журнал. -2014б. -№ 1. -С. 169-181.