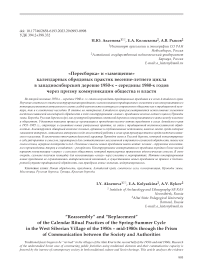«Пересборка» и «замещение» календарных обрядовых практик весенне-летнего цикла в западносибирской деревне 1950-х - середины 1980-х годов через призму коммуникации общества и власти
Автор: Аксенова И.Ю., Коляскина Е.А., Рыков А.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.
Бесплатный доступ
Во второй половине 1950-х середине 1960-х. гг. стали возрождать традиционные праздники и в селах Алтайского края. Изучение советского опыта конструирования праздников с использованием традиционных элементов и их коммуникативного потенциала является актуальным в свете слабой изученности и интереса в современном обществе как к традиционной культуре, так и к советскому наследию. В статье на материалах Алтайского края рассматривается использование элементов восточнославянской календарной обрядности в ходе конструирования «новых» праздников весенне-летнего цикла (Проводы зимы, Борозда, Русская березка и др.) как культурной практики советской деревни и коммуникативного акта между властью и обществом. Уделяется внимание процессу организации и проведения весенне-летних праздников в селах Алтайского края в 1953-1985 гг., структуре и семантике новых ритуальных практик, их связи с традиционной восточнославянской обрядностью. Анализируется обширный комплекс полевых, архивных и опубликованных источников, важное место среди которых занимают интервью, записанные авторами в ходе многолетней работы в селах края преимущественно среди восточнославянского населения. В заключении отмечается дуальный характер Проводов зимы и Русской березки, который концентрировал в себе ряд практик и смыслов, характерных для соответственно масленичной и троитско-семикской обрядности, такие как смена сезона, аграрное плодородие и т.д. Основные смыслы новых праздников имели мотив: человек труженик коллективного производства, творец и созидатель рекордсмен. Конструирование альтернативного праздника породило более мягкий вариант коммуникации «сверху» с сельским обществом, который транслировал правильные идеологические смыслы. В свою очередь, сельчане получили площадку для коммуникации «снизу» через участие в мероприятиях. Мотивы конструирования новых праздников не ограничивались антирелигиозной кампанией, а существование новых праздников не привело к бесповоротной утрате традиционной обрядности, она приобрела новые значения, модернизировалась.
Новая обрядность, праздники, алтайский край, советское село, коммуникация, проводы зимы, масленица, русская березка, троица, красная борозда
Короткий адрес: https://sciup.org/145146737
IDR: 145146737 | УДК: 394.2+398.332 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0993-0998
Текст научной статьи «Пересборка» и «замещение» календарных обрядовых практик весенне-летнего цикла в западносибирской деревне 1950-х - середины 1980-х годов через призму коммуникации общества и власти
«Пересборка» – конструирование новых праздников по образцу традиционных для их же «замещения», впервые появилась в 1920-е гг. как форма антирелигиозной пропаганды в рамках идеи формирования нового советского человека. Второе дыхание эта идея получила во второй половине 1950-х – середине 1960-х. гг., в этот период стали возрождать праздники и в селах Алтайского края. Изучение советского опыта конструирования праздников с использованием традиционных элементов и их коммуникативного потенциала является актуальным в свете слабой изученности и интереса в современном обществе как к традиционной культуре, так и к советскому наследию.
В изучаемый период вышло несколько изданий, описавших передовой опыт внедрения новых праздников в Алтайском крае, которые имеют значение как исторический источник. В.А. Липинская впервые обратилась к исследованию связи традиционных и советских календарных праздников в русских селах региона. Описав ряд праздников, в том числе весенне-летних, этнограф отметила их преемственно сть и гражданский характер [Липинская, 1989, с. 125–128]. Из современных исследователей отдельных аспектов темы касались Е.Ф. Фурсова, Т.Н. Золотова, М.А. Жигунова, И.Ю. Аксенова, Л.А. Явнова, С.И. Бондаренко и др. Стоит выделить статью А.В. Богочановой, затронувшей проблему вытеснения традиционных праздников новыми в свете антирелигиозной кампании периода оттепели [Богочанова, 2020]. Таким образом, в работах этнографов затронуты отдельные аспекты трансформации восточнославянских календарных праздников в 1950–1980-е гг. в селах края.
В данной статье на материалах Алтайского края рассматривается использование элементов восточнославянской календарной обрядности в ходе конструирования новых праздников весенне-летнего цикла как культурной практики советской деревни и коммуникативного акта между властью и обществом. Уделяется внимание процессу организации и проведения весенне-летних праздников в селах региона в 1953– 1985 гг., структуре и семантике новых ритуальных практик, их связи с традиционной восточнославянской обрядностью. В весенне-летний цикл новых календарных праздников входили Проводы зимы, Борозда, Русская березка и еще ряд сконструированных для замещения традиционных религиозных праздников Масленицы, Радоницы, Троицы и т.д.
Статья основана на обширном комплексе источников, важное место среди которых занимают интервью, записанные авторами в ходе длительной работы в селах края преимущественно среди восточнославянского населения.
К моменту принятия Постановления Совета Министров РСФСР 1964 г. в селах Алтайского края уже был опыт проведения новых праздников. Так, «Красная борозда» стала праздноваться в районных селах еще в 1928 г. (ГААК. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 250), ее возродили в 1954 г. в целинном совхозе «Ануйский» [Бондаренко, 2014, с. 19], а Проводы зимы – в 1955 г. в п. Садовый Третьяковского р-на (ГК 38082665). Возрождение календарных праздников в 1950–1960-е гг. советские этнографы связывали с интересом населения к народной традиции и работой по внедрению новой обрядности [Будина, 1989, с. 224; Липинская, 1989, с. 112]. На Алтае, возможно, причина этого, как и в целом активизации культурной жизни в селах края, была в освоении целины [Бондаренко, 2014, с. 20]. Но сложно говорить о массовом внедрении новых календарных праздников в регионе до середины 1960-х гг., когда началась государственная кампания и Исполком Алтайского краевого (сельского) Совета депутатов трудящихся принял решение № 204 «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах и выполнении Постановления Совета Министров РСФСР от 18 февраля 1964 г. “О введении в быт советских людей новых гражданских обрядов”» (ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 374. Л. 23-27). Хотя и после этого по официальны отчетам в большинстве районов края работа по внедрению в быт новых праздников проводилась эпизодически (ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 709. Л. 174).
Вопрос о планомерном замещении традиционных весенних праздников новыми не решается однозначно. Есть документы, свидетельствующие, что в 1960– 1970-е гг. в крае старались новые праздники проводить в дни традиционных (ГААК. Ф. Р-1960. Оп. 1. Д. 48. Л. 2, 4). Проводы зимы и Русская березка всегда устраивались в воскресенье и периодически совпадали соответственно с Прощеным воскресеньем и Троицей. Информанты, организовывавшие праздники в конце 1970-х–1980-е гг., утверждают, что их было сложно «подгонять» из-за погодных условий и привязки к периоду весенних полевых работ (ПМА, Аксенова, Коляскина). В некоторых случаях (умышленно или нет, сложно сказать) Проводы зимы приходились на Великий пост, что толкало сельчан на нарушение православной традиции. Был вариант привязки новых праздников к фиксированным датам (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 31). В середине 1970-х гг. День гражданской памяти вместо Родительского дня стали проводить 9 мая [Кривоносов, Фатеева, 1979, с. 94], как и во многих других районах страны [Руднев, 1979, с. 176–178]. Здесь уже можно видеть результат унификации праздничных культурных практик. Наложение новых праздников на даты традиционных могло способствовать их вхождению в народный календарь и постепенному вытеснению последних. В начале 1970-х гг. Проводы зимы и праздник Русской березки считались популярными праздниками.
Больше всего этнически маркировались как русские два праздника, что презентовалось в официальном дискурсе (публикации в газетах, тексты сценариев и т.п.) через вербальные формулы: в первом случае – «Прово- ды русской зимы», «герои русских народных сказок», «русские блины», «русские качели» и т.д. Во втором случае этнических элементов было меньше – «Праздник русской березки», «русская Березка» (главный персонаж) и «русские песни». На акциональном уровне это выражалось ношением участниками мероприятия «русской» одежды: шали, сарафаны, косоворотки и т.п. Предметно русская идентичность Проводов зимы маркировалась блинами, баранками и самоваром, предлагавшимися общепитом.
Многие весенне-летние новые праздники оформляли смену природных и сельскохозяйственных сезонов, что отражали их названия. Проводы зимы сохраняли символику перехода, умирание зимы и рождение весны, так в с. Шипуново: «Весна приезжала на этой же тройке, на санях, круг почета по площади дала, там, где пр аздник проводится, и эта же тройка увозила Зиму. Зима там со слезами как будто бы, с грустью покидала, ручками махала, ей тоже ручками махали» (ПМА, Аксенова, 2023, Шипуновский р-н).
Праздники Борозда, Первая борозда, Красная борозда и Русская березка оформляли начало или конец весенней посевной. Ритуализировали важнейшие эпизоды посевной: 1) проводы механизаторов в поле от центральной площади селения; 2) прокладка первой борозды в поле; 3) окончание посевной, которое отмечалось в местах отдыха возле населенного пункта (рощи, озера, острова) [Липинская, 1989, с. 128; Кривоносов, Фатеева, 1979]. Первая борозда сводилась к небольшому митингу и театрализации в честь начала полевого сезона, который мог сопровождаться смотром техники и проводами механизаторов в поле. В большинстве районов полномасштабное развитие получил праздник окончания сева – Борозда, в некоторых районах праздник Русская березка (ПМА, Аксенова, Коляскина). В Шипуновском, Алейском р-нах существует выражение, означающее конец посевной – «клин забили»: «Все засевается и вот последняя борозда – клин… где-то с 10 по 15 июня... Клин забивают в хозяйстве, последнюю борозду сделали, технику поставили, помыли и поляна» (ПМА, Коляскина, 2023, Шипуновский р-н, с. Шипуново). Основной смысл этих праздников был в чествовании передовиков – «маяков», рекордсменов производства, их поздравлении, награждении и т.д.
В.А. Липинская полагает, что данные праздники утратили древние ритуально-магические действия, связанные с аграрным плодородием [Липинская, 1989, с. 128]. С этим можно не согласиться, в посвящении в механизаторы/хлеборобы фигурировали клятва и прикосновение к «колхозной» земле [Храмцов, 1965, с. 45–48], украшения снопами колосьев прошлого урожая (рис. 1). Сам праздник приурочивали также к началу или окончанию посевной, выпуску из школы, профессионального училища. В целом, конечно, праздник символизировал высокий профессиональный статус земледельцев.

Рис. 1. Посвящение в хлеборобы, июль 1974 г., с. Гальбштадт, Немецкий национальный р-н. ГК. 39683881.
Символика праздников приобрела современное акциональное и предметное выражение. Так, на Проводах Зима передавала Весне рапорт о совершенных делах и мешочек с семенами [Фатеева, 1974, с. 21], а сжигали чучело, изображавшее пьянство, тунеядство, хулиганство, воровство, войну (ПМА, Аксенова). Поскольку сценарий мероприятия создавался сельскими работниками культуры, можно говорить о голосе «снизу», символическом озвучивании и уничтожении проблем. В процессе коммуникации между властью и обществом возникали гибридные праздничные культуры, в которых причудливо сочетались официальные установки и традиционные элементы [Рольф, 2009, с. 10].
Актором конструирования новых праздников выступало советское государство как обладатель монополии на идеологию. На уровне сельского общества они санкционировались местными органами власти. Акторами внедрения праздников были местные общественные организации, учреждения культуры, руководители хозяйств. После постановления Совмина 1964 г. и краевых распоряжений при каждом райисполкоме должны были создать комиссию (совет) «по контролю за соблюдением законодательства о культах и внедрению гражданской обрядности» (ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 374. Л. 26) из депутатов, представителей различных учреждений и общественных организаций села для разработки и обсуждения сценариев. На практике это делали работники культуры, а представитель местного партийного органа, отвечавший за идеологию, их утверждал (ПМА, Коляскина 2023). С 1966 г. центрами внедрения новой обрядности должны были стать ДК и иные культурно-просветительские учреждения (ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 709. Л. 176). Проведение праздника становилось демон- страцией престижа района или хозяйства, которые содержали учреждения культуры, что закреплялось в региональных изданиях и фоторепортажах (рис. 2).
Мотивы конструирования новых праздников не ограничивались антирелигиозной кампанией. На фоне повышения уровня образования сельчан, их мобильности, притока «городских» специалистов, сформировался запрос молодежи на профессионально организованную культурную жизнь в селе, «как в городе».
Наиболее активными субъектами были комсомольцы, они инициировали и готовили проведение первых праздников как направление комсомольской работы. Это сохраняло мотив молодежных гуляний, как и различные состязания на ловкость и спортивные соревнования – обязательный элемент новых праздников. Среди комсомольцев появлялись выпускники культпросвет училищ, включавшиеся в организацию новых праздников, получая возможность использовать этнокультурную память о практиках празднования традиционных праздников, сохранявшихся в семье (ПМА, Аксенова). Одним из каналов распространения сценариев новых праздников были центральные и краевые методические издания, с которыми знакомили на районных семинарах работников культуры (ГААК. Ф. Р-1041. Оп 1. Д. 412). Местные издания не предлагали разнообразных сценариев, но транслировали свой опыт передовые отделы и ДК через оформление тематических альбомов, диа- и кинофильмов (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 1).
Прослеживается определенная дуальность в организации праздников: с одной стороны, инициатива их создания шла сверху, сельчанам отводилась роль гостей, это подчеркивал акт приглашения на праздники через афиши, листовки, билеты, объявления в газете и по радио [Кривоносов, Фатеева, 1979],

Рис. 2. Проводы русской зимы в колхозе им. Гринько, 1976 г. (ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д.3956.).
с другой стороны, – организаторы старались вовлекать сельчан в подготовку праздников. В некоторых селах между жителями распределяли продукты для приготовления общих блюд, напр., пельменей (ПМА, Аксенова, 2013, Мамонтовский р-н, с. Мамонтово). Концерт художественной самодеятельности был стабильным элементом новых праздников, часто дополнялся конкурсами частушек, песни, художественного слова и т.п. Таким образом, появлялась возможность и площадка для проявления до определенной степени творческой инициативы и голоса «снизу», привлекался «народный театр». Советский праздник как явление культурной практики – пример пересечения многочисленных линий коммуникации между обладавшими всей полнотой власти и обделенными ею [Рольф, 2009, с. 10].
Для Проводов зимы и Русской березки в Алтайском крае торжественная часть но сила редуцированный характер, что было свойственно новым календарным праздникам, «идейно-воспитательное начало» реализовывалось в ходе основной развлекательной части [Будина, 1989, с. 226–227]. К их стабильным элементам, кроме концерта самодеятельности, можно отнести выездную торговлю. Наличие последней сближало новые праздники с ярморочны-ми гуляниями. В условиях дефицита товаров легкой промышленности и неразвитости общепита это был залог массовости праздника и праздничной атмосферы. В праздниках, оформлявших окончание сева, обязательной частью было общее застолье: «Борозду отмечали… Эту медовуху тогда возят от тель и гулянка… Вся деревна, вся-вся деревня гуляли. Вся деревня у клуба, там такая лужайка, полянка и на ей отмечали» (ПМА, Коляскина, 2001, Кытмановский р-н, с. Мишиха).
Из традиционных элементов Проводы зимы сохраняли: ряжение, катание с гор и на лошадях, костер, блины, они олицетворяли этот праздник: «Тройки запрягали, ездили, песни пели, гармошки играли. Там веселье и гулянья!» (ПМА, Аксенова, 2013, Мамонтовский р-н, с. Мамонтово). В ряде крупных сел воспроизводилась ранее существовавшая традиция устраивать конные скачки – «бегова бегали» (ПМА, Коляскина, 2003, Бийский р-н; ПМА, Аксенова, 2023). В Локтевском р-не бега проходили на Борозду (ПМА, Аксенова, 2021).
Праздник березки и Борозда имели элементы тро-ично-семикской обрядности: празднование в роще/ парке, украшение березовыми ветвями и цветами, участие молодежи, прежде всего девушек, антропоморфный персонаж – березка, девочки-веснянки [Фатеева, 1965; Кривоносов, Фатеева, 1979, с. 110–114] (ПМА, Коляскина). В Шипуновском р-не « Девчонки обычно бежали в поле, собирали цветы, плели венки. Членам бригады вручали цветы, а на березу ленточку привязывали. В конце праздника все нижние веточки березки оказывались завязанные » (ПМА, Аксенова, 2021, Шипуновский р-н, с. Шипуново).
Если новые праздники по дате совпадали с традиционными, то могли дополняться практиками празднования Масленицы, Троицы и т.д. Ритуальное значение здесь имели повседневные практики, связанные с питанием и досугом, особенно молодежи. Если не совпадали, то домашне-бытовая часть праздников ограничивалась общественными гуляниями (ПМА, Аксенова, Коляскина). К концу 1970-х гг. сложился достаточно обширный календарь «пересобранных» и советских праздников, которые конкурировали с традиционными, сохранявшимися на уровне семьи.
В заключении отметим, что произошло темпоральное и территориальное сжатие границ праздников до одного дня и преимущественно центральной площади, парка села или у клуба. Проводы зимы и Русская березка приобрели дуальный характер, переняв ряд практик и смыслов, характерных для соответственно масленичной и троитско-семикской обрядности, такие как смена сезона, аграрное плодородие и т.д. Остались невостребованными темы брачности, фертильности, и, конечно, христианства. Основные смыслы новых праздников имели мотив: человек – труженик коллективного производства, творец и созидатель – рекордсмен, маяк. Тема безрелигиозности новых праздников акцентировалась в большей степени в дискурсе нормативных документов, на уровне региональной печати и воспоминаний очевидцев она не так активно просматривается, на первый план выходит всеобщность мероприятий. Конструирование альтернативного праздника породило более мягкий вариант коммуникации «сверху» с сельским обществом, который транслировал правильные идеологические смыслы. В свою очередь, сельчане получили площадку для коммуникации «снизу» через участие в мероприятиях. Мотивы конструирования новых праздников не ограничивались антирелигиозной кампанией, а существование новых праздников не привело к бесповоротной утрате традиционной обрядности, она приобрела новые значения, модернизировалась.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 23-2801443,
Список литературы «Пересборка» и «замещение» календарных обрядовых практик весенне-летнего цикла в западносибирской деревне 1950-х - середины 1980-х годов через призму коммуникации общества и власти
- Богочанова А.В. Государственные преобразования в сфере праздничной обрядности в период хрущевской оттепели // Этнография Алтая и сопредельных территорий. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. пед. ун-та, 2020. - Вып. 10. - С. 319-323. EDN: JDQETG
- Бондаренко С.И. Исторические аспекты освоения целинных и залежных земель: значение, опыт, перспективы (к 60-летию целинной эпопеи) // Аграрная наука - сельскому хозяйству: сб. ст. 9th Междунар. науч.-практ. конф. (5-6 февраля 2014 года). Кн. 1. - Барнаул: Изд-во РИО АГАУ, 2014. - С. 18-22. EDN: ZHFRXR
- Будина О.Р Город и народные традиции русских: по матер. Центр. р-на РСФСР. - М.: Наука, 1989. - 254 с.
- Кривоносов Я.Е., Фатеева Н.И. Дни торжеств. - Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1979. - 208 с.
- Липинская В. А. Народные традиции в современных календарных обрядах и праздниках русского населения // Русские: семейный и общественный быт. - М.: Наука, 1989. -С. 111-141.