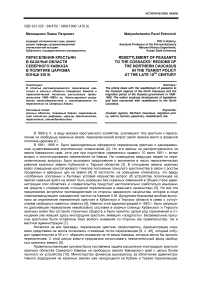Переселения крестьян в казачьи области Северного Кавказа в политике царизма конца XIX в
Автор: Матющенко Павел Петрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются переселения крестьян в казачьи области Северного Кавказа и переселенческая политика российского правительства 1880-1990-х гг. Анализируется разработка законодательства и законопроектов по переселению на Северный Кавказ.
Казачьи области, северный кавказ, переселенческая политика, реформы, царизм, крестьянство, переселения, законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/14935140
IDR: 14935140 | УДК: 323.325
Текст научной статьи Переселения крестьян в казачьи области Северного Кавказа в политике царизма конца XIX в
В 1880-е гг., в виду кризиса крестьянского хозяйства, усилившего тягу крестьян к переселению на свободные казенные земли, переселенческий вопрос занял важное место в аграрной политике царизма [1].
В 1881, 1889 гг. было законодательно оформлено переселение крестьян с одновременным существованием значительных ограничений [2]. Но эти законы не распространялись на земли Кавказского края, хотя уже при подготовке «временных правил» 10 июля 1881 г. встал вопрос о конституировании переселений на Кавказ. На «совещании сведущих людей по переселенческому вопросу» было высказано предложение о включении в число переселенческих районов казенных земель Кубанской и Терской областей [3]. В отношении земель казачьих войск совещание констатировало тяжелое положение пришлого крестьянства в связи с ростом продажных и арендных цен на землю [4]. В частности, на совещании отмечалось, что ввиду «особенных сословных и бытовых условий казачества вопрос об устройстве поселенцев на землях казачьих войск не может быть разрешен без коренных изменений в общем строе администрации этих областей» и «правительству предстоит неотлагательно озаботиться изысканием средств к упорядочению отношений переселенцев и казачьего начальства» [5]. Но все эти предложения встретили противодействие со стороны кавказского начальства, которое в лице главнокомандующего гражданской частью на Кавказе А.М. Дондукова-Корсакова вообще выступало за ограничение переселений крестьян в Кубанскую и Терскую области в связи с «отсутствием свободных казенных земель» [6]. Именно этой администрацией в 1863 г. было запрещено дальнейшее переселение невойскового сословия в казачьи станицы Кубанского и Терского казачьих войск без согласия станичных обществ и были приняты целый ряд ограничений в отношении уже живших здесь иногородних крестьян, имевших «оседлость». Безземельные пришлые крестьяне были оставлены безо всякого внимания со стороны как правительства, так и местной администрации [7].
Несмотря на все преграды, переселение крестьян продолжалось. Администрация никакими средствами не могла остановить стихийный поток переселенцев [8, с. 49], который побудил правительство в 90-х гг. обратить внимание на те земли Кавказа, которые могли бы принять переселенцев. С этой целью власти предлагали использовать незначительный фонд свободных казенных земель [9].
Правительственными кругами была поставлена задача расселения иногородних крестьян казачьих областей Северного Кавказа на свободных землях Кавказского края с целью более прочного их устройства [10]. Министерство финансов высказалось за облегчение административного водворения на казенных землях уже находящихся на Кубани и Тереке переселенцев.
Министерство государственных имуществ предлагало использовать помимо казенных земель избытки земель кочевых народов, а терская администрация рассчитывала на выселение из пределов области «хотя бы несколько аулов» [11].
Весной 1898 г. было возбуждено ходатайство о распространении переселенческого закона 13 июля 1889 г. на кавказские земли. К этому времени законом 31 марта 1897 г. были открыты земли Черноморской губернии для крестьян, принадлежавших к коренному русскому населению губерний и областей Европейской России и Кавказа [12]. Указанное ходатайство было рассмотрено на местности Северного Кавказа и Закавказья [13], имея целью водворение в них уже находящихся на Северном Кавказе переселенцев и «лишь попутно преследуя колонизационные цели» [14]. Допускались к этому переселению на свободные земли крестьяне только русского происхождения, православного вероисповедания, самостоятельно ведшие земледельческие хозяйства, хотя бы и на арендованной земле, имевшие достаточное количество рабочих рук в семье и не менее 300 руб. денег [15, с. 416-420]. Эти законы предусматривали опору на «сильных», зажиточных переселенцев.
На особых основаниях были наделены землею отставные нижние чины и другие поселенцы, водворившиеся в нагорной полосе с разрешения местного начальства до пожалования в 1889 г. этой (уже заселенной) земли кубанскому войску [16]. Этим поселенцам в 1898 г. было определено отвести по 30 дес. на душу, без предоставления войску какого-либо вознаграждения за эти земли [17, с. 46].
Заселение освободившихся от горских аулов земель вызвало в 1890-е гг. широкую волну крестьянских переселений, пополнивших число иногородних крестьян [18]. Именно поэтому Министерство земледелия и государственных имуществ, сочувственно относясь к необходимости поземельного устройства безземельных иногородних крестьян, ходатайствовало об их поселении на свободных землях областей Северного Кавказа [19]. Это противоречило решениям Военного Министерства. 4 ноября 1900 г. оно объявило, что все аульные земли Кубанской области заселены, и ходатайства рассматриваться не будут [20, с. 1065–1067]. Следующие попытки решения переселенческого вопроса были связаны с деятельностью Переселенческого управления. В Терской области отставные солдаты искали пути поселения на землях национальных округов [21].
Все дела, касающиеся водворения переселенцев на Кавказе, сосредотачивались в ведении чиновника особых поручений Переселенческого управления - заведующего переселенческой частью на Кавказе [22]. С этого времени на стол кавказской администрации и заведующего переселенческой частью стали ложиться сотни прошений от иногородних крестьян Кубани и Терека с просьбами поселить их на казенных землях [23]. Как правило, эти прошения надолго оставались не только без решения вопроса, но даже без ответа. Между тем поток переселенцев не прекращался. Только в степные районы Кубанской области в 1897-1913 гг. прибыло 123,6 тыс. переселенцев [24, с. 137, 146].
Кавказская администрация в своих циркулярах предписывала необходимость внушения должностным лицам крайней осторожности в ведении переселенческого дела «из опасения вызвать в безземельном населении Кавказа ложные надежды на надел всех желающих землею» [25]. Действительно, эти переселения существенной роли в облегчении положения иногородних крестьян не сыграли ввиду ограничений в выборе переселенцев (зажиточных) и наличия малого количества пригодных для переселения земель (по причинам бездорожья, неблагоприятных климатических условий, засушливости). Количество свободных казенных земель Кубанской и Терской областей было крайне ограниченным - на них могли быть поселены не более 5 тыс. семей [26]. Крестьян не удовлетворяли каменистые почвы горных районов Закавказья и Черноморской губернии [27]. Поэтому наиболее дальновидные представители административных кругов, подобно чиновнику переселенческого ведомства А.И. Шершенко, не рассматривали переселение крестьян с Северного Кавказа как сколько-нибудь серьезное средство разрешения здесь аграрного вопроса.
Основную часть иногородних крестьян Северного Кавказа составляли переселенцы из губерний Европейской России. Наибольшее их число на Кубань и Терек шло из Воронежской, Харьковской, Полтавской, Курской и других губерний [28]. По количеству неместных уроженцев по отношению ко всему населению Кубанская область занимала 3 место в России (33 %), уступая лишь Санкт-Петербургской и Томской губерниям, Терская - 16 место (12,9 %) [29]. Основой сельскохозяйственной жизни пришлых поселенцев было в основном хлебопашество. Оно приобрело такое значение «со времени образования частновладельческих участков, размежевания в 70-х гг. войсковых земель на юртовые довольствия» [30].
Главную роль в пополнении сельскохозяйственного пролетариата играли крестьяне - переселенцы. В Кубанской области в начале 80-х гг. 58 % неоседлых иногородних жили продажей своей рабочей силы [31, с. 55]. По отдельным станицам их число колебалось от 57 до 78 %. А среди оседлых иногородних свой труд продавали 13,1-24,4 %.
Неидентичные природно-географические, экономические и исторические условия Кубани и Терека предопределили существенные отличия в их заселении. Уже в 1897 г. численность иногородних в Кубанской области достигла 837 979 чел., что составило 47,9 % сельского населения области. 87 % семей иногородних проживали на казачьих землях в станицах, 9,8 % в селениях коренных жителей и только 3,2 % в горских аулах. Около 40 % иногородних крестьян не имели оседлости, жили на правах «квартирантов». В Терской области иногородних было значительно меньше – 147 569 чел. или 15,8 % населения области. Неместные уроженцы составляли 12,9 % всего населения. В казачьих отделах всего 12 % их населения составляли иногородние [32, с. 6]. Процесс заселения Терской области происходил в меньшей степени и позже, чем в Кубанской, поэтому и острота вопроса о безземельном населении казачьих областей была различной. В Терской она не достигла того уровня, который сложился на Кубани. Однако и на Тереке они были лишены земли и каких-либо существенных прав. Часть иногороднего населения поселялась на территории национальных округов. Этому администрация придавала особое внимание, так как считалось, что «распространение и развитие русских поселений среди горцев необходимо в целях скорейшего умиротворения края» [33, с. 28]. О целях и задачах колонизации в Терской области в связи с общими политическими намерениями правительства, А.А. Долгушин писал: «Правительство одобрительно отнеслось к явлению переселения, полагая, что приток русского земледельческого населения окажет значительное культурное влияние на туземное население в смысле приобщения его к мирному занятию земледелием, а также надеясь, что в смеси с русским населением туземцы скорее забудут свое обособление от русских и взаимную вражду» [34, с. 7–8].
Большой наплыв иногородних крестьян на Северный Кавказ, особенно в Кубанскую область, сыграл положительную роль для развития земледельческой культуры в крае. Местная администрация отмечала, что иногородние «явились для коренных жителей новаторами земледельческой культуры» [35]. Появление усовершенствованных сельскохозяйственных орудий в начале 1870-х гг. связывалось с переселенцами [36].
Русское крестьянство сыграло решающую роль в хозяйственном освоении Северного Кавказа. Его заслуга была велика в развитии производительных сил края, прогрессивном влиянии на казачье и горское население.
По своему глубокому значению на развитие хозяйственной жизни в казачьих областях Северного Кавказа законоположения 1860-х гг. о крестьянстве сыграли объективно – прогрессивную роль. Поток переселенцев оказывал влияния на казачьи хозяйства, способствовал развитию капиталистических отношений и подрыву основ казачьей общины. Решив уже на первом этапе реформ задачу колонизации и сельскохозяйственного освоения края, правительственные круги стали искать пути выхода из-за создавшегося противоречия новых капиталистических отношений старым феодальным отношениям казачьей станицы Северного Кавказа.
Уже к началу XX в. правительство и казачьи администрации Кубанской и Терской областей проявили полную неспособность в решении проблем, связанных с пришлым крестьянским населением. Главной из этих проблем была их земельная необеспеченность, но казачьи власти игнорировали тяжелое экономическое и правовое положение иногороднего крестьянства.
На втором этапе аграрного реформирования в аграрной политике царизма на казачьих землях Северного Кавказа преобладали «охранительные» феодальные тенденции. Царизм продолжал укреплять надельное и общинное землевладение и землепользование на Кубани и Тереке, игнорировал неупорядоченное земельное положение горских и иногородних крестьян. Царское окружение в лице высших чинов Военного министерства пыталось укрепить старые феодальные отношения, не меняя «средневековый способ пользования землей за службу».
Царское правительство вынуждено было считаться с буржуазным развитием. Во второй половине 1890-х гг. XIX в. – начале XX в. в аграрной политике царизма отмечается целый ряд уступок капиталистическому развитию. Обострение аграрного вопроса, связанное с революционными событиями 1905–1907 гг., вызвало дальнейшее рассмотрение земельных проблем Северного Кавказа в правительственных комитетах и комиссиях.
Ссылки и примечания:
-
1. Подробно вопрос о разработке переселенческих законов освещен в работах: Исмаил-Заде Д.И. Из истории переселения российского крестьянства на Кавказ в конце XIX – начале XX в. С. 322–339; Ее же. Русское крестьянство в Закавказье. С. 54–58, 94–112.
-
2. Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). СПб., 1891. Собр. 3. Т. 9. 1889. № 6198.
-
3. РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 4. Л. 53 об.; ЦГИА Грузии. Ф. 12. Оп. 10. Д. 2034. Л. 96.
-
4. Там же. Л. 84 об.
-
5. Там же. Л. 84.
-
6. РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Ж. З. 1899, Ж. Ст. 382. Д. 5387. Л. 11.
-
7. Абрамов Я. Поземельный вопрос на Кавказе // Терек. 1883. № 63; Нужды наших переселенцев Северного Кавказа.
-
8. Кривенко В.С. Очерки Кавказа. Вып. 1.СПб., 1893.
-
9. Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. СПб., 1891. Т. 26. № 177.
-
10. ЦГИА Грузии. Ф. 12. Оп. 1. Д. 2086. Л. 1; Ф. 12. Оп. 3. Д. 1. Л. 1, 3; ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 453.
-
11. РГИА Грузии. Ф. 12. Оп. 3. Д. 13. Л. 53а. С. 17, С. 19; Ф. 12. Оп. 3. Д. 1. Л. 47.
-
12. ПСЗ. СПб., 1905. Собр. 3. Т. 23 (Доп. к Т. 17. за 1897 г.). № 13915а.
-
13. Там же (Доп. к Т. 19 за 1899 г.). № 16768а; (Доп. к Т. 20 за 1900 г.). № 19455а.
-
14. РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 195. Л. 244.
-
15. Справочные издания Переселенческого управления Министерства внутренних дел. Вып. УП // Сборник узаконений и распоряжений о переселении. СПб., 1901.
-
16. ПСЗ. СПб., 1891. Собр. 3. Т. 9 (1889 г.). № 6103.
-
17. Кубанский календарь на 1900 г. Екатеринодар, 1899.
-
18. Кавказ. Тифлис, 1893. № 69, 79.
-
19. РГИА. Ф. 1149. Оп. 12 (1899 г.). Д. 96. Л. 3; ГАКК Ф. 318. Оп. 2. Д. 2002. Л. 10.
-
20. Сборник циркуляров начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска за 1879– 1900 г. Екатеринодар, 1901. № 619.
-
21. Из копий документов автора: ЦГИА ЧИ АССР. Ф. 32. Оп. 1. Д. 648. Л. 4, 24.
-
22. ЦГИА Грузии. Ф. 12. Оп. 3. Д. 212. Л. 38.
-
23. См.: ЦГИА Грузии. Ф. 12. Оп. 3. Д. 16, 27, 41, 42, 44, 46–50 и другие; Ф. 242. Оп. 1. Д. 5, 8, 24, 32, 35–45 и другие.
-
24. Всесоюзная перепись 1926 г. М., 1930. Т. 39.
-
25. ЦГА Республики Северная Осетия-Алания. Ф. 11. Оп. 1. Д. 550 (1586), Л. 3 об.; ЦГИА Грузии Ф. 12. Оп. 3. Д. 212. Л. 48 об.
-
26. ГАКК. Ф. 318. Оп. 2. Д. 2583. Л. 6, 8 об.
-
27. РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1160. Л. 95 об.; Ф. 1284. Оп. 194 (1903 г.). Д. 55. Л. 69.
-
28. Тихонов Б.В. Переселения из России во второй половине XIX в. М., 1978. Прилож. 1.
-
29. Там же. Прилож. 2.
-
30. РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1427. Л. 5.
-
31. Трехбратов Б.А. Наемный труд в сельском хозяйстве Юга России в период капитализма. Краснодар, 1980.
-
32. Ратушняк В.Н. Некоторые вопросы капиталистического заселения Северного Кавказа в конце XIX – начале XX вв. // Проблемы аграрной истории народов Северного Кавказа в дореволюционный период. Ставрополь, 1981.
-
33. Всеподданейший отчет начальника Терской области и Наказного атамана Терского казачьего войска за 1894 год. Владикавказ, 1895.
-
34. Долгушин А.А. О переселении в Терскую область из внутренних губерний. Владикавказ, 1907.
-
35. РГВИА. Ф. 330. Оп. 37. Д. 731. Л. 15 об.
-
36. РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1427. Л. 9, 9 об.
СПб., 1887. С. 7–8.