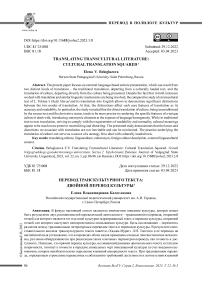Перевод транскультурного текста: двойной перевод культуры
Автор: Белоглазова Е.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Перевод в полилоге культур
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В фокусе настоящей статьи находится иноязычное описание культуры, которое может быть результатом двух разновидностей переводческой деятельности - традиционного перевода, отправной точкой для которого является тот или иной культурно-маркированный текст, и перевода культуры, отправной точкой для которого выступает непосредственно описываемая культура. Цель исследования - определить различия между традиционным литературным переводом текста и переводом культуры. В результате сопоставительного анализа транскультурного текста повести «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого и ее перевода на английский язык установлено, что в переводах обоих видов применены сходные лингвистические механизмы, различия обнаруживаются при реализации таких ключевых параметров перевода, как точность и доступность. Показано, что прямой перевод культуры, не скованный рамками оригинального текста и статусом вторичности, тяготеет к точности в передаче уникальных черт описываемой культуры за счет введения ксенонимов, которое неизбежно влечет нарушение языковой однородности текста. При традиционном переводе, отражающем стремление переводчика к соблюдению требований доступности и соответствия языковой норме, в большей степени искажаются и нейтрализуются культурные смыслы. Утверждается, что смысловые потери могут быть минимизированы. Практика перевода культуры, лежащая в основе транскультурной литературы, может послужить основой для адекватной стратегии перевода культурно-маркированных текстов.
Перевод культуры, лингвокультура, культуроним, иноязычное описание культуры, инолингвокультурный контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/149143735
IDR: 149143735 | УДК: 81’25:008 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.3.8
Текст научной статьи Перевод транскультурного текста: двойной перевод культуры
DOI:
Недавнее исследование, проведенное нами с Н.К. Генидзе и Ю.В. Сергаевой на материале корпуса заголовков Rossica-T [Beloglazova, Sergaeva, 2022; Белоглазова, Ге-нидзе, 2022], показало существенную негати-визацию образа России в современном международном пространстве. Это отношение уходит корнями глубоко в историю, варьируясь от настороженности до враждебности, и сохраняется до сих пор. Поэтому важно актуализировать один из немногих положительно маркированных слотов в концепте РОССИЯ, а именно слот «русская литература».
В то же время необходимо уточнить, что русская литература, оставаясь частью концепта и бренда РОССИЯ, уже давно вышла за их границы, став мировым достоянием, пополнив корпус «мировой литературы».
Мировая литература (World Literature, Weltliteratur) – термин, восходящий к трудам И.В. фон Гёте, был введен в активный научный оборот на рубеже XX–XXI вв. Дэвидом Дэмрошем, определившим ее как литературу, выигрывающую от перевода [Damrosch, 2003, p. 288]. В предисловии к «Longman Anthology of World Literature» Д. Дэмрош поясняет, что перевод не просто отражает с зеркальной точностью значение оригинала, но выступает призмой, в процессе преломления высвечивающей новые грани смысла канонического текста [Damrosh, Pike, 2009, p. xix].
Работы Д. Дэмроша – это не только апология мировой литературы, но и апология литературного перевода, который, по мнению исследователя, оказывается способным делать чужую литературу близкой, сохраняя в то же время культурную дистанцию, передавать уникальность конкретной культуры и, одновременно, ее глобальную универсальность [Damrosch, 2003, p. 164]. На комплимен- тарную оценку автора, удивительным образом, не влияют переводческие ошибки и вольности, примеры которых он приводит в обзоре «Reading in Translation» [Damrosch, 2018].
Противоположной оценки перевода произведений художественной литературы придерживается Э. Эптер, которая считает, что сама практика перевода, лежащая в основе формирования мировой литературы, такова, что в процессе его иная культура теряется [Apter, 2013]. Особенно если перевод осуществляется на английский язык, где к нему предъявляется требование «невидимости» [Venutti, 1995] и где «сглаживание» является универсалией [Baker, 1993]. Если перевод должен читаться легко и гладко, это значит, что его идиостилевость и идиокультурность должны быть нивелированы. Мировая литература действительно доступна и понятна всем, но это происходит за счет ее «присвоения» культурными гегемонами нашего мира и «втискивания» в традиционные шаблоны [Apter, 2013].
В справедливости рассуждений Э. Эптер легко убедиться, обратившись к анализу переводов русской классики. Так, при переводе романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» на английский язык происходит последовательная доместикация: все идиокультуронимы, за которыми стоят русские культурные реалии переданы аналогами принимающей культуры ( барин → gentleman , верста → mile , десятина → acre ). Фактически в результате деятельности переводчика произошла замена одной культуры на другую, создав у читателя впечатление, о котором Дж. Конрад писал, что для него Тургенев – это Констанс Гарнетт, а Констанс Гарнетт – это Тургенев (цит. по: [Davison-Pégon, 2010]).
Рассмотрим еще один пример критикуемых Э. Эптер «присвоения» и «втискивания в шаблоны» как практик, лежащих в основе мировой литературы: название оригинальной комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» с трудом узнается в переводах The Misfortune of Being Clever (перевод S.W. Pring), букв. ‘Несчастье быть умным’, и The Mischief of Being Clever (перевод B. Pares), букв. ‘Вред в том, чтобы быть умным’. При этом они устанавливают незапланированный автором диалог с комедией Оскара Уайльда The Importance of Being Earnest («Как важно быть серьезным»). Комедия Грибоедова с такими названиями начинает восприниматься сквозь призму произведения Уайльда, приобретая некоторую вторичность.
Мировая литература является порождением культурной глобализации и ее симптомом. Наступившая постглобализация – это уже эпоха транслингвальной и/или транскультурной литературы, которая по-прежнему тяготеет к глобальному охвату читательской аудитории, но при этом стремится донести до читателя уникальность каждой культуры.
Транслингвальный / транскультурный текст строится на эптеровской непереводимости, то есть на принципиальном непереводе непереводимого. Если мировая литература отражает перевод текста, в котором каждое слово находит свой эквивалент или аналог, то транслингвальная / транскультурная литература отражает перевод культуры, где культурное своеобразие не сглаживается, подменяясь на нечто понятное и, порой, банальное, но остается собой, обрастая при этом смыслом.
В настоящей статье на основе сравнения двух текстов, первым из которых является перевод культуры, а вторым – его перевод, продемонстрируем различия между этими разновидностями перевода.
Материал и методы
Перевод культуры неразрывно связан с нарушением границ между языками – границ тех «кругов», которые, по образному выражению В. фон Гумбольдта, языки очерчивают вокруг своих носителей, воплощая дух народа, его культуру [Гумбольдт, 1984]. Принципиальную проницаемость этих «кругов» обосновывает теория интерлингвокультурологии, в рамках которой В.В. Кабакчи формулирует принципы иноязычного описания культуры.
Кратко суммируем основные положения ин-терлингвокультурологии:
-
1. Язык формирует неразрывное единство со своей («внутренней») культурой, систематически выступая средством ее вербализации, чему служат идиокультуронимы – специальная терминология этой культуры, представляющая собой органическую часть словаря любого языка.
-
2. Любой язык может быть применен к описанию любой культуры. Не имея изначально средств выражения для особенностей «внешней» для него культуры, язык описания обогащается введением в него ее особых куль-туронимов – ксенонимов.
-
3. Способы введения ксенонимов варьируются по параметрам точности и доступности; в современной межкультурной коммуникации принципиальным является именно параметр ксенонимической точности, гарантирующей узнавание описываемого факта уникальной культуры, а не его подмену на инокультурный аналог.
-
4. Описание внешней культуры, то есть выход в область иной лингвокультуры, является в то же время и выходом за рамки языка описания: иноязычное описание культуры неизбежно сопровождается нарушением языковой однородности, кодовой гибридизацией (подробно об этих принципах см.: [Kabakchi, 2012]).
Введение в язык описания внешней культуры ксенонимов не случайно толкуется В.В. Ка-бакчи в переводческих терминах: фактически происходит именно перевод, но оригиналом выступает не текст, а культура, то есть происходит перевод культуры.
Исследователи считают важным отграничить описание внешней культуры от «функционально-родного варианта языка» – вторичного, но не чужого средства выражения своей культуры, в котором бывшие ксенонимы уже вошли в ядро культуронимической лексики [Кабакчи, Прошина, 2021, с. 170]. Граница между этими явлениями не всегда четко различима, особенно когда речь идет не о культурологическом трактате, а о художественном тексте, в котором при создании живого культурного ландшафта задействуется весь арсенал языковых ресурсов. Однако определить ее возможно, обратившись к рефлексии писа- теля над языком. Например, О. Грушин – американская писательница с русскими корнями – так характеризует свой творческий метод: «Я пыталась наполнить свой английский ощущением русскости, поскольку мне хотелось, чтобы роман передавал особое русское мироощущение. Я нередко сохраняла в английских предложениях русские обороты (надеюсь, оставаясь при этом в рамках английской грамматики), вкрапляла аллюзии на русскую классику и в целом пыталась через язык донести образ мышления всего поколения русской интеллигенции шестидесятых годов» (перевод наш. – Е. Б.) [10 Questions...]. Автор поясняет, что для передачи внешней культуры она вводит в язык описания иноязычные элементы («русские обороты», «аллюзии на русскую классику»), заботясь при этом о том, чтобы остаться в рамках нормы английского языка. Следовательно, очевидна дистанция между языком описания и описываемой лингвокуль-турой. Отметим, что при нативизации языка эта дистанция нивелируется.
Кратко остановимся на понятиях транс-лингвальности и транскультурности, находящихся в фокусе нашего внимания.
Эти термины предельно близки: 1) за счет общей для них модели и первого элемента «транс», вербализующего семантику пересечения, перехода границ между языками в одном случае и культурами в другом; 2) тесной взаимосвязи между языком и культурой, которую фиксируют такие терминологические обозначения, как лингвокультура [Кабакчи, Прошина, 2012; Карасик, 2022], лингвокульту-рология [Карасик, 2020]. Эта близость оправдывает синонимическое использование терминов. Так, З.Г. Прошина определяет транслин-гвальность как «плавный синергетический переход от одной лингвокультуры к другой» [Прошина, 2017, с. 160], отмечая, что эта практика легла в основу литературного направления, именуемого «транслингвальная / транскультурная литература, иногда также называемая контактной литературой» [Прошина, 2017, с. 162].
В то же время каждому из терминов может приписываться и особое значение, и хотя его уяснение может быть несколько затруднено за счет авторских переосмыслений терминов, попытаемся все же выделить их смысловые константы. Так, С. Келлман трактует транслингвальность достаточно широко, усматривая ее там, где автор использует более одного языка или язык, не являющийся для него родным [Kellman, 2003, p. ix]. Е.В. Харитонова и Р.Р. Чайковский рассматривают сквозь призму транслингвальности явление автоперевода [Харитонова, Чайковский, 2016]. При всех различиях этих подходов в целом речь идет о выходе за рамки своего языка в область, традиционно описываемую другими языками и носителями этих языков. Если исключить метафоры и авторские вольности, можно утверждать, что транслингваль-ность отражает ситуации неродноязычной языковой практики, обосновывая ее лингвок-реативность, базирующуюся на языковой гибридности.
Описывая транскультурность, М.В. Тло-станова отмечает, что «культуры встречаются, взаимодействуют, но не сливаются, сохраняя свое право на “непрозрачность”» [Тлос-танова, 2008, с. 28]. Встречаются культуры при посредстве языков благодаря способности языков быть обращенными как к своей родной («внутренней») культуре, так и к любой иной культуре, ко всему мультикультур-ному миру. При этом говорящий может оставаться в рамках родной для себя культуры, но прибегать в ее описании к иному языку, а может использовать родной язык для описания внешней для него культуры. Именно это различие и позволяет провести границу между понятиями транскультурности от транслин-гвальности. Самой своей формой термин «транскультурность» акцентирует тот факт, что говорящий выходит при этом за рамки родной культуры. Именно в таком значении этот термин был предложен Ф. Ортисом и использован им для описания сложных процессов формирования кубинского народа в результате столкновения с носителями внешних культур. В частности, это транскультурация иммигрантов-испанцев, которые были вынуждены приспосабливаться к новому культурному симбиозу.
Таким образом, под транскультурностью понимается экспансия языка (и его носителей) в область внешней для него культуры; в то время как под транслингвальностью – экспансия культуры в область иного языка, который
ПЕРЕВОД В ПОЛИЛОГЕ КУЛЬТУР применяется (приспосабливается) для ее описания.
С опорой на понятие транскультурности охарактеризуем повесть Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Этот русский текст передает нерусское (кавказское) мировосприятие, характеризуется лингвокультурной неоднородностью, описывая ситуацию экспансии русской культуры, приведшую к конфликту мироощущений. Перевод произведения на английский язык позволяет показать отличия перевода текста от перевода культуры.
Результаты и обсуждение
«Хаджи-Мурат» как перевод культуры
Л.Н. Толстой с редкой полнотой и доскональностью рисует в русскоязычном тексте образ внешней для русского языка культуры посредством ксенонимов кавказской культуры.
Наиболее частотным ксенонимом является заимствованное слово-реалия. Например:
-
(1) Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши , блины в масле, сыр, чурек – тонко раскатанный хлеб – и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце... Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо (ХМ).
В примере (1) концентрация таких ксено-нимов весьма высока, при этом лишь небольшая их часть сопровождается авторским пояснением ( чурек – тонко раскатанный хлеб ). В большинстве случаев функцию семантиза-ции выполняет контекст: такие единицы, как столик , чай , блины , задают гастрономическое поле интерпретации. Тот факт, что читатель не понимает нюансов описания, является частью запланированного эффекта: это другая культура, о которой читатель мало знает, и автор постоянно ему об этом напоминает.
Менее частотны ксенонимы – иноязычные вкрапления. Они призваны создавать особую лингвокультурную полифонию, позволяющую избежать абсурдной ситуации, отмеченной А.С. Пушкиным: «У Расина полускиф Ип- полит говорит языком молодого благовоспитанного маркиза» [Пушкин, 1978, с. 147]. У Толстого читаем:
-
(2) – Не хабар ? – спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»
– Хабар иок – « нет нового » – отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами (ХМ);
-
(3) «Ламорой твой Шамиль», – сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову. «Ламорой» было презрительное название горцев (ХМ).
Примечательно, что здесь заимствуются не культурные термины, не названия уникальных реалий, а риторические фигуры, дискурсивные обороты, позволяющие читателю слышать голос другого. Эти обороты ( не хабар , хабар иок , ламорой ) в тексте снабжены переводами-пояснениями. Смысловую нагрузку несет именно авторский перевод, а иноязычное вкрапление нужно для того, чтобы вызвать у читателя ощущение непонятности, непрозрачности, чужеродности другого.
В создании лингвокультурной полифонии участвуют и ксенонимы – риторические и фразеологические кальки:
-
(4) – Приход твой к счастью , – сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя (ХМ);
– Сыновья твои да чтобы живы были , – ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику (ХМ).
-
(5) – Хорошо, – сказал Хаджи-Мурат. – Веревка хороша длинная, а речь короткая (ХМ).
Фразеология – источник сведений о национально-культурных особенностях, стереотипных представлениях, мировоззрении народа – становится, таким образом, «достоянием языкового сознания» [Багаутдинова, 2007, с. 7]. Ксенонимы этого типа вскрывают внутреннюю форму языка и позволяют читателю приблизиться к мировидению говорящего.
Помимо лексики, идиоматики, речевых клише, ксенонимами могут выступать и грамматические особенности текста. Так, Л.Н. Толстой вводит в повествование формально эквивалентную глоссу иноязычной речи, комментарием акцентируя внимание читателя на отсутствии в имитируемом языке оппозиции ты / вы :
-
(6) – Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь, – сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку (ХМ).
Это важная черта характеристики переводчика-дипломата, единственного из русских, говорящего на языке Хаджи-Мурата и понимающего горцев.
Особую категорию ксенонимов составляют заимствованные когнитивные структуры описываемой лингвокультуры, которые автор доносит до нас через сеть метафор и сравнений:
-
(7) Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика (ХМ);
-
(8) Осман и Хаджи-Мурат были как орлы смелы, ловки и сильны (ХМ);
-
(9) Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову , как у нас говорят в горах, – начал он (ХМ);
-
(10) Она, как пчела , знала, в какое место больнее ужалить его (ХМ).
В приведенных метафорах превалирует домен естественной природы, частью которого в описываемой культуре осмысляется и человек.
Итак, мы кратко охарактеризовали стратегию описания кавказской культуры, которая строится на введении в текст системы ксе-нонимов различной природы, охватывающих в совокупности не только материальную культуру, но и образ мышления и речевое поведение ее представителей.
Горцам противопоставлены русские завоеватели, несущие на Кавказ свой язык, свою культуру, религию, образ жизни. Этому автор также уделяет существенное внимание, педантично описывая детали сельского, армейского и дворцового быта с использованием специальных культуронимов-русизмов:
-
(11) Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, – сказала старуха (ХМ);
-
(12) Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка? (ХМ);
-
(13) Только стал заряжать, ваше благородие , – заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, – слышу – чикнуло, смотрю – он ружье выпустил (ХМ);
-
(14) А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того скучаю, что зачем, мол,
за брата пошел. Он, мол, теперь царствует , а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно (ХМ).
В произведении можно обнаружить куль-туронимы-реалии, культуронимы – риторические обороты, культуронимы-метафоры.
Охарактеризуем стратегию портретирования культуры, используемую Л.Н. Толстым. Во-первых, автор уделяет большое внимание культурной информации, о чем свидетельствует детальность и точность описаний. В оценке надежности толстовского описания кавказской культуры мы опираемся на мнение А.А. Гаджиевой, заключающей, что текст повести «демонстрирует глубокие знания автора языков тюркской группы, умелое их использование» [Гаджиева, 2021, с. 84]. Во-вторых, для введения элементов внешней культуры в русскоязычное повествование Толстой использует арсенал приемов перевода с форенизирующим потенциалом – транслитерацию, калькирование – во избежание нейтрализации оппозиции культур. В-третьих, автор создает высокую концентрацию культурно маркированных элементов в ущерб понятности и доступности описания. Это свидетельствует о том, что культурная информация является доминирующей в смысловой структуре произведения. Основными носителями культурной информации в тексте становятся слова-реалии, имена собственные и обращения, риторические обороты, дискурсивные и когнитивные структуры, в совокупности создающие объемный и многосторонний образ описываемой культуры. В-четвертых, вербализацию кавказской и русской культур автор строит симметрично, используя сопоставимые семантические и формальные классы культуронимов, что способствует созданию четкого контраста сталкивающихся миров.
Перевод «Хаджи-Мурата» как перевод перевода культуры
Произведения Л.Н. Толстого, будучи частью мировой литературы, переводились на английский язык не единожды. В частности, имеются переводы «Хаджи-Мурата», выполненные А. Мод и Л. Мод (1912), Р. Пивером и Л. Волохонской (2009), К. Зиновьевым и Дж. Хьюз (2011). В наши задачи не входили оценка качества этих переводов, их сопоставительный анализ. Для выявления различий между переводом культуры и переводом текста мы остановились на первом переводе повести, выполненном А. Мод и Л. Мод, пережившем несколько переизданий. Выбор обусловлен тем, что переводчики были хорошо знакомы с Л.Н. Толстым (А. Мод принадлежит также авторизирован-ная Толстым биография писателя), высокая оценка переводов самим Толстым: «Better translators both for knowledge of the two languages and for penetration into the very meaning of the matter translated could not be invented» [Maude, 1905] – «Лучших переводчиков – как по уровню владения языками, так и по глубине проникновения в смысл переводимого – невозможно себе представить» (перевод с англ. наш. – Е. Б.).
Рассмотрим, как А. Мод и Л. Мод передали столкновение культур, представленное в повести. Приведем две серии примеров: фрагменты, которые мы привлекали для характеристики авторской стратегии портретирования культур, и их переводы.
Серия 1. Передача в переводе элементов кавказской культуры
-
(15) – Не хабар ? – спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: « что нового ?» (ХМ) → “Ne habar?” (“Is there anything new?”) asked Hajji Murad, addressing the old man (HM, p. 5);
-
(16) – Приход твой к счастью , – сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.
– Сыновья твои да чтобы живы были , – ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику (ХМ) → “ May thy coming bring happiness! ” said she, and bending nearly double began arranging the cushions along the front wall for the guest to sit on.
“ May thy sons live !” answered Hajji Murad (HM, p. 4);
-
(17) – Расскажи мне ( по-татарски нет обращения на вы ) все с начала, не торопясь, – сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку (ХМ) → “ Thou must tell me” ( in Tartar nobody is addressed as “you” ) “everything, deliberately from the beginning,” said Loris Melikov drawing a notebook from his pocket (HM, p. 58);
-
(18) Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову , как у нас говорят в горах, – начал он (ХМ) → “Write: Born in Tselmess, a small
aoul, ‘the size of an ass’s head ,’ as we in the mountains say,” he began (HM, p. 59).
Приведенные фрагменты иллюстрируют точную передачу кавказских ксенонимов всех видов, а также авторских переводов-комментариев.
При переводе фрагментов, в которых описана кавказская культура, эпизодически встречаются случаи сглаживающего перевода.
-
(19) Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него (ХМ) → ...murids, who caracoled and showed off before him (HM, p. 8);
-
(20) Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:
– Джигит, джигит (ХМ)
→ Hadji Murad, his eyes turned down, sat stroking the boy’s curly hair and saying: “ Dzhigit, dzhigit!” (HM, p. 41).
Так, в примере (19) сглаживается культурно маркированный глагол джигитовать , при том, что в других контекстах (см. пример (20)) переводчики сохраняют однокоренное опорное слово dzhigit .
Серия 2. Передача в переводе элементов русской культуры
-
(21) Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, – сказала старуха (ХМ) → The Elder has been and orders everybody to go and work for the master , carting bricks,” said the old woman (HM, c. 43);
-
(22) Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка? (ХМ) → “What a smart chap you are, Avdeev!... As wise as a judge ! Now then, lad” (HM, p. 11);
-
(23) Только стал заряжать, ваше благородие , – заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, – слышу – чикнуло, смотрю – он ружье выпустил (ХМ) → “I was just going to load, your honor , when I heard a click,” said a soldier who had been with Avdeev; “and I look and see he’s dropped his gun.” (HM, p. 29);
-
(24) А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует , а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже (ХМ) → “And yet, will you believe me, Panov, it’s chiefly because of that that I feel so dull now? ‘Why did you
go instead of your brother?’ I say to myself. ‘He’s now living like a king over there, while you have to suffer here;’ and the more I think of it the worse I feel.” (HM, p. 13).
Как показывает вторая серия примеров, применительно к культуронимам-русизмам доминируют стратегия сглаживания – нейтрализации культурной маркированности, а также некоторая небрежность, приводящая к неточностям перевода: прокурат значит «ловкач» и к юридической системе отношения не имеет; your honor – обращение, жестко привязанное к судье, является спорным соответствием для ваше благородие . Не преследуя цели дать обзор переводческих ошибок, мы лишь хотели отметить асимметрию в отношении переводчика к маркерам разных культур.
Выборочное сглаживание в описаниях кавказской культуры и сплошное сглаживание в описаниях русской культуры может приводить к размыванию границы между культурами, столкновение между которыми является центральной темой произведения.
Так, барин и мюрид сливаются в переводе в широкозначном master ; выборный в русской деревне и старики чеченцев сливаются в elder ; шапка старика отца Петра Авдеева, фуражка императора Николая, шляпа-треуголка князя Чернышева, папаха Эльдара сливаются в cap .
В доказательство значимости стертых в переводе различий приведем мнение социолога, политолога, экономиста (не лингвиста и не культуролога) С. Хантингтона: «...флаги имеют значение, как и другие символы культурной идентификации, включая кресты, полумесяцы и даже головные уборы, потому что имеет значение культура, а для большинства людей культурная идентификация – самая важная вещь» [Хантингтон, 2003].
Заключение
Л.Н. Толстой тщательно, педантично описывает сталкивающиеся культуры, уделяя особое внимание таким макрокультурным параметрам, как религия и язык. Текст изобилует специальной лексикой, где военная номенклатура, реалии быта, вербализованные культуронимами соответствующих культур, выстраиваются в четкие оппозиции.
При этом кавказские ксенонимы оказываются более концентрированными и рельефными, поскольку требуют от автора особых усилий для их введения, которые и придают ксенонимам особую значимость. Симметричные элементы оппозиции – идиокультуронимы-русизмы – сливаются с языком описания, являясь его органической частью. Разный статус культуронимов – идионимов русской культуры и ксенонимов кавказской – вносит асимметрию в изначально симметричную антитезу Толстого. Эта асимметрия становится очевидной в переводе текста на английский язык.
Обобщим наши наблюдения. Во-первых, описание русской культуры, воспринимаемое читателем и переводчиком как органичное лингвокультурное единство, подвергается сглаживающему переводу, в котором все идиокуль-турное содержание нейтрализуется. Во-вторых, описание кавказской культуры, которое отличает обычная для транскультурных текстов кодовая гибридность, встроенные авторские комментарии, изначально лишено столь ценимой в переводах гладкости. Соответственно, и перевод оказывается свободным от этого требования, а переводчик, уполномоченный примером автора, волен не жертвовать точностью передачи культурно значимой информации, но сохранять лингвокультурную полифонию, хотя и в ущерб доступности текста читателю. В результате первичный перевод описания русской культуры оказывается менее точным, чем перевод перевода кавказской культуры. В-третьих, результатом различных стратегий перевода применительно к фрагментам текста, обращенным к русской и кавказской культурам, является искажение авторского замысла произведения, поскольку в англоязычном переводе в значительной степени стирается столкновение культур, а элементы сглаживающего перевода создают несуществующую в оригинале зону культурной общности.
Абстрагируясь от текста, послужившего отправной точкой для наших рассуждений, можно отметить следующее:
– перевод традиционно легко относится к нейтрализации культурной информации, что оказывается нормой даже для культурно нагруженных текстов. Это то, что Э. Эптер называет тотальным переводом, подрывающим ценность переводной литературы. В лучшем случае такой перевод теряет культуру, в худшем – подменяет культуры;
– транскультурная / транслингвальная литература – реакция на мировую литературу с ее культурным выхолащиванием – является примером перевода культуры, который можно и, наверное, логично инкорпорировать в технологию перевода в целом.
Список литературы Перевод транскультурного текста: двойной перевод культуры
- Багаутдинова Г. А., 2007. Человек во фразеологии (антропоцентрический и аксиологический аспекты): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Казань. 45 с.
- Белоглазова Е. В., Генидзе Н. К., 2022. Стереотипное и творческое в заголовках Rossica: корпусное исследование // Известия Восточного института. № 4. С. 104-113. DOI: 10.24866/2542-1611/ 2022-4/104- 113
- Гаджиева А. А., 2021. «Свое» и «чужое» в бикуль-турном художественном пространстве // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2, Гуманитарные науки. № 2. С. 81-84.
- Гумбольдт В. фон, 1984. Избранные труды по языкознанию / пер. с нем. Г. В. Рамишвили. М.: Прогресс. 400 с.
- Кабакчи В. В., Прошина З. Г., 2012. В чужой монастырь со своим лингвокультурным уставом: обращение // Личность. Культура. Общество. Т. 14, № 1 (69-70). С. 164-173.
- Кабакчи В. В., Прошина З. Г., 2021. Лексико-се-мантическая относительность и адаптивность в переводе и межкультурной коммуникации // Russian Journal of Linguistics. Т. 25, № 1. С. 165-193. DOI: 10.22363/26870088-2021-25-1-165-193
- Карасик В. И., 2020. Перспективы развития современной лингвокультурологии // Перспективные направления современной лингвистики. М.: РУДН. С. 26-31.
- Карасик В. И., 2022. Щедрость как ценность русской лингвокультуры // Общая и русская лингвоак-сиология. Ярославль: Канцлер. С. 14-39.
- Прошина З. Г., 2017. Транслингвизм и его прикладное значение // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. Т. 14, № 2. С. 155-170. D0I:10.22363/2312-8011-2017-14-2-155-170
- Пушкин А. С., 1978. О народной драме и драме «Марфа Посадница» // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. Критика и публицистика. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние. С. 146-152.
- Тлостанова М. В., 2008. От философии мультикуль-турализма к философии транскультурации. М.: РУДН. 251 с.
- Хантингтон С., 2003. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка. М.: АСТ. URL: https://gtmarket. ru/library/basis/3893
- Харитонова Е. В., Чайковский Р. Р., 2016. Авторский перевод как форма транслингвизма // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. № 2 (50). С. 140-145.
- Apter E., 2013. Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. L. ; N. Y.: Verso. 382 p.
- Baker М., 1993. Corpus Linguistics and Translation Studies: Implications and Applications // Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins. P. 233-250.
- Beloglazova E. V., Sergaeva Yu. V., 2022. Titular Creativity in Rossica: Can You Know a Book by Its Cover? // Когнитивные исследования языка. № 2 (49). P. 516-520.
- Damrosch D., 2003. What Is World Literature? Princeton, Oxford: Princeton University Press. 324 p.
- Damrosch D., 2018. How to Read World Literature. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell. 216 p.
- Damrosch D., Pike D. L., 2009. Preface // Longman Anthology of World Literature. 2nd ed. London ; N. Y.: Pearson / Longman. P. ху-xix.
- Davison-Pegon C., 2010. No Smoke Without Fire? Mrs Garnett and the Russian Connection // Cahiers Victoriens et edouardiens. Vol. 71 (Printemps). DOI: 10.4000/cve.2827
- Harrison N., 2014. World Literature: What Gets Lost in Translation? // The Journal of Commonwealth Literature. Vol. 49, № 3. P. 411-426. DOI: 10.1177/ 0021989414535420
- Kabakchi V. V., 2012. Formation of Russian-Culture-Orientated English // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. Vol. 5, №> 6. P. 812-822.
- Kellman S., Lvovich N. (eds.), 2022. The Routledge Handbook of Literary Translingualism. N. Y. ; L.: Routledge. 426 p.
- Kellman S., 2003. Switching Languages: Translingual Writers Reflect on Their Craft. Lincoln ; L.: University of Nebraska Press. 339 p.
- Maude A., 1905. The Translating of Russian // The Saturday Review. Vol. 99, iss. 2567. P. 17.
- Ortiz F., 1995. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. Reprint: N. Y.: Knopf, (1940) 1947.
- Durham, NC ; L.: Duke University Press Books. 408 p.
- Venutti L., 1995. The Translator's Invisibility. A History of Translation. L. ; N. Y.: Routledge. 353 p. 10 Questions with Olga Grushin. URL: https:// www.politics-prose.com/book-notes/10-questions-olga-grushin
- ХМ - Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат. URL: https://www.litres.ru/lev-tolstoy/hadzhi-murat/
- HM - Tolstoy L. Hadji Murad / transl. by A. Maude. Mineola ; N. Y.: Dover Publ., 2009. 160 p.