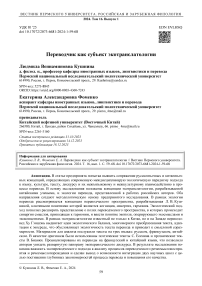Переводчик как субъект экотранслатологии
Автор: Кушнина Л.В., Фоменко Е.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка выявить сопряжение русскоязычных и китаеязычных концепций, определяющих современную междисциплинарую экологическую парадигму подхода к языку, культуре, тексту, дискурсу и их межъязыковому и межкультурному взаимодействию в процессе перевода. В основу исследования положены концепции экотранслатологии, разрабатываемой китайскими учеными, и экологии перевода, представленной в работах российских авторов. Оба направления создают методологическую основу предпринятого исследования. В рамках экологии перевода рассматривается концепция переводческого пространства, разрабатываемая Л. В. Кушниной, ключевыми понятиями которой являются когниция, синергия, гармония. Экологический подход позволил расширить представление о полях переводческого пространства, в которых происходит синергия смыслов, приводящая к гармонии, и ввести понятие экополя, оперирующего экосмыслами и экоконцептами. В рамках экотранслатологии известный не только в Китае, но и на Западе переводовед Ху Гэншэнь выдвигает идеи экологического баланса, многомерного преобразования текста, адаптации к экосреде, что обусловливает экологичность текста перевода и приводит к смысловой соразмерности. Материалом для анализа послужили тексты на трех языках: русском, французском, китайском. В качестве оригинала были использованы поэтические тексты С. Есенина и прозаические тексты В. Бианки. Проанализированы их переводы на французский и китайский языки, что позволило авторам увидеть развернутую панораму экопереводческого дискурса. В результате исследования показана важность экопереводческого подхода к анализу процессов переводческого речесмысловосприятия и речесмыслопорождения и сделан вывод о возможности интеграции двух научных школ с целью постижения глубинных закономерностей процесса перевода и повышения его качества.
Экотранслатология, экология перевода, экосреда, переводческое пространство, субъект, когнитивная деятельность переводчика, адаптация, экополе, экосмыслы, смысловая гармония
Короткий адрес: https://sciup.org/147243398
IDR: 147243398 | УДК: 81’25 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-1-59-68
Текст научной статьи Переводчик как субъект экотранслатологии
Исследовательское поле современного когнитивного переводоведения сформировалось в начале XXI в. на основе принципов антропоцентризма и когнитивной лингвистики. Описывая когнитивные схемы языковой интерпретации, Н. Н. Болдырев раскрывает значимость когнитивного подхода к языку: «…Когнитивный подход к исследованию языка предполагает не столько изучение объективных характеристик его единиц и категорий, сколько способов восприятия мира человеком, представленных в языковой семантике» [Болдырев 2016: 10]. В рамках этих размышлений логично возникает вопрос о связи языковых значений и смыслов с концептуальной системой человека, его языковым сознанием, которое «…интегрировано в когнитивную систему человека и сопровождает разные виды его взаимодействия с миром…» [там же: 11]. Эти идеи ученого в полной мере можно отнести к переводу, в частности, к экопереводу, акцентирующему внимание на взаимодействии когнитивной системы человека и экосреды.
В фокусе нашего исследования находится процесс взаимодействия переводчика и меняющейся, динамичной экосреды. Нас интересует, каким образом переводчик как субъект адаптирует свои действия к требованиям экосреды, чтобы получить качественный, гармоничный перевод. С этой целью мы предприняли сопоставительный анализ русско-китайских и русско-французских переводов художественного поэтического текста, что позволит нам выявить различные способы восприятия мира переводчиком-субъектом, возможности конструирования текста перевода в сознании переводчика, способности его адаптации к принимающей культуре и к выбору средств субъективной репрезентации мира в тексте перевода. Признавая значимость языковой личности переводчика в современной когнитивной парадигме перевода, мы отдаем предпочтение экологическим концепциям перевода: во-первых, экологии перевода, представленной в исследованиях одного из авторов данной статьи, во-вторых, работам китайских ученых в связи с тем, что соавтор статьи живет и работает в КНР.
В рамках данной статьи мы намерены обсудить две научные концепции перевода, которые существуют в российском и китайском перево-доведении. И если воззрения китайских ученых восходят к древней китайской философии, то российские авторы опираются на идеи эколингвистики и экологии языка, впервые сформулирован- ные американскими исследователями Э. И. Хаугеном и М. А. К. Халлидеем в 1970-е гг. и получившие дальнейшее развитие в рамках некоторых лингвопереводческих школ России.
Уточним, что идея сопряжения экотранслато-логии и экологии перевода возникла в результате того, что один из авторов данной статьи, будучи участником цикла конференций «Экология языка на перекрестке наук» в Тюменском государственном университете, в 2011 г. ввел термин «экология перевода» (см. работы: [Кушнина, Юзманов 2011; Кушнина 2012; Кушнина, Плюснина 2016]). Второй автор живет и работает в КНР, поэтому имеет возможность изучать труды китайских ученых в оригинале, самостоятельно переводить их на русский язык и проводить сопоставительные исследования в этом направлении (Е. А. Фоменко).
В качестве базового мы выбрали термин эко-транслатология , который известен не только в Китае, но и в Европе благодаря знакомству с трудами Ху Гэншэня и других представителей данного направления [Hu Gengshen 2020].
Прежде чем изложить нашу позицию, представим трактовку термина «эколингвистика», предложенную Н. Н. Белозеровой: «…под термином “эколингвистика” мы объединяем такие направления в области языка и смежных наук, как “экологическая стилистика” (ecostylistics), “эко-критический анализ дискурса” (eco-critical discours analysis), “экологическая поэтика” (ecocriti-cisme) и “экология перевода”» [Белозерова, Лабунец 2012]. В своих исследованиях Н. Н. Белозерова выдвигает идею «…имманентности природы человеку, понимаемую как осознаваемое человеком собственное единство с окружающим миром, что находит отражение и в эколингвистике, и в экологии перевода как смежной науки в области исследования языка» [Белозерова 2010: 199].
Представим наши исходные позиции. Начнем с того, что экология перевода является продолжением концепции переводческого пространства как синергетической модели перевода [Кушнина 2011 и др.] Понимая перевод как процесс взаимодействия языков и культур, мы представляем его в виде совокупности гетерогенных полей и вычленяем три поля субъектов переводческой коммуникации и три текстовых поля. В расширенном виде мы сочли возможным вычленить отдельное, природно-биологическое поле, в котором происходит синергия экосмыслов. В данной работе мы предлагаем обозначить его как экополе, что является лаконичным и отвечает идее экологичности перевода, выдвинутой китайскими исследователями. Речь идет о смыслах, генерирующих взаимодействие человека (лирического героя или любого другого персонажа, деятеля, индивида, личности, субъекта и пр.) и окружающей среды (природная среда, культурная среда, социальная среда, историческая среда и др.). В результате этого взаимодействия происходит синергия смыслов как в фатическом поле (поле культуры), так и в природно-биологическом поле, что может простираться на переводческое пространство в целом. Именно синергия смыслов приводит к гармоничному переводу, т. е. к достижению культуросообразности в фа-тическом поле и природосообразности в природно-биологическом поле.
Перейдем к изложению позиции китайских исследователей в области экопереводоведения или экотранслатологии. Как было сказано выше, наибольшую известность приобрели работы Ху Гэншэня. Его концепция представлена на русском языке З. Г. Прошиной в работе «Экоперево-доведение как модель переводческой деятельности» [Прошина 2016]. Ученым вводится понятие экопереводческой среды, включающей следующие компоненты: текст, язык, переводчик, автор, рецептор, заказчик. Важнейшими параметрами экоперевода являются переводческий выбор и адаптация. Центральная фигура переводческого процесса – переводчик. Выбор трактуется двояко: сначала выбирается переводчик, компетенций которого достаточно для перевода заданного текста. Затем переводчик осуществляет выбор стратегии и языковых средств, чтобы адаптировать текст к принимающей экосреде [там же].
На наш взгляд, понятие экосреды является важнейшим для исследования экоперевода. В наших предыдущих работах этого понятия не было. В качестве экосреды мы подразумеваем принимающую культуру. Вероятно, следует рассматривать культуру как компонент экосреды, включая в нее всех субъектов переводческой коммуникации. Кроме того, в своих работах мы не выделяли такого субъекта, как заказчик перевода, о чем пишут китайские лингвисты. И это также значимый фактор экоперевода. Что касается идеи адаптации и выбора, они полноценно представлены в наших работах. Переводчик адаптирует текст к принимающей культуре, а это означает, что каждая культура требует соблюдения собственных норм, т. е. характер адаптивной деятельности переводчика варьируется от одной культуры к другой. Идея выбора в переводе также не нова. Переводчик всегда стоит перед выбором, прежде чем принять переводческое решение.
Целесообразно напомнить, что термин «адаптация» имеет междисциплинарный характер, что показано в исследовании О. В. Кожевниковой и А. А. Черновой на материале русского и английского языков [Кожевникова, Чернова 2021]. Авторы обращаются к эволюции данного термина в истории науки: от значения «состояние приспособления к обстоятельствам или взаимосвязи» (1670-е гг.) к значениям «модификация объекта в соответствии с новыми условиями (1790-е гг.) и «вариативности живых организмов в соответствии с меняющимися условиями» (1859 г.). Очевидно, что термин «адаптация» релевантен для оценки экологичности перевода.
О значимости адаптации пишет также Н. В. Дрожащих при исследовании экологии языка и культуры: «Текст и его ключевые концепты, как компоненты культуры, несут в себе адаптивный когнитивный потенциал, отражая способы оперирования информации со средой» [Дрожащих 2011: 29]. Из этого высказывания мы заключаем, что текст перевода призван реализовать адаптивный когнитивный потенциал текста оригинала.
Для понимания сущности экотранслатологи-ческого подхода китайских ученых обратимся к работе Ху Гэншэня 《胡庚申 生态翻译学——建 构与诠释 胡庚申》 “Eco-Translatology: Construction and Interpretation” [ 胡庚申 2013] . В одном из разделов автор раскрывает содержание одного из принципов экологичности перевода – многомерное преобразование. Это означает, что экологическая трансляция смыслов опирается на идею взаимодействия множества факторов при переводе, включающих языковые, психологические, коммуникативные, эстетические, что способствует поддержанию экологического баланса.
В данной работе особый интерес вызывает непосредственный экопереводческий анализ, проводимый автором. Предлагается перевод высказывания с английского языка на китайский: The last one is delicious, bring me another one!
Коммуникативная ситуация, которую должен знать переводчик, следующая: это надпись в зоопарке на клетке с крокодилом. По задумке авторов, надпись сделана с юмором, от лица крокодила, с намерением предупредить посетителей зоопарка и в то же время привлечь их. Автор статьи приводит три варианта перевода этой надписи на китайский язык и анализирует их качество с позиций реализации экологичности перевода, экологического, гармоничного соотношения между текстами оригинала и перевода.
Приведем варианты перевода на китайском языке и их обратный перевод с китайского языка на русский.
-
1. Переводчик Шэнь Нань 申楠 , студент 2 курса: 上一个好吃,再带来一个 Предыдущее было вкусным, угостите еще [ 胡庚申 2013: 264].
-
2. Переводчик Фан Мэньчжи, профессор Шанхайского университета 方梦之: 鳄鱼份人, 禁止人水 ! Крокодилы расчленяют людей, строго запрещено входить в воду еще [ 胡庚申 2013: 266].
-
3. Переводчик, чье имя не указано: 人肉 真香,再来一又 ! Вкусная человечина, принесите еще! Кроме того, перевод сопровождается изображением кровожадного крокодила с огромной пастью [ 胡庚申 2013: 267].
Приведем кратко комментарии исследователя. В первом случае языковые факторы удачно учтены, но коммуникативные не отражены. Перевод признан неэкологичным. Во втором случае текст звучит как приказ, который не учитывает культурные факторы. Нет ни юмористических оттенков, ни обращения к посетителям от первого лица. Перевод признан неэкологичным. Третий вариант перевода признан экологичным, так как, во-первых, визуальное изображение крокодила означает, что текст произнесен от первого лица, что придает юмористический эффект, во-вторых, отражены культурный и коммуникативный факторы [ 胡庚申 2013].
Мы считаем, что принцип многомерных преобразований ради сохранения экологического баланса является значимым и для экологии перевода, в связи с чем полностью солидаризуемся с автором данной работы Ху Гэншэнем.
Нельзя не заметить, что в нашей концепции одним из ключевых понятий экологии перевода, как и перевода в целом, является гармония. В китайском переводоведении также поднимается вопрос о гармонии, но категория гармонии рассматривается сквозь призму категории противоречия [Лань Хунцзюнь 蓝红军 , Фэн Лися 冯丽霞 2022; Чжу Юй 朱瑜 2008]. Представленный выше пример Ху Гэншэнь признает гармоничным.
Прежде чем приступить к изучению роли переводчика как субъекта экотранслатологии, считаем целесообразным внести некоторые коррективы в наше видение переводческого пространства, включающего природно-биологическое поле. Опираясь на принятые в китайской научной традиции понятия экоперевода, экосреды и др., мы предпочли заменить введенный нами ранее термин природно-биологическое поле на термин экополе . Он представляется более лаконичным, емким и при этом не нарушает логику наших предыдущих рассуждений. Иными словами, при-родосообразность текстов/дискурсов оригинала и перевода может быть реализована именно в экополе переводческого пространства.
Материал и методы анализа
В данной статье мы намерены провести исследование переводчика как субъекта экотранс- латологии, которое базируется, во-первых, на литературе, посвященной языковой личности переводчика в отечественной науке, во-вторых, на работах европейских ученых, посвященных проблемам субъективности перевода, в-третьих, на исследованиях в области экологии перевода и экотранслатологии российских и китайских ученых. Обозначенные выше подходы и направления положены в основу методологии проводимого исследования.
Мы выдвигаем гипотезу о том, что между текстами оригинала и перевода возможно установление гармоничных отношений в тех случаях, когда переводчику удается достичь природосо-образности экосмыслов в экополе переводческого пространства, раскрывающих взаимодействие человека и среды. Это означает, что само экополе является одновременно субъектоцентричным и текстоцентричным, так как в качестве среды может выступать текст, дискурс, язык, культура, социум. В нем отражаются все виды взаимодействий.
Материалом для анализа послужили художественные поэтические и прозаические тексты в оригинале и переводе с русского языка на французский и китайский языки. Мы выбрали поэтические тексты С. Есенина и прозаические тексты В. Бианки. Эти тексты, содержащие уникальные описания русской природы, переведены на многие иностранные языки, в том числе на французский и китайский, что послужило основанием для их выбора. Нам было интересно наблюдать проявление переводческой гармонии в таких разносистемных языках и культурах, как русская, французская, китайская.
Представим ключевые положения исследований, определяющих методологические основания нашей работы.
Во-первых, речь идет о языковом сознании переводчика. Согласно Т. Г. Пшенкиной, перевод трактуется как посреднический речемыслительный процесс, нацеленный на «…формиро-вание интегративных когнитивных структур и моделей, координирующих этнические сознания участников межкультурной коммуникации <…>. В ходе посредничества такая личность демонстрирует свойства функциональной (синергетической) системы» [Пшенкина 2005: 190]. Автор приходит к выводу, что в модели языковой личности переводчика взаимодействуют три компонента: ментальный лексикон, когнитивная компетенция и языковая способность. Все они определяют языковое сознание переводчика, на которое возложена функция координации других этнических сознаний – автора и реципиента. В соответствии с нашей концепцией переводческого пространства именно их синергия приво- дит к порождению переводчиком гармоничного текста.
Во-вторых, мы опираемся на идеи субъективности перевода, согласно которым переводческая деятельность неотъемлема от переводящего субъекта. Одним из приверженцев этого направления является швейцарский переводовед Л. Уэнсон (Lance Hewson), который полагает, что фундаментальное отличие переводческой деятельности от других видов деятельности состоит именно в субъективности, так как перевод – это конкретная деятельность человека – мужчины или женщины: “…la traduction est une affaire des hommes et des femmes, il est indéniable que la sub-jectivité , c’est à dire le caractere de ce qui appar-tient au sujet en constitue une caractéristique fonda-mentale” [Hewson 2013: 14].
Аналогичную позицию занимает румынский исследователь Ю. Кордуш (Julia Cordus) “Tout enoncé dit ou écrit porte le signe de la subjectivité” («Любое высказывание, устное или письменное, обладает свойством субъективности». – Перевод наш. – Л. К. ) [Cordus 2013: 138].
В-третьих, мы основываемся на идеях экологии перевода и экотранслатологии, которые уделяют особое внимание переводящей личности и в которых, как уже отмечалось выше, единение человека и экосреды – важнейшая предпосылка сохранения экологического баланса между текстами оригинала и перевода.
Результаты анализа
Проиллюстрируем фрагменты экотранслато-логического анализа художественного поэтического текста, показывающие достижение переводческой гармонии на примере перевода стихотворения С. Есенина «Белая береза» на французский и китайский языки. Отметим, что в Китае стихотворение С. Есенина «Белая береза» переведено многими китайскими переводчиками, таким как Лю Чжаньцю 刘湛秋 , Ван Шоужэнь 王守仁 ,
Белая берёза
Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом Точно серебром.
На пушистых ветках Снежною каймой Распустила кисти Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине И горят снежинки В золотом огне. А заря лениво Обходя кругом Обсыпает ветки Новым серебром.
Гу Юньпу 顾蕴璞 . Однако именно перевод, сделанный профессором Пекинского университета Гу Юньпу 顾蕴璞 , включен в программу общеобразовательной начальной школы в КНР.
Это одно из первых стихотворений выдающегося русского поэта, созданное в восемнадцатилетнем возрасте, когда Сергей Есенин уехал из родного села Константиново Рязанской губернии в Москву. Стихотворение написано в 1913 г. трехстопным хореем с пиррихием. Поэт воспевает в нем красоту березы как символа России и одновременно как символа русской женщины. Лирический герой этого стихотворения искренне любит природу во все времена года и признается в своих чувствах, созерцая белую березу, словно пишет прощальное письмо в отчий дом. Пейзажная лирика поэта является неотъемлемой частью родной природы, которую он воспевает во многих других произведениях.
Переходим к лингвопереводческому анализу поэтического текста. В рамках данной статьи мы опираемся на идеи экологии перевода Л. В. Куш-ниной, согласно которым гармоничный перевод предполагает достижение переводчиком культу-росообразности и природосообразности текстов оригинала и перевода. Предметом анализа являются такие текстовые единицы, которые, с одной стороны, можно отнести к артефактам, так как они отражают явления культуры, с другой стороны – к натурфактам, которые отражают явления природы. В рамках данного анализа в поисках природосообразности мы акцентируем внимание на натурфактах.
Приведем текст оригинала и перевод на французский язык.
Далее представим литературный перевод этого стихотворения на китайский язык Гу Юньпу 顾蕴璞 и дадим обратный перевод на русский язык для понимания расхождений в переводе русскоязычными реципиентами.
Le bouleau
Le petit bouleau viege
Près de mon foyer
S’est couvert de neige
Comme l’argent moiré
La bordure neigeuse perlée
Sur ses tendres branches
Et les grappes couvertes par la frange blanche.
Le bouleau s’enneige
Le silence s’endort
Les flocons de neige
Brûlent dans le feu d’or.
Et l’aurore se penche
Paresseusementƒ
Elle recouvre les branches
De nouvel argent.
白桦
在我的窗前, 有一棵白桦, 仿佛涂上银霜, 披了一身雪花。 毛茸茸的枝头, 雪绣的花边潇洒, 串串花穗齐绽, 洁白的流苏如画。 在朦胧的寂静中, 玉立着这棵白桦。 在灿灿的金晖里, 闪着晶亮的雪花。 白桦四周徜徉着, 姗姗来迟的朝霞, 它向白雪皑皑的树枝, 又抹一层银色的光华.
Сравнивая формальную структуру поэтического текста на русском и китайском языках, отметим их симметричность, количество строк совпадает в переводе на китайский язык и в обратном переводе мы наблюдаем одинаковое количество строк.
Но содержательная структура асимметрична, что не препятствует сохранению смысловой гармонии автором перевода, так как языковая и культурная асимметрии отражают истинное соотношение текстов оригинала и перевода ввиду природной асимметрии, свойственной всем естественным языкам.
Проанализируем подробнее те асимметричные межъязыковые и межкультурные преобразования, которые произошли в переводческом пространстве поэтического текста и придали ему гармоничность. Мы наблюдаем в тексте некий смысловой контур (в лингвистике это понятие обосновано М. П. Котюровой). В ситуации перевода речь идет о смысловой динамике текста: идея, высказанная автором в одном фрагменте, не исчезает, а передается переводчиком в другом фрагменте, что сохраняет целостность образа, задуманного автором.
В фокусе нашего анализа – натурфакты как описание природных явлений и объектов, а также способы достижения гармоничности при переводе с русского языка на китайский. Подчеркнем, что весь текст «пронизан» натурфактами, переплетение которых создает неповторимые поэтические образы русской природы.
Анализируя процесс гармоничного транспонирования смыслов исходного текста в переводной текст, мы акцентируем внимание на синергетических приращениях, благодаря которым китайский читатель испытает те же чувства любви к природе, что и читатель подлинника. Как пока-
Белая берёза
Перед моим окном,
Есть береза,
Словно покрыта серебристым инеем, Накинула на плечи снежинки.
Пушистые ветки,
Свободные оборки снежной вышивки, Бахрома связка за связкой распустилась, Белые кисти бахромы словно картина.
В тусклой полной тишине Держится с достоинством и изяществом эта белая берёза В золотом сверкающем свете, Блестят пронизанные светом снежинки. Вокруг березы странствует
Не спеша утренняя заря,
Она белоснежным веткам
Наносит слой серебряного света.
зал анализ экополя переводческого пространства, переводчику удалось передать зимнее очарование белой березы, снежный покров которой ассоциируется у автора с серебром. Проиллюстрируем сказанное на примерах.
-
1) Проявление смыслового контура. Текст оригинала начинается словами Белая береза под моим окном, но переводчик дает другое описание: 有一棵白桦 (букв.: Есть береза ). При этом в третьем четверостишье появляется образ: 玉立着这棵白桦 (букв.: Держится с достоинством и изяществом белая береза) . Как видим, образ белой березы смещен, но не исчезает в переводе.
-
2) Передача имплицитных смыслов оригинала эксплицитными смыслами в переводе. В этой же строке мы наблюдаем приращение смыслов, которые имплицитно присутствуют в оригинале, но переводчик выразил их эксплицитно, дешифровал. Действительно, в оригинале не говорится о достоинстве и изяществе белой березы, но перед нашим воображением стоит береза, она принакрылась снегом , распустила кисти – это ли не изящество и достоинство? Приращение смыслов произошло и в следующих строках, где китайский читатель видит сверкающий свет , пронизанные светом снежинки, слой серебряного света. Переводчик тем самым дополняет образ – белая береза излучает свет.
-
3) Расширение смыслового горизонта оригинала за счет добавления новых смыслов. В оригинале береза принакрылась снегом , тогда как в переводе береза 仿佛涂上银霜 покрыта серебристым инеем , в оригинале в сонной тишине , в переводе 在朦胧的寂静中 в тусклой полной тишине , в оригинале – заря , в переводе – 朝霞 утренняя заря.
Таким образом, отмеченная выше смысловая динамика привела к тому, что текст перевода воспринимается китайским читателем естественно и живописная лирика русского поэта для него понятна и близка. В этом и состоит миссия переводчика.
Обратимся к анализу русско-французского перевода. Напомним, что сам перевод дан выше.
Сопоставление оригинала и перевода показывает, что переводчику удалось гармонично передать смыслы текста, при этом мы наблюдаем гораздо меньше межъязыковых и межкультурных преобразований, чем в русско-китайском переводе. Вероятно, это объясняется тем, что перевод выполнен русскоязычным переводчиком, который при выборе эквивалентов стремился к точности передачи исходного смысла и образов автора. Разумеется, здесь есть и смысловые приращения, и смысловые опущения. Вместо слов белая береза – Le petit bouleau viege (букв.: молодая березка) , вместо слов под моим окном – Près de mon foyer (букв.: около моего дома) и др.
Можно сказать, что форма текста перевода также симметрична форме текста оригинала: короткие строки, их 16. Содержание можно охарактеризовать как симметрично-асимметричное. При этом текст перевода читается в том же ритме, создавая у читателя аналогичное настроение: он видит образ снежной, белоснежной березки и понимает, что это и есть символ русской зимы на русской земле.
Анализ переводов поэтического текста с русского на китайский и французский языки выявил интересное взаимодействие между формальной и содержательной структурами. С формальной точки зрения оба перевода симметричны: количество строк остается таким же, что поддерживает аналогичную ритмическую структуру. Однако асимметрия структуры содержания проявляется из-за различий в культурных и лингвистических контекстах. Китайский перевод подчеркивает зимнюю красоту березы и вносит некоторые изменения, чтобы сделать текст ближе к китайской аудитории, сохраняя при этом гармонию переводческого пространства. В то время как французский перевод, выполненный русскоязычным переводчиком, ближе к оригиналу в содержании и меньше подвержен изменениям. Это показывает, что симметрия формы может соседствовать с асимметрией содержания, и важной задачей переводчика является сохранение смысловой гармонии и передача контура смысла, даже если это требует некоторых изменений, чтобы текст оставался понятным и близким читателю на другом языке.
Переходим к анализу прозаического текста. Мы обратились к творчеству детского писателя
Виталия Валентиновича Бианки. В. В. Бианки родился в Петербурге в 1894 г. Его отец был ученым-орнитологом, и он передал сыну любовь к живой природе. Как писатель он дебютировал в 1933 г. в журнале «Воробей», где был опубликован его рассказ «Путешествие красноголового воробья». С тех пор им было опубликовано около 300 рассказов и сказок о природе. Это был тонкий наблюдатель и знаток природы. По книгам В. В. Бианки дети до сих пор учатся читать. В своих текстах он реализовал природоведческую тематику и стал классиком детской литературы. В. В. Бианки прожил до 1959 г. Творческое кредо писателя удачно охарактеризовал Пришвин: «Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу – значить охранять родину» [Пришвин 1983].
Проанализируем фрагмент рассказа В. В. Бианки «Лесной год» и его перевод на китайский язык.
Оригинал:
Год – это колесо с двенадцатью спицами – месяцами: промелькнут все двенадцать спиц, колесо сделает полный оборот – и опять мелькнет первая птица. А колесо уже не там – далеко укатилось.
Опять придет весна и лес проснется, вылезет из берлоги медведь, вода затопит подвальных жильцов, прилетят птицы. Снова начнутся игры и пляски у птиц, родятся детеныши у зверей. И в Лесной газете читатель найдет все свежие лесные новости….
Перевод на китайский язык:
我们的读者也许要认为 《森林报》上的森 林新闻和城市新闻每都是陈旧的。其 实并不是 这样。不错,年年有春天。不过, 年的春天都 是崭新的,不管你活上多 少年,也不会看见两 个 一模一样的春天。
一年好比是个有12根辐条的车轮一—每 — 根辐条好比是一又 个 月 , 1 2 根 辐 条 统
统 滚 了 过 去 , 就 是 车 轮 滚 了 一 圈 ; 接 着 , 该轮已到经第滚一到根远辐条 转的过地去方了去。不过,这时车轮已经不在 原 处 -------- 已经滚到远一些的地方去了。
春天又来了。森林苏醒了,熊从洞里爬出来, 春水把森林动物的地下洞六淹掉,鸟儿飞 ,重 新开妢做游戏和舞蹈,野 路生儿育女。读者将 在《森林报》上找到跟新鲜的森林新闻。
Обратный перевод на русский язык:
Год подобен колесу с 12 спицами – каждая спица подобна месяцу. Когда все 12 спиц перевернутся, колесо тоже повернется до своего первого переката. Когда дальние птицы развернулись, колесо было уже не на своем месте, оно откатилось еще дальше.
Весна снова придет. Лес просыпается, медведи вылезают из берлог, родниковая вода заливает подземные норы лесных зверей, прилетают птицы, снова играют в игры и танцы, а на диких тропах рождаются и воспитываются их детеныши. Читатели найдут свежие новости в лесной газете.
Разумеется, трудно судить о качестве перевода с опорой на обратный перевод. Текст оригинала читается легко и свободно, создавая добрую атмосферу, где живописное описание природы напоминает русскую сказку, которую нам рассказывает мудрый писатель. Текст содержит индивидуально-авторские метафоры и вызывает ассоциации, размышления, представления. Вместе с тем даже схематичный обратный перевод позволяет нам заметить моменты приращения смыслов, которых не было в оригинале и которые «домысливает» автор. Так, в китайском варианте и его обратном переводе есть слова: р одниковая вода, подземные норы . Мы можем предположить, что именно так в экополе рождаются новые экосмыслы. Здесь мы видим взаимопроникновение и взаимосвязь природных и социальных факторов, что обычно наблюдается в гармоничном переводе.
Мы признаем также, что весь текст не может быть переведен гармонично, и адекватный и эквивалентный переводы реальны и необходимы. Вместе с тем достижение природосообразности как экологичности при переводе текстов с природоведческой тематикой отражает баланс смыслов и гармонию как высшую цель и результат перевода.
Заключение
В настоящее время в России исследование проблемы экологичности перевода, соблюдение экологического равновесия между текстами оригинала и перевода носит фрагментарный характер и не имеет самостоятельного статуса, как, например, в Китае, где экотранслатология занимает особое место других направлений перево-доведения.
Между тем, как показало наше исследование, экотранслатологическое видение перевода позволяет более глубоко проанализировать действия переводчика и выявить факторы, обеспечивающее полноценное транспонирование экосмыслов, эксплицитно или имплицитно содержащихся в оригинале. К ним относятся факторы, описанные китайскими учеными, а именно: языковые, психологические, коммуникативные, эстетические, а также факторы, выявленные российскими учеными, такие как культуроориентированные, природоориентированные, со-циоориентированные, что может быть отражено в экополе переводческого пространства. Таким образом, мы подходим к характеристике экосреды, в которой порождается гармоничный текст перевода.
Мы осознаем, что невозможно опираться на все эти факторы одновременно, в рамках одного лингвопереводческого анализа. Но комплексный экотранслатологический анализ на материале нескольких текстов позволит нам представить общую картину этого феномена и выявить универсальные критерии порождения качественного текста перевода, который приобретет право быть фактом другой лингвокультуры.
Список литературы Переводчик как субъект экотранслатологии
- Белозерова Н. Н. Мир реальный и мир виртуальный: две экологические системы? Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 252 с.
- Белозерова Н. Н., Лабунец Н. В. Эколингвистика: в поисках методов исследования. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 256 с.
- Болдырев Н. Н. Когнитивные схемы языковой интерпретации // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 4. С. 10–20.
- Дрожащих Н. В. Экология языка и культуры: рекуррентность смысла // Экология языка на перекрестке наук: материалы междунар. науч. конф. (Тюмень, 11–13 ноября 2010 г.). Ч. 1. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С. 29–34.
- Кожевникова О. В., Чернова А. А. Употребление термина «адаптация» и его производных в научных публикациях на русском и английском языках // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2021. Т. 31, вып. 6. С. 1241–1244. doi 10.35634/2412-9534-2021-31-6-1241-1246
- Кушнина Л. В., Плюснина Е. М. Экология перевода: предпосылки зарождения и пути развития. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2016. 156 с.
- Кушнина Л. В., Юзманов П. Р. Экология перевода: культура vs природа // Экология языка на перекрестке: материалы междунар. науч. конф. (Тюмень, 11–13 ноября 2010 г.). Ч. 1. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С. 41–45.
- Кушнина Л. В. Экосистема перевода как проявление синергии смыслов взаимодействующих культур // Экология языка на перекрестке наук: материалы междунар. науч. конф. (Тюмень, 17–19 ноября 2011 г.). Ч. 1. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. С. 16–21.
- Пришвин М. М. Моя Родина. М.: Детская литература, 1983. 32 с.
- Прошина З. Г. Экопереводоведение как модель переводческой деятельности // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2016. № 4. С. 100–109.
- Пшенкина Т. Г. Психологические основания вербальной посреднической деятельности. Барнаул, 2005. 240 с.
- 胡庚申.生态翻译学:建构与诠释[M].商务印 书馆, 2013. 页数:512 (Hu Gengshen. Shengtai fanyi xue: Jiangou yu quanshi. Beijing, The Commercial Press, 2013. 512 p.)
- Cordus J. Subjectivite et traduction dans le Testament francais de Makine // Atelier de la traduction. Subjectivité du traduire. 2013. Numéro hors série. P. 133–144.
- Hewson L. Eloge à la subjectivité // Atelier de la traduction. Subjectivité du traduire. 2013. Numéro hors série. P. 13–32.
- Hu Gengshen. Eco-Translatology, Towards an Eco-paradigm of Translation Studies. Singapore: Springer, 2020. 312 p.
- 蓝红军,冯丽霞.翻译理论建构的多元融合——生态翻译学20 年(2001–2021)之启思[J].中国外 语, 2022, 19(1), p. 105–111. (Lan Hongjun, Feng Lixia. Fanyi lilun jiangou de duoyuan ronghe – shengtai fanyi xue 20 nian (2001–2021) zhi qi si // Zhongguo waiyu. 2022, 19(1), P. 105–111.)
- 朱瑜.中国传统译论的哲学思辨[J]. 中国翻 译. 2008(01)朱瑜. 中国传统译论的哲学思辨[J]. 中国翻译, 2008 (01), pp. 14–19. (Zhu Yu. Zhongguo chuantong yi lun de zhexue si bian // Zhonnguo fanyi. 2008(01). P. 14–19).