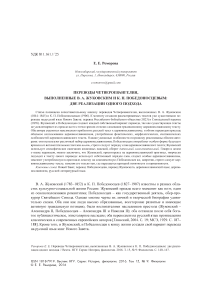Переводы четвероевангелия, выполненные В. А. Жуковским и К. П. Победоносцевым: две реализации одного подхода
Автор: Реморова Елена Ефимовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставительному анализу переводов Четвероевангелия, выполненных В. А. Жуковским (1844-1845) и К. П. Победоносцевым (1906). К моменту создания рассматриваемых текстов уже существовали переводы на русский язык Нового Завета: перевод Российского библейского общества (1823) и Синодальный перевод (1876). Жуковский и Победоносцев создают каждый собственный вариант перевода, так как существующие тексты не удовлетворяют их прежде всего с точки зрения степени следования традиционному церковнославянскому тексту. Оба автора стремятся максимально приблизить русский текст к церковнославянскому, и обоим переводам присуще обильное использование церковнославянизмов, употребление фонетических, морфологических, синтаксических особенностей церковнославянского текста. Однако указанные особенности по-разному реализованы обоими авторами: они используют различный набор церковнославянизмов; Победоносцев употребляет особую форму будущего времени со вспомогательным глаголом иметь, строго следует порядку слов церковнославянского текста; Жуковский использует специфические окончания косвенных падежей, оборот дательный самостоятельный. Говоря в целом о языке переводов, можно заключить, что Жуковский, ориентируясь на церковнославянский оригинал, творчески подходит к тексту своего перевода: использует собственный порядок слов, создает особые церковнославянизмы, заменяет употребленную в оригинале лексему на синонимичную; Победоносцев же, напротив, строго следует церковнославянскому тексту, изменяя его только там, где нарушается критерий понятности и нормативности.
Новый завет, перевод победоносцева, перевод жуковского, церковнославянский язык, церковнославянизм, русский литературный язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147219663
IDR: 147219663 | УДК: 811.161.1`25
Текст научной статьи Переводы четвероевангелия, выполненные В. А. Жуковским и К. П. Победоносцевым: две реализации одного подхода
В. А. Жуковский (1783–1852) и К. П. Победоносцев (1827–1907) известны в разных областях культурно-социальной жизни России: Жуковский прежде всего знаменит как поэт, один из основоположников романтизма; Победоносцев – как государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода. Однако многие черты их личной и творческой биографии удивительно схожи. Оба они как люди высоко образованные, всесторонне развитые и имеющие активную гражданскую позицию, были воспитателями наследников престола (Жуковский – Александра II, Победоносцев – Александра III и Николая II); оба оставили после себя богатое публицистическое, эпистолярное наследие; оба переводили на русский язык произведения классических и современных европейских авторов [Глинский, 2004. С. 19; МСЭ, 1929. С. 187– 188]. Кроме того, и Жуковский, и Победоносцев к концу жизни создали свой вариант перевода на русский язык книг Нового Завета.
Реморова Е. Е. Переводы Четвероевангелия, выполненные В. А. Жуковским и К. П. Победоносцевым: две реализации одного подхода // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 9: Филология. С. 140–147.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 9: Филология
В. А. Жуковский работал над переводом в 1844–1845 гг., труд был опубликован только в 1895 г. в Берлине [Алексеев, 2002. С. 156], перевод К. П. Победоносцева, над созданием которого автор трудился последние несколько лет жизни, был опубликован в 1906 г. Следует сказать, что именно по инициативе Победоносцева осуществилось, хоть и маленьким тиражом, издание перевода Жуковского, и обер-прокурор использовал его при работе над своим переводом [Долгушин, 2008. С. 442]. В 2000-е гг. оба труда были переизданы и введены в научный и культурный оборот 1.
Ко времени создания рассматриваемых трудов уже существовали изданные переводы Нового Завета на русский язык: в 1823 г. был опубликован перевод Российского библейского общества (РБО), а в 1876 издан полностью Синодальный перевод [Алексеев, 2002. С. 156]. Таким образом, Жуковский в качестве одного из источников использовал перевод РБО [Долгушин, 2008], а Победоносцев – Синодальный перевод [Алексеев, 2002].
В предисловии к своему переводу Победоносцев объясняет причину создания собственного варианта русского текста: «Необходимо продолжать эти опыты, доколе мы не получим перевод на языке, достойном славянского подлинника, на языке, который не тревожил бы уха знакомого с гармонией церковного чтения» [Победоносцев, 1906. С. II]. Схожая мотивация была, видимо, и у Жуковского: по утверждению А. А. Алексеева, «перевод с большой точностью следует за слав. текстом и лишен претензий на самостоятельную интерпретацию Нового Завета» [2002. С. 156]. Итак, оба автора решают задачу по созданию достойного в стилистическом отношении языка перевода Священного Писания в максимальном сближении с церковнославянским текстом. Мы выделили следующие особенности, характерные для обоих переводов и обусловленные указанным основным общим подходом, и рассмотрели, каким образом каждый автор реализует их в своем труде.
Обильное использование лексических славянизмов
Можно выделить группу лексем, заимствованных без изменения из церковнославянского текста, которые употребляются обоими авторами:
Одесную, ошуюю (Мф. 25, 33), горше (Мф. 27, 64), оставлять ( грехи ) (Лк. 5, 21), недуг (Лк. 5, 15), одр (Лк. 5, 18), разуметь (Ин. 10, 6), тать (Ин. 10, 8), не обинуясь (Ин. 7, 26), по-тщися (Лк. 12, 58), в сретение (Мф. 25, 6), знамение (Ин. 7, 31), вечеря (Ин. 12, 2) и др.
Следующие лексемы оба автора считают непонятными и переводят их 2:
Мк. 3, 30 зане ́ / ПКП поелику / ПЖ понеже ; Мк. 16, 4 ѕћлѡ ́ ́/ ПКП очень / ПЖ весьма ; Мф. 25, 15 а^бхе / ПКП затем / ПЖ скоро потом ; Мф. 27, 23 и́злиха / ПКП крепче / ПЖ сильней ; Ин. 10, 24 ѡ҆ быдо́ша / ПКП окружили / ПЖ окружили ; Мф. 27, 50 паќ и / ПКП снова / ПЖ опять ; Ин. 10, 13 ꙗ́кѡ / ПКП поелику / ПЖ поелику ; Лк. 12, 31 ѡ҆ бач́ е / ПКП паче же / ПЖ лучше .
Особого внимания заслуживают те случаи, когда представление авторов о понятности того или иного слова либо словосочетания не совпадает.
Например, Победоносцев вслед за церковнославянским текстом сохраняет такие лексемы: вскую (Мк. 15, 3), ( раб ) неключимый (Мф. 25, 30), ловитва (Лк. 5, 4), алкать (Ин. 6, 35). Жуковский переводит данные лексемы: почто, ( раб ) неполезный, лов, быть гладным. В свою очередь, Жуковский сохраняет без перевода следующие слова: юг (в значении южный ветер ) (Лк. 12, 55), мрежи (Лк. 5, 5–6), кошница (Ин. 6, 13), на он пол ( моря ) (Ин. 6, 1), медница (Лк. 12, 59). Победоносцев переводит такие лексемы: южный ветер, сети, корзина, на ту сторону ( моря ) , копейка.
Отличием языка перевода Жуковского можно считать то, что автор иногда намеренно сам создает церковнославянизм и использует его, даже если церковнославянский вариант понятен 3. Для Победоносцева же основным приоритетом является именно сохранение церковнославянского текста, а изменения он вносит только если славянское слово не удовлетворяет критерию понятности.
Мф. 25, 44–45 ѿвћщаю́ тъ / ПКП отвечают / ПЖ ответствуют ;
Ин. 6, 15 разꙋмћ́въ / ПКП уразумев / ПЖ предузнав ;
Мф. 7, 25 возвћ́ѧша вћ́три / ПКП подули ветры / ПЖ возшумели ветры .
Интересен следующий пример, когда Жуковский употребляет лексему, видимо, сочиненную им самим, так как она отсутствует в известных нам словарях 4.
Мф. 25, 6 во́пль бы́сть / ПКП глас раздался / ПЖ клик раздался .
Употребление лексем с характерными для церковнославянского языка фонетическими и морфологическими характеристиками
И Жуковский, и Победоносцев обильно используют лексемы, содержащие неполногласие, начальное е- на месте русского о- , особые чередования группы согласных в корне, славянский вариант приставок:
Лк. 5, 5 чреда , Лк. 5, 31 здравые , Ин. 10, 27 глас , Лк. 12, 24 вран , Мф. 27, 29 глава , Лк. 12, 27 тру жд аются , Мф. 25, 7 вос тали , Лк. 12, 7 изо чтены и др.
Применительно к переводу Победоносцева можно проследить закономерность в употреблении подобных лексем: он использует славянский вариант, если идет речь о возвышенном, а когда отрывок представляет собой прямую речь лиц из народа, содержит повествование не о положительных персонажах или о материальных вещах, автор употребляет русский аналог:
Лк. 12, 7 Но и҆ власѝ главы̀ ваш́ еѧ всѝ и҆зочтен́ и сꙋт́ ь . / ПКП А у вас и волосы на голове изочтены все / ПЖ А у вас и власы главы вашей все изочтены.
Характерны отрывки Ин. 10, 3 и Ин. 10, 16. В переводе Жуковского в обоих случаях употреблен славянский вариант с неполногласием, а Победоносцев, различая, о чем идет речь, в первом отрывке употребляет русский аналог, а во втором, где говорится о Христе, – славянский:
Ин. 10, 3 ПКП дверник отверзает, и овцы г оло с его слышат / ПЖ отворяет придверник, и овцы г ла с его слышат ;
Ин. 10, 16 ПКП и глас Мой услышат, и будет едино стадо, и един Пастырь / ПЖ и глас Мой услышат, и будет единое стадо и един пастырь.
Жуковский тоже, наряду со славянскими аналогами, использует русские варианты, но проследить закономерность в таком употреблении нам не удалось. Например, он в равной степени употребляет начальное е- и о- в слове един ( один ) , и распределение вариантов, на наш взгляд, не обусловлено контекстом:
Ин. 10, 30 ПКП Я и Отец – е дино. / ПЖ Я и Отец – о дно .
Ин. 6, 70 ПКП о дин из вас диавол. / ПЖ есть между вами е диный дьявол .
Победоносцев учитывал в своем труде опыт Синодального перевода, где соблюдено четкое распределение славянских и русских аналогов в зависимости от контекста. Указанный подход был назван исследователем языка Синодального перевода И. А. Реморовым принципом стилистической дифференциации контекстов [2002. С. 247]. Сам Победоносцев в предисловии к переводу пишет: «При соображении о том, где следует оставить слово славянского текста и где заменить его ходячим словом, необходимо, думаю, различать, о чем идет речь, и чьи это слова: Иисуса Христа, Евангелиста или лиц из народа» [Победоносцев, 1906. С. VI].
И Победоносцев, и Жуковский допускают в языке перевода употребление церковнославянских вариантов окончаний, суффиксов причастий, особых собирательных форм существительных, церковнославянских числительных, личных форм глагола бы́ ти :
Мф. 27, 29 из терния , Мк. 3, 31, Мф. 25, 34 царствие , Ин. 6, 67 двенадесять , Мф. 25, 40 из брат ий ; Лк. 12, 47 биен , Мф. 27, сплет ши , Лк. 12, 46 лиц е , Мф. 27, 29 колен а , Ин. 6,48 есмь.
Существуют и отличия, касающиеся выбора обоими авторами тех или иных церковнославянских морфологических средств. Например, Жуковский чаще использует некоторые церковнославянские окончания существительных в косвенных падежах, а Победоносцев употребляет особые формы будущего времени:
Мк. 14, 1 ПЖ через два дн и ; Ин. 11, 17 четыре дн и ; Ин. 6, 32 с небеси (У Победоносцева – с небес );
Ин. 6, 71 ПКП сей имел предать Его ; Ин. 7, 39 ПКП Сие сказал Он о Духе, Коего имели принять верующие ; Мк. 16, Кто веру имет и крестится, спасен будет.
«Запрет» на использование в языке перевода некоторыхобщеупотребительных местоименно-служебных лексем
Применительно к переводу Победоносцева - это, прежде всего, союзное слово который, названное в авторском предисловии «негармоничным и неуклюжим» [Победоносцев, 1906. С. III]. Действительно, ни разу автор не употребляет эту лексему, используя на ее месте синонимичные слова или изменяя всю конструкцию предложения:
Мф. 27, 55 СП Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему ; / ПКП Были там и жены многия и смотрели издалеча, те что следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему ;
Мф. 27, 60 СП и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале / ПКП и положил его в новом своем гробе, что высек он в скале ;
Лк. 12, 47 СП Раб же тот, который знал волю господина своего / ПКП Раб же тот, кто знал волю господина своего …
Жуковский во многих случаях тоже заменяет союзное слово который на синонимичные лексемы или употребляет другую конструкцию (обычно с причастием). Например, вышеприведенный отрывок Лк. 12, 47 Жуковский переводит таким образом: Раб же, ведавший волю господина своего…
Интересен следующий пример, когда варианты Жуковского и Победоносцева совпадают. Возможно, Победоносцев заимствовал переводческое решение своего предшественника. Для наглядности приведем и церковнославянский текст:
Мф. 27, 61 Бћ́ же тꙋ̀ маріа́ магдали́на и҆ дрꙋгаѧ́ маріа́, сћдѧ́ще прѧ́мѡ гро́ба / СП Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. / ПКП Была же там Мария Магдалина и другая Мария, и сидели против гроба. / ПЖ Были же там Мария Магдалина и другая Мария, и сидели против гроба.
В некоторых контекстах Жуковский вводит придаточное предложение с помощью личного местоимения третьего лица и частицы же , как в церковнославянском тексте. Победоносцев использует более «русифицированный» вариант:
Ин. 6, 42 ПЖ И говорили : не Он ли Иисус, сын Иосифов, Его же отца и матерь мы знаем ? / СП и говорили, не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и мать мы знаем ? / ПКП и говорили, не Иисус ли это, сын Иосифов, Коего отца и Мать мы знаем ?
Тем не менее в переводе Жуковского, наряду с церковнославянскими аналогами, нередко встречаются и случаи употребления союзного слова который :
Лк. 1, 4 ПЖ Дабы уразумел ты в основании то учение, в котором ты был наставлен / ПКП дабы уразумел ты твердое основание учения, в коем был наставлен ;
Мк. 14, 71 ПЖ не знаю человека сего, о котором вы говорите / ПКП не знаю Человека Сего, о Ком говорите .
И Жуковский, и Победоносцев избегают употреблять в языке перевода русский подчинительный союз потому что . Победоносцев в большинстве случаев использует на его месте синоним ибо , а Жуковский и этот союз употребляет крайне редко, предпочитая понеже 5 или поелику . Характерен в этом отношении перевод заповедей блаженства (Мф. 5, 3–12): ПЖ блаженны плачущие : понеже они утешатся / ПКП блаженны плачущие, ибо утешатся. Кроме того, часты случаи, когда Жуковский, с целью избежать употребления указанного подчинительного союза, опускает его, превращая сложноподчиненное предложение в бессоюзное:
Мф. 7, 25 ПЖ И сошел дождь, и пришли реки, и возшумели ветры, и устремились на дом тот, и не разрушился, и не упа л : н а камени был он основан. / ПКП И пошел дождь, и разлились реки и подули ветры, и устремились на дом тот, и не пал ; ибо основан был на камне.
( Аналогичный пример – отрывок Мф. 14, 24 ).
Использование в тексте переводов некоторых синтаксических особенностей церковнославянского текста
При сравнении текстов рассматриваемых переводов друг с другом, видно, что синтаксис перевода Победоносцева в целом более приближен к церковнославянскому оригиналу. Прежде всего, это обусловлено стремлением автора максимально, конечно, не в ущерб для понятности и нормативности языка русского перевода, сохранять порядок слов, употребленный в церковнославянском тексте. Жуковский же достаточно творчески относится к построению фразы:
Лк. 12, 42 Вћ́рный строи́тель и҆ мꙋд́ рый / ПКП верный управитель и мудрый / ПЖ верный и мудрый домоправитель ;
Лк. 12, 45 рече́тъ ра́бъ то́й / ПКП скажет раб тот / ПЖ тот раб скажет .
Победоносцев, близко воспроизводя порядок слов, употребленный в церковнославянском тексте, сохраняет, в том числе, такие специфические его особенности, которые не характерны для русского синтаксиса. Например, он регулярно употребляет подлежащее внутри деепричастного оборота. Жуковский перестраивает такие предложения:
Ин. 6, 5 ПКП И возведя Иисус очи и видя, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу / ПЖ И Иисус, возведя очи и увидя, сколь много народа идет к Нему, сказал Филиппу .
Кроме того, одной из регулярных особенностей синтаксиса языка перевода Победоносцева, характерной и для церковнославянского текста, является пропуск подлежащего, выраженного личным местоимением. Если подлежащее восстанавливается из контекста или глагольной формы, Победоносцев опускает его. В переводе Жуковского нет такой особенности:
Мф. 27, 12 ПКП И, когда обвиняли Его первосвященники и старц ы, н е отвечал ничего. / ПЖ И, когда на Него говорили первосвященники и старейшины, Он ничего не ответствовал.
Лк. 5, 20 ПКП И , видя веру их, сказал ему / ПЖ Он же, видя их веру, сказал ему .
Особенностью синтаксиса перевода Жуковского является сохранение в некоторых контекстах оборота « дательный самостоятельный ». Победоносцев же никогда не сохраняет указанный оборот, употребляя на его месте придаточное предложение либо предложно-падежную форму:
Мф. 8, 23 ПЖ И вступившему Ему на корабль, за Ним последовали все ученики Его / ПКП И когда вошел Он в корабль, за Ним шли ученики Его ;
Мк. 16, 2 ПЖ И…приходят на гроб, возсиявшу солнцу / ПКП И…приходят ко гробу, когда возсияло солнце .
Мф. 8, 28 ПЖ И пришедшему Ему на онпол в страну Гергесинскую, встретили Его два обеснованных / ПКП И когда пришел на ту сторону, в страну Гергесинскую, встретили Его два бесноватые .
Максимальное приближение к церковнославянскому тексту отрывков, употребляемых в богослужении
Самым характерным в этом отношении является молитва «Отче наш» (Мф. 6, 9–13): в переводе Жуковского она приводится без изменений, а Победоносцев русифицирует только несколько лексем и словоформ: даждь - дай , должником - должникам , яко - как , еси просто опускает.
В отрывке Мк. 14, 22, который употребляется на Литургии и касается установления таинства Евхаристии, оба автора без изменений сохраняют церковнославянский текст: приимите, ядите, сие есть Тело Мое .
Отрывок Лк. 1, 28, содержащий приветствие архангела Гавриила и вошедший в известную молитву « Богородице Дево, радуйся !», тоже дан авторами без изменений: радуйся, Благодатная ! Господь с Тобою ; благословенна Ты в женах. В следующем контексте, который представляет собой песнь Богородицы и поется на каждом вечернем богослужении, авторами сохраняются такие элементы церковнославянского текста, которые в других фрагментах всегда переводятся ими: ПЖ яко (Лк. 1, 48); ПКП О Боге Спасе Моем (Лк. 1, 47); Лк. 1, 50 ПЖ, ПКП И милость Его в роды родов боящимся Его.
Таким образом, рассматриваемые переводы являются реализацией одного подхода: приблизить русский текст к церковнославянскому, создав тем самым особый стиль, «достойный» для языка Священного Писания. Авторы воплотили данный подход по-разному, используя свой набор лексических, морфологических, синтаксических средств, реализуя свой взгляд на природу тех или иных языковых единиц, имея при работе различные дополнительные источники. Отличием в основном подходе авторов исследуемых трудов можно считать то, что Жуковский более творчески перерабатывает церковнославянский оригинал, в некоторых контекстах употребляя синонимичные лексемы, по-своему оформляя церковнославянизм, используя собственный порядок слов; Победоносцев же более строго ориентируется на церковнославянский текст, изменяя его только при необходимости следовать критерию понятности и нормативности. Победоносцев высоко отзывался о переводе своего предшественника, но пошел еще дальше в приближении языка перевода к церковнославянскомуоригиналу: «Значительного успеха можно было ожидать – и не напрасно ожидали, – от перевода Жуковского. Он был знаток русской речи – не одного только книжного склада, понимал умом и сердцем красоту славянского языка и обладал умением чуять и находить гармонию слова. Все эти качества отразились на переводе Жуковского» [Победоносцев, 1906. С. II].
Каждый перевод представляет собой неповторимый и уникальный вариант того особого церковного стиля [Прохватилова, 2009. С. 175], над созданием которого на протяжение всего XIX в. трудились такие крупные ученые и богословы, как, например, митрополит Филарет (Дроздов) [Реморов, 2009. С. 53]. Оба труда были высоко оценены современниками [Балашов, 2001. С. 97; Долгушин, 2008. С. 436], и они, несомненно, представляют интерес не только для историков русского литературного языка, но и для широкого круга читателей6.
Список литературы Переводы четвероевангелия, выполненные В. А. Жуковским и К. П. Победоносцевым: две реализации одного подхода
- Алексеев А. А. Библия. Переводы на русский язык // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 5.
- Андерс К. Ю. О стиле перевода ветхозаветных книг М. Фотинского // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, вып. 2: Филология. С. 81-86.
- Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 507 c.
- Глинский Б. Б. Константин Петрович Победоносцев (Материалы для биографии) // Великая ложь нашего времени. М., 2004. С. 3-45.
- Долгушин Д., свящ. Новый Завет в переводе В. А. Жуковского: история создания и публикации // Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Перевод В. А. Жуковcкого. СПб., 2008. C. 408-447.
- Малая советская энциклопедия. М., 1929. Т. 3. Победоносцев К. П. Предисловие // Новый Завет в переводе К. П. Победоносцева. СПб., 1906. [Репринт: СПб., 2000]. С. I-VI.
- Предисловие [Автор не указан] // Новый Завет в переводе К. П. Победоносцева. Репринтное воспроизведение издания 1906 г. СПб., 2000. С. I-VI.
- Прохватилова О. А. Стилистические нормы современного языка Церкви // Судьбы языков: вопросы внешней и внутренней истории. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 174-194.
- Реморов И. А. Митрополит Филарет (Дроздов) как редактор Синодального перевода Нового Завета: церковнославянизмы и принцип стилистической дифференциации контекстов // Сибирь на перекрестье мировых религий. Материалы межрегион. конф. Новосибирск, 2002. С. 245-248.
- Реморов И. А. Святитель Филарет Московский о принципах русского перевода Священных текстов // Судьбы языков: вопросы внешней и внутренней истории. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 52-68.