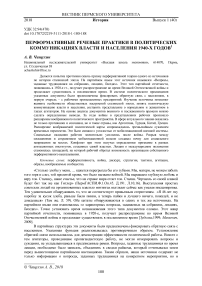Перформативные речевые практики в политических коммуникациях власти и населения 1940-х годов
Автор: Чащухин А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Коммуникации советской эпохи
Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.
Бесплатный доступ
Делается попытка прочтения сквозь призму перформативной теории одного из источников по истории сталинской эпохи. На партийном языке этот источник назывался "Вопросы, заданные трудящимися на собраниях, лекциях, беседах". Этот тип партийной отчетности, появившись в 1920 - е гг., получает распространение во время Великой Отечественной войны и продолжает существовать в послевоенное время. В системе политического просвещения указанные документы были предназначены фиксировать обратную связь с населением, в первую очередь - с рабочими промышленных предприятий. Изучение источника позволяет выявить особенности общественных настроений сталинской эпохи, понять политическую коммуникацию власти и населения, составить представление о нормальном и девиантном в глазах агитаторов. На основе анализа документов военного и послевоенного времени можно сделать определенные выводы. За годы войны в представлениях рабочих произошло расширение воображаемого политического пространства. В сфере актуального знания оказались не только противники и союзники, но и такие страны, как Аргентина, Турция, Китай, Греция. Расширение воображаемой политической карты сопровождалось чрезвычайным сужением временных перспектив. Это было связано с усталостью от мобилизационной военной системы. Социальные ожидания рабочих значительно усилились после войны. Разрыв между ожиданиями и сохранением мобилизационной модели создавал почву для социального напряжения на местах. Конфликт при этом получал определенное признание в рамках агитационных институтов, созданных самой властью. Лекция о международном положении становилась площадкой, на которой рабочий обретал возможность организации собственного перформативного высказывания
Перформативность, война, дискурс, стратегии, тактики, агитация, образы, воображаемые сообщества
Короткий адрес: https://sciup.org/147203853
IDR: 147203853 | УДК: 32:94(470) | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-1-180-188
Текст научной статьи Перформативные речевые практики в политических коммуникациях власти и населения 1940-х годов
«Столько злобы у меня, … кажется перегрызла бы его зубами. Мы, матери, не можем забыть того горя и слез, той пролитой крови, что было вызвано войной. Мы выражаем глубокую любовь и веру тов. Сталину, наше счастье, что на страже мира стоит тов. Сталин. Черчилль со своей кликой будет бит так же как Гитлер» (ПермГАСПИ.Ф.1.Оп.45. Д.191. Л.10,16). Выступления простых советских людей на организованных властью митингах выглядят сейчас как умелая инсценировка. Тем удивительнее обнаруживать то, что не соответствует привычным стереотипам. «Я 46 лет гну коробку за кусок хлеба, раньше были пинки, а теперь пайки и лучшего ничего, пожалуй, и не дождешься» (Там же. Л. 59). Обе цитаты обнаруживаются в одних и тех же источниках. На партийном языке они именовались «о характерных вопросах, задаваемых на собраниях, лекциях, беседах». Точно установить время возникновения этого типа документов сложно. Этот жанр партийной отчетности, появившись в 1920-е, получает распространение во время Великой Отечественной войны и продолжает существовать в послевоенное время [ Зубкова ,1999; Манкевич , 2009].
В партийных структурах эти документы были предназначены фиксировать обратную связь с населением. Указанная функция реализовывалась противоречивым образом. Установление обратной связи использовалось для демонстрации эффективности политической работы. Вместе с тем агитаторы, проводившие пропагандистскую работу, не могли игнорировать вопросы и суждения, не укладывающиеся в предписанные рамки. Вопросы, заданные трудящимися во время лекции, необходимо было записать, объединить в сводки райкома, который отчитывался затем перед вышестоящими партийными инстанциями. Таким образом, наши источники содержат не только информацию о вопросах, заданных трудящимися на конкретном мероприятии, но и
обобщение типичных вопросов, заданных на предприятиях того или иного городского района. В документах указывалась аудитория, перед которой читалась лекция. Как правило, это были трудовые коллективы. Задаваемые вопросы авторы отчетов старались не изменять. Об этом говорит регулярно встречающийся тип «неудобных» для власти реплик, сохранение выражений, отличающихся от официального политического языка. Небольшая редактура отчета осуществлялась на уровне сводок, когда два схожих по смыслу вопроса могли быть объединены.
В нашем исследовании были использованы материалы указанных отчетов за 1943–1948 гг. В этом корпусе зафиксировано свыше 1200 вопросов, заданных на собраниях трудовых коллективов г. Молотова2. Партийная отчетность составлялась «порайонно». В связи с этим далеко не всегда оказывается возможным идентифицировать трудящихся конкретного предприятия. В документах упоминается свыше 30 объектов промышленности. При этом наиболее часто говорится о крупных оборонных предприятиях (производство авиадвигателей, артиллерии, боеприпасов), а также о предприятиях железнодорожного, водного транспорта и строительной промышленности.
Несмотря на большой массив документов, мы вынуждены были отказаться от количественного анализа. Нам неизвестно, насколько тщательно и регулярно собирались подобные материалы, какое количество их сохранилось в партийном архиве. Дать точный ответ на вопрос о распространенности тех или иных мнений эти источники не позволяют, но дают возможность выявить социальные настроения и механизмы коммуникации с властью, мнения, зафиксированные агитатором. Суждения последнего, который за высказываниями трудящихся пытался обнаружить общественные настроения, стали для нас отправной точкой в систематизации материала. Каким образом агитаторы оценивали высказывания рабочих? Как осуществляли классификацию задаваемых трудящимися вопросов? Как отличали политически правильные суждения от опасных для власти вопросов?
Высказывания трудящихся не были однотипными. В одних случаях мы имеем дело с явно заготовленными партийными руководителями фразами, вложенными в уста рабочих, в других – с вопросами, которые трудно представить как заготовленные. Одни суждения понимались составителем отчета как политически верные, другие – как опасные и антисоветские. Первые обычно упоминаются в контексте организованной политической презентации, сценарий которой подробно описывается. Так, приведенная в начале статьи цитата, отражающая реакцию трудящихся на интервью Сталина и фултонскую речь Черчилля, являлась импровизацией. «Было проведено совещание парторгов цехов завода… проведен семинар для зав. агитационными пунктами, где также даны указания как нужно разъяснять интервью т. Сталина среди населения района. Кроме этого многих секретарей первичных организаций вызывали в отдел агитации и пропаганды РК ВКП(б)» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 10). Начальство отчитывалось о масштабах проделанной работы: «По неполным данным по району проведено 320 бесед, ими охвачено 19.800 человек … Всего по интервью тов. Сталина с корреспондентом ″Правды″ проведено 1244 бесед, 1480 читок, с общим охватом 20380 ч.» (Там же. Л. 16, 44). Выступления трудящихся были прописаны в сценарии политического спектакля. «Я презираю Черчилля как поджигателя войны. Но ответ тов. Сталина корреспонденту ″Правды″ воодушевляет нас на новые трудовые подвиги, на укрепление блока коммунистов и беспартийных, в связи с этим я подаю заявление о приеме меня в ряды коммунистической партии» (Там же. Л.10).
Представляется, что интерпретировать подобные высказывания продуктивно исходя из перформативной теории, позволяющей сосредоточить внимание не столько на содержании высказывания, сколько на его форме, посредством которой происходит изменение ситуаций и статусов участников политической коммуникации3. Упомянутые высказывания можно считать перформативными [Остин, 1999]. Их назначение – не описание процесса, а переопределение ситуации, демонстрация своего места в совершаемом публичном действии4. С позиций политического перформанса бывший премьер-министр утрачивает свой прежний символический статус союзника, переходит в разряд «презираемого». Эту операцию совершает простой советский человек, отвечая на поползновения врага обещанием трудовых подвигов и просьбой о вступлении в партию. Каким образом определял ситуацию этот перформативный речевой акт? Как осуществлялась публичная презентация своей (ожидаемой властью) политической позиции? «Мы не можем забыть… Мы усилим… Мы возьмем… Мы дадим отпор… Сталин выразил мнение всего народа… Капиталистическая система делает вылазки… Народы мира не допустят… Советский
Союз найдет силы… Мы выражаем любовь и веру… Мы теснее сплотим… Я презираю Черчилля… Черчилль болтает… Черчилль будет бит… Они будут биты… Угроза войны будет бита… Народ сумеет» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 10–20). Перформативные высказывания определяли политическую идентичность посредством конструирования образа Другого. Эта идентификация строилась на различении своих и чужих, которые наделялись оценочными характеристиками: положительной и несокрушимой силой или достойной презрения слабостью. Мы (народ, СССР) все помним и обладаем силой, которая позволит нам взять, заставит замолчать, дать отпор Им (Ему). Они (капиталистическая система, Черчилль) угрожают войной, порабощают народы. Но они слабы, только болтают и поэтому будут биты. Ведь их мощь и поддержка несопоставима с Нашими силами.
Выступления основывались на тексте самого вождя. Сталин: «Возможно, что кое-где склонны предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского ига. Но Советский Союз не может забыть о них» (Интервью, 1946). Рабочий Кондрашин: «Мы не можем забыть колоссальных жертв Второй мировой войны и будем впредь стоять на страже мира. Советский Союз найдет силы и средства дать ответ поджигателям войны» (ПермГАСПИ. Ф.1. Оп.45. Д.191. Л.16). Сходство используемых эпитетов и метафор очевидно. Между тем это не простое цитирование. В этом случае более уместно употребление сочетания «метафора гипертекста», термина, который описывает использование первоисточника на основе созданного заранее ассоциативного ряда. Согласованное высказывание позволило решать две задачи: передать речь вождя без изменений и адаптировать цитату к социальному статусу выступающего. Политический язык должен быть разным у «рабочего», «колхозника» или «инженера». Если рабочий брал на себя обязательство перевыполнения плана, то учительница обещала развивать культуру учеников. Женщина-мать получала больше возможностей для выражения экспрессии. Используемый язык здесь задается властью, не оставляя ни малейшей возможности для претензии на собственную, независимую от власти позицию. Исключение составляли реплики, форма которых могла не иметь в качестве основы официальный политический язык, но эмоционально выражала верным образом роль и место вождя. «В отдельных цехах рабочие заявили в адрес Черчилля: "Вот называется друг", -мерзавец, а еще сидел рядом с товарищем Сталиным» (Там же. Л. 17). Знаменитый снимок «большой тройки» становился аргументом для обвинения.
К определению «антисоветские» для обозначения высказываний авторы отчетов прибегали редко, гораздо чаще они обращались к эвфемизму «нездоровые» или «нехорошие» настроения. Трудно выяснить, были ли эти реплики публичными или передавались сослуживцами. Случайно или нет, но такие суждения есть в тех отчетах, в которых цитируются идеальные с точки зрения власти высказывания рабочих, отвечающих на инициативу властей. Законы жанра партийной отчетности предполагали их помещение в конце документа. При этом реплики обозначались прилагательным «отдельные». Эти суждения нередко фиксируют сомнение граждан в официальной информации, относящейся к событиям на фронте. «…Слесарь Евсеев … говорил: “Зачем держаться за Сталинград, все равно ему не устоять”. Теперь, когда Красная Армия успешно наступает Евсеев заявляет: “Сейчас наши отгонят, а весной немцы обратно возьмут Сталинград”» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 304. Л. 18). К «нехорошим» настроениям агитаторы относили и те, которые отражали недовольство условиями труда. «Я лучше пойду в армию, там если убьют, то знаешь за что погибать, а здесь только горишь»; «Захаров и Куряпин говорят: "Босые работать не пойдем"», тогда когда у них есть обувь» (Там же. Л. 3). Примечательно, что для пропагандиста крамола заключается не в том, что рабочие возмущаются условиями труда, а в том, что делают это «нечестно».
В источниках «нездоровые» настроения выглядят своеобразным «антиперформансом», который становится зеркальным отражением официальной информации. Призыв к обороне Сталинграда превращается в утверждение о бессмысленности его защиты. Сообщения об успехах Красной армии ведут к ожиданию поражений. Самоотверженный труд в тылу становится бессмысленным. При этом «антиперформанс» парадоксальным образом зависит от голоса власти, меняя знак официального политического высказывания на противоположный. По всей видимости, именно суждения такого рода попадали в поле зрения карательных ведомств (ПермГАСПИ. Ф.641. Оп.1. Д. 9016, 14743, 8938, 8961).
Отдельным сюжетом для рассмотрения могли бы стать истории, связанные с религиозными или архаическими суждениями. Антигероем здесь становится обычно женщина, нередко – гадалка, озвучивающая пораженческие и даже эсхатологические суждения. «…Живем мы плохо потому, что комсомольцы в бога не веруют и он нас всех наказывает … серп и молот скоро сломается, рухнет. Не будет коммунистов и Сталина, Германия победит и тогда будем жить под покровом божьим» (ПермГАСПИ. Ф.1.Оп.22. Д.304, Л.22).
Между тем самый большой пласт реплик сложно трактовать в рамках оппозиции «советское – антисоветское». Большинство вопросов не являются заготовками, вложенными в уста рабочих. Не относятся они и к оппозиционным высказываниям. Составитель не сопровождает их негативной оценкой. Задающие вопросы выходят за пределы политического послания, но остаются в содержательном поле газетной информации. «Имеются ли какие отклики на речь Черчилля в Турции? Почему Черчилль выступил в Америке, а не в Англии? Как относится Трумэн к речи Черчилля? (Там же. Л. 12, 13). Распознавая угрозу новой войны, трудящиеся оказываются способны сменить модальность. «Говорят, что весной будет война? Неужели будет опять война? Неужели опять будет война и откуда ее ожидать с Запада или Востока? Кто из Европейских государств будет в союзе с нами в случае войны» (Там же. Л. 13, 21, 43). Спрашивающий скорее просит уточнить точку зрения власти. Выражение «неужели опять» сложно трактовать как проявление решительной поддержки властных инициатив. В реплике рабочего скорее обнаруживается если не безысходность, то усталость от войны.
Рабочие просят уточнений, пытаясь освоить язык власти. «Чем объяснить слабые действия наших союзников и отсутствие вторжения их войск на территорию Германии? Каковы взаимоотношения между СССР и Японией?» (ПермГАСПИ. Ф.1.Оп.22. Д.304. Л.11, 17). Происходит превращение повествовательных предложений языка газетных передовиц в вопросительные конструкции с сохранением лексики. Трудящиеся пытаются выяснить местонахождение пропавшего из сводок и газет ранее упомянутого персонажа международной политики: «Где сейчас войска Де-Голля? Где сейчас находится 8 китайская армия и положение в советских районах? Где пребывает Ванда Василевская и почему она не вошла в состав польского правительства? Где находится армия Андерса и какое влияние она оказывает на Балканские государства?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 304. Л. 2, 16; Оп. 45. Д. 130. Л. 1, 7; Д. 191. Л. 29). Трудящимся необходимо знать, где находятся лидеры фашистской Германии: «Где находится Гиммлер? Где находится Гитлер? Где Гитлер, Геббельс и в самом ли деле они живы?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 130, Л. 9, 8об., 21); каково состояние нашей армии: «Где находятся Тимошенко и Буденный? Где командуют наши маршалы? Где находится черноморский флот?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 304. Л. 10, 16).
Создается впечатление, что требования указать географическую локацию персонажей газет и сводок были призваны упорядочить воображаемое политическое пространство. Знание местонахождения армий, военных и политических лидеров конституировало постоянно меняющуюся географию. В этом воображаемом пространстве открывались возможности для коллективной самоидентификации. Не только власть, но мы вместе с ней оказываемся воображаемым субъектом международных отношений. «Почему именно теперь мы говорим о невозможности победы над Германией без второго фронта и какой из этого вывод должны сделать наши союзники? Отдадим ли мы Германии оккупированную зону, а также Румынии и Венгрии? Когда заберем у Японцев Порт-Артур?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 304. Л. 21; Оп. 45. Д. 130. Л. 28). Воображаемое сообщество, если пользоваться терминологией Б. Андерсона [Андерсон, 2016, с. 45–50, 100–103], конструируется в контексте политической карты мира посредством символического присвоения действий власти5.
Роль печатного слова в формировании национальной идентичности дополнялась интерактивным ритуалом. Напомним, в начале войны у населения были конфискованы радиоприемники. Радио и лекции если не заменяли газету, то становились определяющей формой освоения политического знания. Можно сказать, что трудящиеся тыла на несколько лет стали слушателями грандиозного трагического «сериала» под названием «война». В этом сериале озвучивались географические названия, имена политических лидеров стран, говорилось о ситуации на фронтах, об отношениях с союзниками. В сфере актуального знания трудящихся оказались не только противники и союзники, но и такие страны, как Аргентина, Турция, Иран, Китай, Греция.
Слушатель и читатель узнавали о польском правительстве в Лондоне и о Ванде Василевской, о заявлении Стэндли и правительстве Софулиуса, об особых районах Китая и о меджлисе в Турции. Усилия по формированию воображаемой карты мира делались властью и ранее [Орлова, 2004; Бранденбергер, 2017].
Между тем агитационная работа в это время значительно изменилась. Патриотическая пропаганда осуществлялась в контексте мощнейшей военной мобилизации, затронувшей прямо или косвенно почти каждого. Идеология трансформировалась в стремительно меняющемся социальном контексте: военный призыв, эвакуация, трудовые мобилизации. Рост степени неопределенности затруднял перформативные высказывания, перед участниками коммуникаций возникала проблема открытости смыслов в понимании новых идеологических веяний [Деррида]. Во время войны прежняя дихотомическая картина мира трансформировалась в трехмерную политическую модель: СССР, союзники (Великобритания и США), фашистская Германия и ее сателлиты6. Эта модель требовала постоянных комментариев, в первую очередь в связи с позицией и деятельностью союзников. Между предписанной сверху оценкой текущего политического момента и публичной рефлексией трудящихся неизбежно появлялись точки разрыва. Это необязательно выражалось в использовании иного языка, отличного от политического в пространстве, принадлежащем власти. Речь идет об ином использовании самого языка власти в ситуации и месте, этой властью предписанном. Пространственные стратегии являются прерогативой власти [ Серто , 2013, с. 107–113]. Добавим, что символический захват места, членение и классификация предполагают не только работу с зонами политических ритуалов, но и усилия, направленные на конструирование воображаемого пространства, находящегося за пределами непосредственного опыта. Противоречия трехмерной модели внешнеполитического пространства открывали возможности для уточнений и комментариев, которые выходили за рамки одобренного сверху сценария. Вслед за М. де Серто практики обращения трудящихся с официальными текстами и устным словом можно назвать тактиками, организуемыми в пространстве институтов, принадлежащих власти7, – тактиками, которые, не имея собственного языка, оказывались способны изменять способы употребления властного дискурса.
Смена модальности политического языка становится еще заметнее в тех вопросах, которые связаны с упорядочиванием времени. Пытаясь определить временные координаты, рабочие соотносят их с окончанием войны (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 130. Л. 28, 2, 27, 27об.). Вопросы, связанные с географией, соответствуют политической карте мира, представленной в советской прессе. Суждения о времени выглядят иначе, сосредоточиваются на переживаниях прожитых и ожидаемых событий ближайших лет. Октябрьская революция, индустриализация и коллективизация оказываются забыты и вытеснены войной8, которая в этих вопросах оказывается прочно связана с напряжением физических и моральных сил. Содержательно указанные вопросы выходят за рамки упомянутого официального «сериала». Их источник – не советские газеты, а повседневный опыт лишений. Этот опыт заставляет постоянно вклиниваться в политическую тематику лекций9. Вопросы нередко приобретают интонацию требований.
С окончанием войны все более нестерпимым становится крепостное положение на заводах: «Будут ли отпущены рабочие, мобилизованные на строительство в начале и во время войны? На сколько еще будут продлены законы военного времени и будут ли отпускаться домой мобилизованные на завод рабочие отдаленных районов?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 130. Л. 10, 12). Конец войны рождает надежды на возвращение к прежним ритмам труда и отдыха: «По окончании войны будет ли решен о периодических отпусках для всех? Когда будет введен обязательный 8-часовой рабочий день для всех производств?» (Там же. Л. 12об., 12).
Предвоенное время не было периодом процветания. Между тем окончание войны заставляет рабочих конструировать довоенное прошлое в качестве нормативного поля, которое противостоит мобилизационным практикам и ритмам военного времени. Это не проговаривается открыто, проявляются в суждениях, свидетельствующих об ожиданиях изменений к лучшему, перехода от временного и чрезвычайного к стабильному и нормальному. «Отменят ли и когда военные налоги? Когда будет свободная торговля продуктами питания?» (Там же. Л. 23, 22). Вопросы о ближайшем будущем строятся по образцу воображаемого довоенного прошлого. В этом прошлом, которое скоро должно вернуться как будущее, нет карточной системы и военных налогов, рабочие работают восемь часов в сутки и ежегодно уходят в отпуск, имеют право самостоятельно менять место работы.
Вместе с тем окончание войны мыслится не просто как восстановление прошлого. Рабочие ждут от власти справедливого поощрения за перенесенные лишения. Кто будет награждаться медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»? Эта формулировка у рабочих сопрягается с вопросом об ожидаемом статусе в послевоенном социальном мире. Кем будут труженики тыла в сравнении с фронтовиками? Как определить солдата, вернувшегося домой инвалидом и устроившегося работать на завод? Что получит несовершеннолетний рабочий? Компенсирует или нет сверхурочный труд во время войны нарушения трудовой дисциплины? (Там же. Л. 21, 24).
В этой попытке самоопределения через взгляд на себя со стороны государства играет важную роль и желание понять социальный статус носителей прежних политических стигм. «В связи с открытием церкви в деревне Заборной спрашивают: будут ли попы получать продовольственные карточки?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 304. Л. 3). Как и прежде, карточки становятся символами, посредством которых трудящиеся пытаются распознать легитимность других социальных статусов [ Осокина , 2008, с. 123–136]. Маркером политического отношения государства к различным группам выступает процедура выборов: «Будут ли голосовать граждане, которые были в плену у немцев? Лишены ли права голосования близкие родственники предателей Родины? Будут ли голосовать немцы Поволжья?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д.191. Л. 14, 2, 15). Нарушение символической связки социального статуса с иерархией государственного распределения может восприниматься как высшее проявление социальной несправедливости: «Почему нашим хлебом кормят германское население?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 15об.).
Лекции и собрания, связанные с политическим просвещением, преследовали иные цели: сплотить население вокруг власти, создать мотивацию для сверхурочной работы. Между тем эти собрания стали площадкой для легального выражения своих бед. Рассогласование конструируемых довоенных образов с неменяющейся мобилизационной моделью оказалось в 1946 г. настолько значительным, что интонации выступающих стали гораздо резче. «Почему в магазинах нет спичек и соли, неужели Советский Союза обеднял? Когда же мы закончим пить чай из консервных банок?» (Там же. Л. 48). Большие ожидания в условиях новых ограничений осени 1946 г. оказались способными спровоцировать серьезное социальное напряжение в различных регионах страны [Фильцер, 2011, с. 64–109]. Снижение норм выдачи хлеба в первую очередь ударило по многодетным семьям и тем рабочим, которые имели прописку в сельской местности. Итогом этого стало заметное для партийных функционеров возмущение. «Рабочие возмущались и обвиняли во всем местное руководство, которое, по их мнению, не заботится о рабочих, сами получили карточки и на этом успокоились, а наши семьи сидят голодом … если не выдадут карточки, я работать не выйду… Пусть нам дают расчет и мы уйдем работать в колхоз …» (Там же. Л. 57, 58; Дневник рабочего, 2014, с. 36). Новая формула «даже во время войны было лучше» стала звучать в устах рабочих серьезным обвинением в адрес местного руководства: «Я во время войны с семьей 8 человек жил лучше, т.к. хотя немного, но давали жиры, сейчас мы их не получаем, да и хлеб сбавили» (Там же. Л.58).
Любопытно, но, за редким исключением, возмущения рабочих не воспринимаются авторами отчетов как антисоветские. Неявно агитаторы сочувствуют трудящимся. Чиновники, стоящие на «линии огня», вынуждены выступать в качестве защитников рабочих перед партийным руководством: «Заводской комитет профсоюза написал три письма: в ЦК союза промышленности Вооружения, в Горком и в Обком ВКП(б) с просьбой обеспечить 5000 человек хлебными карточками, но до сих пор ответа не получил и положение остается без изменений» (Там же. Л. 58). Отсутствие критики в адрес трудящихся, попытки разрешить проблемы посредством обращения в вышестоящие инстанции свидетельствуют о ряде изменений, произошедших в коммуникациях между властью и населением [Кабацков, 2014, с. 183–193]. Ужесточение репрессивного трудового законодательства парадоксальным образом сопровождалось появлением институтов, где возмущение рабочих имело силу если не вполне законных, то и не антисоветских требований. В дискурсе регионального чиновника тема заботы о материальном положении трудящихся обретала ограниченную легитимность.
Подведем итоги. Вторжение в жизненный мир рабочего образов далеких стран позволяло осуществлять важную идентификацию себя с властью в контексте мировой политики. Вместе с тем воображаемое пространство вступало в противоречие с временным горизонтом, связанным с телесным опытом и переживаемыми повседневными практиками. Если пространственные образы оказались далеко за пределами страны, то временное пространство сузилась до представлений о скором улучшении, конструируемом по лекалам воображаемой и уже идеализируемой довоенной эпохи. Социальные ожидания вызывали рост социального напряжения. Недовольство трудящихся при этом получало определенное признание в рамках институтов, созданных самой властью. Тактики приобретали черты стратегий. Организация властного перформанса имела неожиданные последствия – возможность собственных перформативных высказываний со стороны рабочих.
Список литературы Перформативные речевые практики в политических коммуникациях власти и населения 1940-х годов
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон -пресс -Ц; Кучково поле, 2016. 416 с
- Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 248 с
- Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927 -1941/пер. с англ. А.А. Пешкова, Е.С. Володиной. М.: Полит. энциклопедия, 2017. 367 с
- Бранденбергер Д.Л. Сталинский руссоцентризм: советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)/пер. с англ. Н.Г. Алешиной, Л.Н. Высоцкого, Л.Ю. Пантиной. М.: Полит. энциклопедия, 2017. 407 с
- Деррида Ж. Подпись -событие -контекст. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/podp.php (дата обращения: 12.01.2018)
- Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953 гг. М.: РОССПЭН, 1999. 229 с
- Кабацков А.Н. Жизненный мир советского рабочего в позднюю сталинскую эпоху (по дневнику Дмитриева 1946-1953)//Советское государство и общество в период позднего сталинизма. 1945-1953 гг. М.: Полит. энциклопедия, 2015. С. 183-193
- Манкевич Д.В. Голоса из прошлого. "Информации райкомов и горкомов ВКП(б) КПСС о "настроениях трудящихся" Калиниградской области (вторая половина 1940 -начало 1950 -х гг.)//Ретроспектива. Всемирная история глазами молодых исследователей: Сб. науч. статей. Калининград: Изд -во Рос. гос. ун -та им. И. Канта, 2009. Вып. 4. С. 45-52
- Орлова Г.А. Овладеть пространством: физическая география в советской школе (1930-60-е гг.)//Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 4. С.163-185
- Осокина Е.А. За фасадом ©сталинского изобилияª: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. М.: РОССПЭН, 2008. 351 с
- Остин Дж. Избранное/пер. с англ. Л.Б. Макеевой, В.П. Руднева. М.: Идея -Пресс, 1999. 332 с
- Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать/пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд -во Европ. ун -та в Санкт -Петербурге, 2013. 330 с
- Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны/пер. с англ. А.Л. Раскина. М.: РОССПЭН, 2011. 359 с
- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение/предисл. А.Беляева; пер. с англ. М.: Нов. лит. обозрение, 2014. 664 с