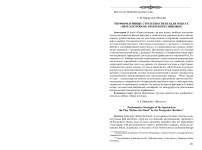Перформативные стратегии спектакля в пьесе "Перед потопом" братьев Пресняковых
Автор: Меркушов Станислав Фдорович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В пьесе «Перед потопом», на наш взгляд, наиболее последовательно воплощаются весьма заметные и семантически значимые во всех пресняковских художественных текстах идеи божественного откровения, человеческой веры и выбора. Они реализуются в соответствии с авторскими перформативными стратегиями спектакля, генетически связанными, в частности, с именем Ги Дебора и эксплицируемыми через ритуал с его рекурсивностью в рамках любых видов дискурсов, с которыми работают Пресняковы (прежде всего это бытовой и институциональный виды, с выходом к бытийному). Одновременно таким образом остраняется характерный для исследуемой драматургии и отмеченный М. Липовецким и Б. Боймерс принцип необходимости художественной репрезентации системности мироздания и взаимообусловленности всех его элементов. Анализ сакральной геометрии текста на уровнях его образной системы и структурных особенностей в целом показал, что пьеса представляет собой объемную цельную мистическую пространственную картину хронологической конвергенции, выраженной в «симулятивной» поэтике псевдосоответствий и подмен. Посредством художественного конструирования трех магистральных образов - Йона, Артура и Сына - осуществляется попытка эстетического преодоления трагической бессмысленности современной и безвременной реальности через в некотором роде «вскрытие» ее проблемных «очагов». На выходе не просто фиксируется «новый взгляд» на известный библейский «сценарий», но конструируется собственный беспредельный «апокалипсис-перформанс».
Братья пресняковы, русская драматургия, перформанс, спектакль, дебор, «перед потопом»
Короткий адрес: https://sciup.org/149140450
IDR: 149140450 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-241
Текст научной статьи Перформативные стратегии спектакля в пьесе "Перед потопом" братьев Пресняковых
Мнение о том, что в драматургии главным образом актуализируются перформативные авторские стратегии, в научной среде сегодня претендует на статус общепризнанного. Отказ от миметического изображения (Х.-Т. Леман [Леман 2013]), «перформативный поворот» к эстетике спектакля во всех видах искусства (Э. Фишер-Лихте [Фишер-Лихте 2015]), императив перформативных тактик в драме (В. И. Тюпа [Тюпа 2013], С. П. Лав-линский [Лавлинский 2011]) — ведущие принципы функционирования и изучения современного театра, базирующиеся на широком социальнофилософском его понимании (Ги Дебор [Дебор 2020]). Приоритет и эффективность такого в целом интермедиального подхода демонстрируются по отношению к анализу «новой драмы», обсуждение художественной специфики которой попадает в эпицентр предпринятого нами опыта.
М. Липовецкий и Б. Боймере в книге «Перформансы насилия» рассматривают «новую драму» в ракурсе перформативности [Липовецкий, Боймере 2012], во многом определяя исследовательскую тональность ряда последующих работ [Семьян 2012 и др.]. Авторы заостряют внимание на аспекте превращения пьесы «в сценарий <...> современного ритуала, нацеленного на восстановление и создание заново сакральных смыслов и соответствующих психологических состояний в конкретной социокультурной ситуации, характерной для постсоветского общества» [Липовецкий, Боймере 2012, 26]. Идея ритуального смысла театрального искусства давняя и обнаруживается еще у А. П. Чехова и А. Арто, продолжается у В. Тернера и А. Васильева, но получает радикальное развитие в текстах и постановках «новой драмы» [Липовецкий, Боймере 2012, 25]. М. Угаров, О. Богаев, И. Вырыпаев, Ю. Клавдиев и др. в своих пьесах предлагают различные трактовки ставшего символом повседневности феномена насилия, облекаемого в форму ритуального перформанса.
Но, по-видимому одним из самых ярких примеров создания «ритуаль-

ного пространства перформативного проживания» [Липовецкий, Боймере 2012, 27], где оригинально претворяются архетипические сюжеты и древние магические смыслы, является драматургия братьев Владимира и Олега Пресняковых. В знаменитых пьесах «Терроризм» и «Изображая жертву» в значительной степени идентифицировался этот перформативноритуальный компонент, оказавшийся впоследствии особым формальносодержательным критерием «новой драмы». Пресняковы в сакральном и в переосмыслении архетипических моделей ищут пути освобождения от дурной бесконечности заменивших жизнь имитаций и тропы выхода к непосредственному экзистенциальному восприятию. Менее известная и изученная пьеса «Перед потопом» представляет собой редкий случай гармоничного сопряжения подобного художественного поиска с философской практикой освоения реальности, заключенного в драматургическом тексте. Формируемые на основе социально-философской концепции Ги Дебора о равноценности рецепции понятий спектакля и современного мира онтологические и гносеологические интересы Пресняковых напрямую связаны здесь с процессом богопознания. Образная система пьесы, полагаем, аккумулирует важный для нашего анализа семантический посыл, в котором скрыт аутентичный интерпретационный ключ к тексту.
Первоначальное, «тестовое» прочтение пьесы может задать ее «механическое», а значит несколько поверхностное восприятие как текста-переложения, в котором по-новому интерпретируются узловые моменты ветхозаветного сюжета о Всемирном потопе. Безусловно, семиотическая родственность налицо: присутствует образ современного Ноя (Ион с семейством), описана подготовка к грядущему потопу (с искренним стремлением протагониста проинформировать остальных персонажей-представителей основных социальных институтов о скором апокалипсисе), показана попытка «вхождения в ковчег» (пусть и имеющий форму моторной лодки, которая должна была быть яхтой-призом). Однако неоднократное возвращение к тексту позволяет поэтапно обнаруживать в нем всё новые и новые содержательные слои. Каждое из сакральных семи действий пьесы развертывает свою дискурс-ситуацию спектакля: во втором, к примеру, объективируются семейные отношения, в третьем — социальная ситуация, в четвертом затронута сфера искусства и т.д. Обратимся к началу текста как к опорной точке, позволяющей сделать некоторые прогнозы и обобщения, касающиеся художественной специфики рассматриваемого текста и творчества Пресняковых в целом.
Ситуативное пространство первого действия пьесы — магазин, что уже содержит недвусмысленный намек на два взаимосвязанных понятия философии спектакля: «товар» и «потребление». «Мир, демонстрируемый спектаклем, существует и не существует одновременно. Он является миром товара, который господствует надо всем чувственно и непосредственно переживаемым», — пишет Дебор [Дебор 2020, 49]. Возникает гипотеза, что подлинное существование, истинная жизнь предполагает освобождение от спектакля. Как отменяют спектакль драматурги?
Пресняковы включают божественную субстанцию в спектр товарнопотребительских отношений: кажется, что Бог имманентно присутствует в мире в качестве ассортимента магазина, в данном случае чипсов и книги «Над пропастью во ржи», которые вручаются покупателю сначала Работником супермаркета, а затем Охранником. И тот, и другой также могут быть вписаны в «божественную» парадигму, поскольку первый сообщает клиенту важные сведения о грядущем потопе, а второй «всучивает» необходимые для правильного осуществления спасения предметы. Работник супермаркета сам вносит себя туда вместе с посетителем: «Работник супермаркета. Я <...> мог бы все обставить по-другому, <...> но я и сам изменился, я сам уже номер два, теперь вата очередь» [Пресняков 2008, 80] (курсив наш — С.М.\ Пачка чипсов (как аллегория манны небесной) с содержащейся в ней призовой фишкой становится многофункциональной, многозначной фабульной деталью, объединяющей в себе имплицитные смыслы текста. С ее появлением начинается выстраивание перформативного диалога о вере, который ведется не просто между персонажами, но и с читателем / зрителем, при этом как будто совершенно не заметно для него. Читатель / зритель попадает в привычную, хотя всегда неожиданную, онтологическую ловушку, обладающую гомеопатическим, терапевтическим эффектом. Как в произведениях А. Введенского и Д. Хармса, литературными наследниками которых, на наш взгляд, являются авторы пьесы, сознание реципиента подвергается метатекстуальному коннотативному воздействию, более интенсивному по сравнению с прямолинейным денотативным. Недостаток продуктивных в таких обстоятельствах языковых экспериментов не означает отсутствия иррациональной положительной реакции на вербальные манипуляции Пресняковых, представляющие собой перформативный ритуал освобождения. Совершается попытка первичного выведения из спектакля посетителя супермаркета, пока идентифицируемого только посредством выполняемой биологической роли Мужчины (свойственная действующим лицам пьес Пресняковых деиндивидуализация за счет их анонимности и при этом подчеркнутой акцентуации их социальных и конвенциональных ролей не раз фиксировалась исследователями [Липовецкий, Боймере 2012, 305]). Инспирируется перформативный диалог бытийной тематики с артикуляцией важнейшего в процессе опознавания субъектом самого себя и окружающего мира концепта веры:
«Мужчина. Вы уверены?
Работник супермаркета. Суверен. <...>
Мужчина. Я уже сказал вам, лотереям я не верю.. . мне не везет... <...> Работник супермаркета. Не везет, поэтому не верите?»
[Пресняков 2008, 76-77] (курсив наш — С.М.\
Существенным фактором выбора здесь является преимущественно даже не то, что Мужчина грешил «меньше всех», а его максимальная
по сравнению с другими «правдивость»:
«Мужчина. <.. .> только скажите, почему я? <.. .>
Работник супермаркета. Вы грешили меньше всех... в принципе, вас даже можно назвать самым правдивым из всех ныне живущих» [Пресняков 2008, 80].
Во втором действии продолжается движение Мужчины к самоидентификации: перед нами семейная ситуация с конструированием вербального перформанса на темы страха /смерти. Концепты «страх» и «смерть» здесь взаимозаменяемы, практически идентичны и также входят в проблемнопонятийное поле веры. Высокое понятие веры здесь намеренно снижается до примитивного уровня доказательства собственной и чужой телесной наличности, проверяемой, в частности, по запаху: «Женщина. <...> важнее всего в нашей жизни — запах! Мы любим, мы живем с нашим партнером только благодаря запаху, который нам нравится!» [Пресняков 2008, 94]. М. Липовецкий и Б. Боймере справедливо констатировали, что общепринятый ритуал в пьесах Пресняковых «эту автономность опровергает, <...> вызывает эмоциональное онемение <...>» [Липовецкий, Боймере 2012, 290]. Нестандартный же ритуал, как нам кажется, наоборот, превращается в репрессивный и одновременно трансгрессивный акт, редуцирующий эмоциональную и интеллектуальную скованность. Инициированный Мужчиной и сопряженный с некоторым насилием над Женщиной обмен с ней нижним бельем имеет целью не просто проверку зависимости выбора спутника жизни от ароматических качеств белья, но провоцирует разговор на тему смерти, тем самым обусловливая следующий шаг освобождения от спектакля. Несмотря на то что никакой другой формы жизни, кроме телесной, не признается, не допускается, а попытки говорить о смерти вызывают страх, все равно осуществляется подъем на ступень выше:
«Женщина. Ты с ума сошел, там, скорее всего, ничего нет...
Мужчина. (Шепчет.) Ну, да... рассказывай...
Женщина. (Тоже шепчет.) А что — есть?
Мужчина. Конечно...
Женщина. Что?
Мужчина. Возможность... все начать сначала...
Женщина. Всего лишь?» [Пресняков 2008, 102-103].
В итоге процесс совместного с Женщиной поглощения чипсов заканчивается обретением зыбкой веры в грядущий апокалипсис, в собственную смертность и в Бога, то есть «приходом в сознание» на пути полного избавления от спектакля. Поэтому специфично, что в супермаркете Мужчина получает имя, но становится Ионом (Ноем наоборот) только в третьем действии (именно тогда перед его репликами появляется «Ион» вместо безличного «Мужчина»),
Нет смысла в долгом рассмотрении достаточно прозрачных семантических корреляций образа Иона с магистральными образами Ветхого и Нового Завета (Ной, Иона, Иоанн). Можно отметить некоторую «палиндром-ность» этих связей, обнаруживаемую как на антропонимическом уровне, так и на «функциональном»: в частности, Ион, в отличие от Ноя, является не продолжателем человеческого рода, а его потенциальным деструктором. В амбивалентном финале пьесы репрезентируется многоплановый повтор библейских сюжетов, а образ Иона обретает синтетический градиентный модус. Многоплановость копирования видится во включении в контекст связанных с персонажем Ионом портретных имитаций Иисуса Христа и Джона Леннона. Причем в первом случае ситуация завершения физического существования «переворачивается». Персонаж Подросток / Сын Иона одновременно выступает в ипостасях «сына человеческого», отцеубийцы, убийцы «бога», что позволяет увидеть параллели и/или полемику и с Библией, и с Ф. М. Достоевским, и с Х.-Л. Борхесом, а в сюжетной коммуникации с идеей «Джона Леннона» — еще и с характерологией рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Рассмотрение моделируемой ситуации в одном ряду с резонансным заявлением реального Леннона в 1966 г. о том, что Beatles «популярнее Иисуса», а, главное, о том, что «последователи Иисуса тупы и заурядны» [цит. по: Глухов 2016], открывает перспективы анализа пьесы как в разрезе разнородной художественной коммуникации образов, так и с точки зрения принципиальной пародийности текста, даже некой итеративной «стертости», «копийности», «симуляции» (Ж. Бодрийяр [Бодрийяр 2015]).
Универсальная (далеко не только постструктуралистская) идея изоморфизма текста и мира теоретически позволяет нам соотнести воззрения о конце света и заключительное действие пьесы, где небольшие, но семантически нагруженные роли играют персонажи Сын Иона и горилла Артур.
Фабульная концентрированность на приближающемся «дне рождения», вербальное повторение этого обстоятельства в узловых пунктах сюжета и увязывание его с тематикой жертвенности — всё это подтверждает, как уже было сказано, генетическую общность образа Сына Иона с «сыном человеческим». Это, подобно фигуре Иона, образ-контаминация черт «бога-отца» и «бога-сына», чем, самое малое, подчеркиваются отражаемые в тексте экзистенциальный эклектизм и абсурд внешней действительности. Но он же (образ) несет на себе печать и «Иуды», и «Хама», и, еще раз, «отцеубийцы» (восприятие родных как чужих и их насильственная ликвидация — тема, характерная для творчества Пресняковых).
Образ гориллы Артура воплощает разные мифологические, философские, политические и прочие концепции, которые пунктирно могут быть оформлены в виде следующих связей: средневековое германское понимание дьявола как обезьяны Бога / учение об обезьянолюдях Йорга Ланца / обезьяний народ Бандар-лог Редьярда Киплинга / теория происхождения видов и естественного отбора Чарльза Дарвина / расовые представления Гитлера (нацизм и фашизм — также отдельная и полисемичная тема

у Пресняковых, в том числе и в «Перед потопом») / менее явная связь с индуистским Хануманом / легенды о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и поисках Грааля. «Резонер» Артур может быть интерпретирован как лжепророк, что отсылает к сатанинским атрибуциям («Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин 8:44)). Его сентенция в шестом действии, которое в свою очередь можно воспринимать как погружение во мрак иллюзий и обмана, в частности вследствие изображаемого там коллективного приема листьев коки, на самом деле перенаправляет Иона и прочих в умозрительные просторы, нередко ведущие в тупик. Здесь можно видеть и диаметрально противоположное: метафору «листьев травы», открывающих человеку, по У. Уитмену, понимание самого себя, своей всеобъемлющей сущности и родства со всем окружающим, с Вселенной, с Богом. Однако именно Артур в итоге приводит в действие машину гипотетического уничтожения человечества после своего входа в «ковчег». Причем делает он это стихийно и будто забыв все сказанное раньше, подобно сомнительным братьям Маугли, «подложную» природу которых отмечали Ю.М. Лотман [Лотман 2000, 651] и А. А. Долинин [Долинин 1999, 296]. В пьесе не раз имплицируется дьявольская природа Артура, например, его нарочитые бессловесность и невмешательство, определенное «бесчувствие» [Липовецкий, Боймере 2012, 291], невовлеченность в устройство и движение мира сего (хотя этим же определяется его формальная резонерская роль, как таковая нередко принимающая у Пресняковых комические формы). Сын после убийства отца, которое в библейском понимании — сама суть первородного греха, читает в романе Д. Сэлинджера: «<.. .> “Я буду держаться неприступно, как дьявол” <.. .>» [Пресняков 2008, 117] (курсив наш — С.М.\ Фраза, конечно, соотносится с самим читающим, но с учетом того, что «Над пропастью во ржи» цитируется перед вхождением Артура в лодку, может корреспондировать и с ним. Заметим, что ранее (в пятом действии) именно Артура (после матери волчицы) звери в зоопарке просят убить / принести в жертву волчонка, олицетворяющего «пса Фенрира», — с целью избавления их от предполагаемого местного «Рагнарека».
Артура несложно представить и подлинным охранителем мироздания, поскольку благодаря ему жизнь после потопа может возобновиться, хотя, вероятно, не биологически. Но и это вызывает сомнение: спасение обезьяны знаменует новое начало дарвиновской эволюции, что не принесет ничего хорошего, судя по тому, что имеется в наличии и показано в пьесе. В соответствии с абсурдистским мировоззрением Пресняковых, оно же (спасение) может предвещать зарождение эры обезьян, в распоряжении которых окажется планета. Вместе с тем начавшийся дождь не обязательно будет дождем апокалипсиса (возможно, это просто очередное выпадение осадков), ведь Работник супермаркета говорил о выборе именно Иона с семейством, но никак не гориллы Артура. Хотя и Работник супермарке - та — не Бог, а «номер два» [Пресняков 2008, 80].
Как видим, работа механизма фальсификации — едва ли не главного художественно-идеологического приема Пресняковых — весьма наглядна при рассмотрении системы образов / персонажей. Причем сама эта система сознательно декорирована как эрзац с персонажами-дублерами «субъектов», занявших вполне фиксированные места в культурной памяти человечества.
Между тем через образы в художественном пространстве пьесы также материализуется божественная имманентность, то есть «осязаемое» и при этом суррогатное, ненастоящее присутствие Бога в мире. Но дело в том, что и вывод Бога за пределы творения не возымеет, похоже, позитивной модальности. В мире перед потопом, в мире, где нет Бога, ничего не меняется, и его герои (кроме, наверное, Иона как потенциального носителя Истины, которого традиционно уничтожают и тем самым окончательно выводят из спектакля) нацелены на рутинную, глухую, и все-таки скверную, стабильность самопродолжения: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,—так будет и пришествие Сына Человеческого; Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется <...>» (Мф. 24:37). В этой евангельской сентенции содержится смысл предпринимаемой Пресняковыми попытки, уже путем привлечения и исследования, в общем-то, полностью сакральных мотивов возможности присутствия Бога, веры и выбора в современном мире, снова показать, что это «сакральное создается только насилием, жертвоприношением, причем желательно невинного существа» [Липовецкий 2012, 309]. Но по тексту «Перед потопом» даже насилие, жертвоприношение направлено на квазиспасение — на то, чтобы все оставалось, как было: «Сын Йона. <.. .> Все, можете успокоиться... Никто не утонет... все спасены... я за все отвечу...» [Пресняков 2008, 177].
Резюмируем. Ситуативность рассмотренной пьесы прямо коррелирует с философией ситуационизма Ги Дебора и его трактатом «Общество спектакля», где утверждается и исследуется тождественность общества и спектакля. «Перед потопом» композиционно достаточно четко выстраивается по принципу сменяющих друг друга ситуаций, принимающих характер театральных постановок с использованием стратегий перформанса и ритуала. Тем самым изначально читатель / зритель помещен в трудно считываемые с первого раза «постановочные» условия восприятия пьесы, хотя именно они позволяют драматургам в итоге резче очертить амбивалентность и искусственность, фиктивность привычной жизни, воспринимаемой как единственно существующая реальность.
В пьесе воспроизводится инвариант мира в его перманентном кризисном состоянии вследствие утраты человечеством веры. Перед нами экспликация глобальной ситуации — ситуации сильно растянутого во времени, но постоянного, даже вечного, всеобщего процесса светопреставления.
С утратой веры утрачивается Бог: человек сам выносит Бога «за скобки» собственного существования, за пределы ощущаемого мира. Согласно нюансам своей новой природы, приобретенной в процессе жизни в ритуа-лизованных условиях социального спектакля, человек отгораживается, отчуждается сначала от общества как такового, затем от членов своей семьи. В конце концов, происходит деперсонализация, но не в традиционном, «хорошем», понимании — как утраты я в результате достижения гармонии единения с миром, — а, наоборот, вследствие отчуждения от мира и самого себя. Логично ожидать при этом идентификации Бога как ненужного / неуместного / чужого, после чего следует неестественное, но неизбежное «трансцендирование» его из пространства спектакля, в который трансфор мировалась жизнь.
Удачно найденное Пресняковыми наименование жанра своих пьес — «философские фарсы» — вполне применимо в качестве обозначения реального существования в эпоху /юстправды и постверы. Поэтому пьеса «Перед потопом», как мы уже подчеркивали, не становится переосмыслением известных всем событий, но принимает черты имитации, карикатуры, с репрезентацией намеренно сниженной версии сакрального сюжета с курьезными образами-дублями, с использованием художественных приемов и тетра гиньоль, и крюотического театра, и театра абсурда. Однако именно такая постановка проблемы — ее гиперболизация, шаржированное, гротескное обнажение — способствует дезинтеграции ее причин. Вопросы экспансии лжи и истечения ресурсов веры решаются, как всегда в настоящем искусстве, жестко: через бесцеремонный силовой художественный эксперимент.
Список литературы Перформативные стратегии спектакля в пьесе "Перед потопом" братьев Пресняковых
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. 240 с.
- Глухов Д. Джон Леннон, Иисус и рок-н-ролл (2016) // Роккульт: сайт. URL: https://rockcult.ru/po/march-4-john-lennon-said-the-beatles-are-more-famous-than-jesus/ (дата обращения: 11.04.2022).
- Дебор Ги. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2020. 280 с.
- Долинин А. А. О некоторых подтекстах стихотворения Б. Пастернака «Тоска» // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М.: ОГИ, 1999. С. 290-301.
- Лавлинский С. П. Перформативный потенциал новейшей русской драмы // Литература и театр: проблемы диалога: сборник научных статей. Самара: Офорт, 2011. С. 224-233.
- Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. 312 с.
- Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012. 371 с.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб: «Искусство — СПБ», 2000. 704 с.
- Пресняков В. Паб: пьесы. М.: АСТ: Астрель, 2008. 254 с.
- Семьян Т. Ф. Перформативный характер текста современной отечественной драмы // Уральский филологический вестник. 2012. С. 167-175.
- Тюпа В. И. Дискурс / Жанр. М.: Intrada, 2013. 212 c.
- Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М.: Международное театральное агентство «Play&Play»: «Канон+», 2015. 376 с.