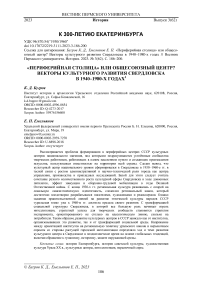"Периферийная столица" или общесоюзный центр? Векторы культурного развития Свердловска в 1940-1980-х годах
Автор: Бугров К.Д., Емельянов Е.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: К 300-летию Екатеринбурга
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема формирования в периферийных центрах СССР культурных центров национального значения, под которыми подразумеваются устойчивые сообщества творческих работников, работающих в одном населенном пункте и создающих произведения искусства, пользующиеся известностью на территории всей страны. Сделан вывод, что культурный центр национального уровня сформировался в Свердловске в 1930-1960-е гг. в тесной связи с ростом административной и научно-технической роли города как центра управления, производства и прикладных исследований. Базой для этого следует считать сочетание резкого количественного роста культурной сферы Свердловска в ходе довоенных пятилеток, эффект эвакуации и оборонно-трудовой мобилизации в годы Великой Отечественной войны. С конца 1930-х гг. региональная культура развивалась с опорой на локальную «квазиэтническую» идентичность, сложился региональный канон, который достаточно плодотворно разрабатывался писателями, художниками и режиссерами. Однако заданная правительственной линией на развитие этнической культуры народов СССР «уральская тема» уже к 1960-м гг. достигла предела своего развития. С трансформацией социальной структуры Свердловска, в которой все большую роль начинает играть интеллигенция, стратегией успеха для творческих сообществ становится стратегия эксперимента, ориентированного не столько на идеологическую линию, сколько на потребителя. Таким образом, развитие культурных центров в СССР зависело как от институтов, организовывавших это развитие, так и от трансформаций социальной среды. Напряжение между ориентацией институтов на региональную тематику уральского канона и нерыночным спросом со стороны растущей городской интеллигенции определяло ход и темп развития культурного центра в Свердловске в позднесоветское время на основе глобальных тенденций, включая обращение к гуманизму, историзму, защите окружающей среды.
История екатеринбурга, история советской культуры, художественная культура урала хх в, культурные центры, интеллигенция, нерыночный спрос
Короткий адрес: https://sciup.org/147246491
IDR: 147246491 | УДК: 94(470.54)"1930/1960" | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-186-200
Текст научной статьи "Периферийная столица" или общесоюзный центр? Векторы культурного развития Свердловска в 1940-1980-х годах
Советский Союз отличался высокой степенью централизации культуры [ Белошапка, 2009, с. 88], одновременно претендуя на равномерное развитие всех городов, больших и малых. В 1937 г. публицист С. Диковский, размышляя о трансформации страны после двух пятилеток, приходил к выводу: «Нет захолустья. Есть периферия, где люди работают так же настойчиво, дружно, самоотверженно, как и в центре» ( Диковский , 1937). Жесткая иерархичность, предполагавшая существование центра и периферии, означала (по крайней мере, теоретически), что города Союза движутся как бы по своим культурным орбитам, не конкурируя друг с другом [ Янковская , 2007, с. 185]. Н. В. Зубаревич подчеркивает, что пространственное развитие всегда является неравномерным из-за своего центр-периферийного характера; она описывает пространство России с помощью четырех моделей («четыре России»), объединенных в иерархическую последовательность - от группы крупнейших городов до отсталой сельской периферии [ Зубаревич , 2011]. Однако, когда социально-экономический анализ распределяет города по уровням иерархии, он обычно делает это постфактум , ссылаясь на определенные закономерности. Настоящая работа посвящена историческому аспекту проблемы формирования культурного центра на примере Свердловска - города, с 1930-х гг. безусловно входившего в «первый эшелон» советских городов и считавшегося одной из «периферийных столиц».
В 1976 г. очередной том Большой советской энциклопедии, содержавший статью о Свердловске, описывал город штампованной формулой «важный промышленный, культурный и научный центр Советского Союза» (Свердловск, 1976, с. 39), применявшейся практически ко всем городам-миллионникам СССР. Что скрывается за клише? В обширной литературе, посвященной развитию культуры на Урале, механика присутствия Свердловска на общесоюзном культурном уровне не рассматривается специально [Композиторы Екатеринбурга, 1998; Образ Урала в изобразительном искусстве, 2008; Блинов, Созина, 2016; Кириллова , 2016]. Конечно, еще Н. К. Пиксанов в известной работе «Областные культурные гнезда» (1928) писал о значении региональных культурных центров и их влиянии на культурную жизнь столиц, связанную с переселением в них выходцев из провинции [ Пиксанов , 1928, с. 18-19, 52-53], но в краеведческих работах 1920-х гг. не ставилась проблема возникновения на периферии культурного центра национального уровня; в культурной жизни того времени подобный феномен отсутствовал. В исследовательской среде востребовано изучение антитезы «столица - провинция», связанное с трудами С. О. Шмидта, М. С. Кагана, Н. М. Инюшкина, Т. С. Злотниковой и других ученых [ Бурлина , 2012]. «Провинциальный» город с XIX в. становится, по емкому выражению В. В. Абашева, «колоритным и очень влиятельным топосом русской культуры», сложившимся в литературе XIX в. и обладающим «особой темпоральностью с характерной замедленностью, сонностью и иллюзорностью, вплоть до остановки времени» [ Абашев , 2000, с. 53]. Предустановленная иерархия столиц и периферии провоцировала выработку локальной идентичности на основе апроприации столичной роли в своего рода «лозунгах-девизах» типа «столица Урала» или «третья столица России» [ Назукина , 2018, с. 61-62] .
Иерархизм подчас трактуется в научных работах как унифицирующий централизм; следовательно, наличие явной, фиксируемой локальной специфики (например, этнической или религиозной) мыслится как важная предпосылка культурного подъема, уравновешивающая давление столиц. Так, М. Н. Липовецкий, фиксируя «подъем культурной активности в Свердлов-ске-Екатеринбурге, который приходится на период перестройки и начало 1990-х гг. и никак не связан с развитием местных культурных традиций», выражает удивление фактом подобного подъема при «отсутствии культурной, религиозной или этнической специфики региона, а также доминировании тяжелой промышленности, глубоко интегрированной в федеральную экономику» [Липовецкий, 2019, с. 10]. Здесь культурный подъем оказывается возможным как бы вопреки унифицирующей системе, хотя замечание Липовецкого об «отсутствии специфики региона» является, как мы постараемся показать ниже, не вполне точным. Следует скорее согласиться с Г. А. Янковской, подчеркивающей: «В художественной культуре унификация стилистики, институциональной системы, художественной повседневности была ведущей, но не единственной тенденцией. Ситуация менялась от области к области, от региона к региону, в зависимости от местных исторических и артистических традиций, а также национальной специфики» [Янковская, 2007, с. 185–186]. Таким образом, клишированная формула «культурный центр» требует дополнительного анализа.
Мы определяем культурный центр национального уровня как устойчивое сообщество культурных деятелей (творческих работников в широком смысле), трудящихся в одном населенном пункте и обладающих измеряемой известностью на всей территории страны. В противовес этому, «периферийной столицей» мы будем называть такой город, который – по обрисованной выше центр-периферийной логике – встроен в жесткую вертикаль иерархии и производящий культурную продукцию главным образом для административно и хозяйственно подчиненных территорий. Ниже мы рассмотрим ключевые вехи преображения Свердловска из «периферийной столицы» в культурный центр национального уровня и опишем механику такого преображения.
Свердловск: институциональные факторы «столичности»
Екатеринбург с момента своего основания являлся административным и экономическим центром горнозаводской промышленности. Это способствовало сосредоточению в городе довольно значительных интеллектуальных сил. На эту специфику указывал, среди прочих, финансист В. П. Аничков, отмечавший, что в годы Гражданской войны Екатеринбург по качественному составу интеллигенции заметно превосходил «cтолицу» белой Сибири – Омск ( Аничков , 1998, с. 177). В 1879 г. в Екатеринбурге начала выходить газета «Екатеринбургская неделя», издателем и основным автором которой выступал П. К. Штейнфельд. С 1870 г. центром консолидации интеллектуальных ресурсов Екатеринбурга стало Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), в отсутствие профессиональных исследовательских организаций представлявшее собой «единственный научный центр, который на общественных началах, но целенаправленно занимался изучением края, особенно его природы и древнейшего прошлого» [ Зорина , 1996, с. 167]. В 1920 г. в Екатеринбурге был сформирован Уральский университет, который, даже несмотря на неудачу исходного амбициозного плана по созданию многопрофильного научно-образовательного учреждения, внес определяющий вклад в развитие города в XX столетии. Опорой и УОЛЕ, и Уральского университета выступали горные и металлургические инженеры, геологи, врачи, краеведы. А старт индустриализации привел к формированию в Свердловске целой сети научно-исследовательских и проектных институтов, специализировавшихся в профильных для региона областях горного дела, химии и металлургии: «Уралмеха-нобр», Уральского научно-исследовательского института химии, Уральского института черных металлов, Восточного углехимического института и ряда других. Настоящим магнитом для технической интеллигенции стал пущенный в 1932 г. Уральский завод тяжелого машиностроения. Эта сеть опиралась на уже имевшийся кадровый задел, но и сама активно привлекала специалистов со всего СССР. Нужно согласиться с Л. Н. Мазур, отмечающей, что «наиболее значительным достижением Свердловска в советский период стало превращение его в университетский город и крупный научный центр» [ Мазур , 2021, с. 174].
Важную роль сыграл и административный статус Свердловска как центра созданной в 1923 г. обширной Уральской области. Институтами и ресурсами город начал насыщаться еще в 1910–1920-е гг., когда появились первые вузы, государственное издательство и оперный театр, возникли многотиражные литературные журналы. В ходе «Великого перелома» Свердловск превратился в город с многочисленной технической интеллигенцией, сетью театров, библиотек и высших учебных заведений [Анимица, 1983, с. 14], а также с региональными подразделениями творческих союзов (писателей, художников, архитекторов, композиторов) (Бердников, Рабинович, 1983, с. 107–112). Начавшееся в эти годы формирование в Свердловске культурного центра национального масштаба являлось одним из последствий этих перемен. Впрочем, не стоит абсолютизировать эту, по меткому выражению К. И. Зубкова, «геополитику в региональном интерьере» как основной ресурс роста. Не менее важно то, что столичное положение города усилило его «административную гравитацию». Так, в Свердловске оказались сосредоточены функции управления ключевым видом транспорта – железной дорогой (хотя формально она именовалась Пермской железной дорогой вплоть до 1953 г., с 1919 г. ее руководство размеща- лось в Свердловске), разместился центр формировавшейся на Урале энергосистемы – Уральское районное управление электростанций и сетей (Уралэнерго), а с 1935 г. в Свердловске разместился штаб военного округа. Но административные амбиции, конечно, так и остались бы бумажным статусом, если бы одновременно не развернулось хозяйственное строительство; сам Свердловск, не игравший до 1917 г. крупной индустриальной роли, превратился в ведущий промышленный центр. Творцы новой плановой экономики стремились использовать человеческий капитал города, насыщая его машиностроительными предприятиями.
Совокупность факторов – интеллектуальный, административный, транспортноинфраструктурный, хозяйственный – привели к тому, что в 1930-х гг. Свердловск стал полноценной периферийной «столицей», сохранив определенную «столичность» даже после разделения Уральской области на несколько частей. Вместе с тем принципиально уникальным подобное развитие не было: оно не отличалось от развития культурной сферы в других городах российской провинции – таких областных «столиц», как Ростов-на-Дону, Горький, Новосибирск и др. Уже в постсоветскую эпоху эти социально-культурные траектории воплотились в практиках номинализации. Проживавшие и работавшие в городе писатели, артисты, музыканты и художники получали широкую известность лишь после переезда в столицы (Ф. М. Решетников, Л. В. Туржанский, А. К. Денисов-Уральский, И. Д. Шадр, Г. А. Александров, И. А. Пырьев, С. А. Герасимов, И. С. Козловский, С. Я. Лемешев). В числе исключений из этой тенденции можно назвать, пожалуй, Д. Н. Мамина-Сибиряка и С. Д. Эрьзю, прославившихся еще в Екатеринбурге, но и они по мере развития их творческого потенциала покинули город [ Дергачев , 1981, с. 122–126, 189; Клюева , 2005, с. 146–148]. Для поддержания политики индустриального роста в начале 1930-х гг. понадобилось привлекать творческие «десанты» столичных писателей и художников [ Алексеев , 2008].
«Если вы не бывали в Свердловске…»: апофеоз «периферийной столицы»
С 1930-х гг. все больше свердловчан продолжало работать в городе и после того, как их творчество получило признание далеко за пределами Среднего Урала. Первым деятелем культуры, оставшимся в Свердловске после получения известности на всесоюзном уровне, был П. П. Бажов, писательская слава которого началась с публикации четырех сказов в 1936 г. на страницах журнала «Красная новь» [ Сутырин , 2012, с. 313-314, 349-350]. В дальнейшем сказы Бажова публиковались на страницах центральной прессы, выходили в московских издательствах, а в 1943 г. Бажов был удостоен Сталинской премии (О присуждении Сталинских премий…, 1943, с. 1), став первым ее лауреатом в области литературы и искусства, проживавшим за пределами Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик.
Значительное влияние на формирование культурного ландшафта Свердловска имела эвакуация. В город были эвакуированы театры, музеи, вузы Москвы, Ленинграда, УССР, крупнейшие мастера культуры [Сперанский, 2007, с. 244–245]. Однако, разумеется, Свердловск не был единственным центром эвакуации. К примеру, ведущие институты АН СССР были переброшены в Казань. В Свердловск же планировалось эвакуировать лишь отдельные институты. В организационном смысле эвакуация оказала влияние на многие города, не давая ни одному из них преимущества. К тому же еще до конца войны абсолютное большинство эвакуированных работников культурной сферы возвратилось в столицы, так что их влияние на учебную и культурную среду Свердловска оказалось довольно-таки ограниченным. В конце 1940-х гг. определяющую роль в данных сферах играли те же кадры, что и в довоенный период. Не оставаясь в Свердловске и не воздействуя на развитие местной культурной сферы напрямую, представители эвакуированной интеллигенции тем не менее оказывали мощное косвенное воздействие. Их обращения к опыту трудового фронта на Урале в годы Великой Отечественной войны легитимировали уральскую тему в общесоюзном контексте. В послевоенный период Сталинскими премиями были отмечены В. Ф. Панова за роман «Кружилиха» (1947), Ф. И. Панферов – за дилогию «Борьба за мир» (1945–1949), А. В. Караваева – за трилогию «Родина» (1943–1950). Все эти литературные работы описывали жизнь Урала времен войны и эвакуации. В 1948 г. Сталинскую премию получил свердловский писатель И. И. Ликстанов, с начала 1930-х гг. играв- ший видную роль в литературной жизни города, за повесть «Малышок», посвященную работе подростков на заводах Свердловска в годы Великой Отечественной войны (O присуждении Сталинских премий…, 1948, с. 1).
В 1946 г. Сталинские премии получили коллективы сразу двух свердловских театров. В январе режиссер Свердловского театра музыкальной комедии Г. И. Кугушев и артисты С. А. Дыбчо, П. А. Емельянова, М. Г. Викс получили премию 2-й степени за 1943-1944 гг., удостоившись награждения за постановку оперетты В. В. Щербачева «Табачный капитан» (О присуждении Сталинских премий <…> за 1943-1944 годы, 1946, с. 4). Таким образом, Свердловск стал первым провинциальным городом РСФСР, в котором появился театральный коллектив, удостоенный Сталинской премии. А в июне дирижер Театр оперы и балеты А. Э. Маргу-лян, режиссер Е. А. Брилль, хормейстер А. В. Преображенский и певцы А. Г. Азрикан и Н. И. Киселевская получили премию 2-й степени за 1945 г. (О присуждении Сталинских премий <…> за 1945 год, 1946, с. 3). Они были награждены за постановку оперы Д. Верди «Отелло». Все упомянутые театральные деятели, кроме Е. А. Брилля и А. Г. Азрикана, начали творческую карьеру в Свердловске еще в 1930-е гг. Набирал вес и свердловский кинематограф, первоначально специализировавшийся на документалистике. В 1951 г. документальная работа режиссера Я. Г. Задорожного «Соперники», посвященная орловским рысакам, была награжден Сталинской премией. Впервые в СССР престижную награду получила документальная лента провинциальной киностудии.
Обращенная к фольклорному началу уральская композиторская школа была представлена в 1950-х гг. работами В. Н. Трамбицкого, Г. Н. Топоркова (кантата «Урал», 1954), Н. М. Пузея, Б. Д. Гибалина («Счастливая земля», 1949; «Уральские были», 1951; «Уральские зори», 1957), Е. П. Родыгина [ Романова , 2016, с. 6]. Уральской тематике были посвящены работы таких композиторов, как А. Г. Фридлендер («Каменный цветок», 1944) и К. А. Кацман («Урал-богатырь», 1945). Особо интересна оперетта «Марк Береговик» (1955), созданная по мотивам сказов П. П. Бажова композитором К. А. Кацман и поэтессой Е. Е. Хоринской и поставленная Г. И. Кугушевым на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. В 1954 г. на всесоюзном смотре художественной самодеятельности прозвучала «Уральская рябинушка» композитора Е. П. Родыгина, а вскоре получили известность и другие его песни: «Едут новоселы», «Белым снегом» и «Песня о Свердловске», известная также как «Свердловский вальс» [Композиторы Екатеринбурга, 1998, с. 185, 189, 343]. Последняя из этих песен, на стихи
Г. А. Варшавского, впервые исполненная в 1962 г., заняла свое место в рядах других подобных номеров о разнообразных региональных центрах – достаточно вспомнить «Сормовскую лирическую» (1949) Б. А. Мокроусова на стихи Е. А. Долматовского, «Куйбышевский вальс» (1956) С. А. Савельева на стихи В. П. Бурыгина и «Донбасский вальс» (1960) А. Н. Холминова на слова И. И. Кобзева. Она стала настоящим гимном «периферийной столицы» ( Варшавский , 1962):
Если вы не бывали в Свердловске, Приглашаем вас в гости и ждем, Мы по городу нашему вместе, Красотою любуясь, пройдем.
Наконец, в 1958 г. роман свердловского писателя В. К. Очеретина «Саламандра», следовавший опять-таки в русле производственного романа 1940-х гг., был номинирован на Ленинскую премию, однако не получил награду2.
Итак, к 1950-м гг. в Свердловске сложился локальный творческий канон, практически исключивший потребность в опоре на столичную интеллигенцию для разработки региональной тематики. Сформированные в те годы образы стали весьма устойчивыми; они легли в основу территориальной идентичности уральского макрорегиона, опирающуюся, по выражению М. В. Назукиной, на «экономический (индустриальный) дискурс, реализуемый через заводской символ» [Назукина, 2015, с. 41]. Однако форсирование уральской специфики 1940–1950-х гг., сочетавшее разработку тематики регионального фольклора с индустриальным пафосом «опорного края державы», в целом не принесло свердловским деятелям культуры престижных наград. Закрепить в 1950-х гг. уральскую тематику в общесоюзном пространстве, вывести ее за границы конкретного региона свердловским писателям и композиторам не удалось.
Складывание центра современной культуры в Свердловске 1960-х годов
В 1963 г. главным режиссером Свердловского театра музыкальной комедии стал В. А. Курочкин, вернувший музкомедию в число ведущих театров страны [Cчастливое место…, 2018, с. 173, 189]. Залогом успеха стал выбор рискованной, но перспективной стратегии экспериментов: коллектив, возглавляемый Курочкиным, оказался в авангарде структурной трансформации отечественного музыкального спектакля [ Коробков , 2018]. Сам Курочкин декларировал: «Безусловно, оперетта – жанр веселый. Но такая “легкость” восприятия дает еще более активную возможность участвовать в идейном и эстетическом воспитании зрителей! <…> Я считаю, что диапазон оперетты может распространяться от комедии до драмы, оперетта должна наступать широким фронтом» ( Курочкин , 1964, с. 30). К примеру, в 1965 г. под его руководством был поставлен спектакль «Черный дракон» на музыку итальянского композитора Д. Мо-дуньо и главного дирижера театра В. Ф. Уткина, ставший первым мюзиклом в СССР [Cчастли-вое место…, 2018, с. 271]. Стратегия Курочкина дала результат: театр закрепил за собой репутацию «лаборатории советской оперетты» [ Александров , 1978, с. 75]. Сходным путем в 1980-х гг. двинулся и Свердловский театр оперы и балета, где реализация новаторской программы была связана с «командой молодых, дерзких и очень талантливых людей» ( Кичин , 2009), во главе с творческим дуэтом главного режиссера А. Б. Тителя и главного дирижера Е. В. Бражника, работавших вместе с 1981 г. и поставивших оперы «Борис Годунов», «Сказку о царе Салтане», «Сказки Гофмана». Главным успехом театра в те годы стала опера «Пророк» свердловского композитора В. А. Кобекина, новатора и оригинального теоретика музыки [ Рас-творова , 2012, с. 252], основанная на творчестве и судьбе А. С. Пушкина и удостоенная в 1987 г. Государственной премии СССР. Постановки Свердловского театра оперы и балеты имели отличные отзывы в прессе ( Матафонова , 2012); после триумфальных московских гастролей 1987 г. дуэт распался: А. Е. Титель переехал в Москву.
В области изобразительного искусства также наметился сдвиг: с конца 1950-х гг. все громче заявляла о себе плеяда молодых свердловских художников. В 1965 г. на всесоюзной выставке «На страже мира» была представлена новаторская картина Г. С. Мосина и М. Ш. Брусиловского «1918», показанная в следующем году на 33-й Венецианской биеннале [ Алексеев , 2013, с. 55–56]. В это же время получила широкую известность и графика В. М. Воловича, получившего в 1965 г. серебряную медаль на международной выставке книги в Лейпциге за иллюстрации к балладе Р. Стивенсона «Вересковый мед» ( Волович , 2017, с. 183). Важно, однако, иметь в виду, что эти мастера в 1960–1970-х гг. стабильно получали различные заказы в сфере производственной живописи. Е. П. Алексеев и А. Н. Мережников, анализируя цикл иллюстраций Г. С. Мосина к изданию «Малахитовой шкатулки» П. П. Бажова, вышедшему в 1983 г., замечают, что сознательно выбранная Мосиным стилистика обложки издания, имитировавшая настоящую малахитовую шкатулку, выглядела по меркам «взыскательного зрителя 1980-х годов» устаревшей и «провинциально-вторичной» [ Алексеев , Мережников , 2022, с. 44], образуя контраст с новаторской манерой, в которой были выполнены сами иллюстрации. Это замечание искусствоведов позволяет оценить трансформации в восприятии изобразительного искусства, имевшие место в 1960–1970-х гг.
В литературе тоже протекали новаторские процессы. Так, в 1964 г. на страницах всесоюзного журнала «Пионер» с рассказом «Капитаны не смотрят назад» дебютировал В. П. Крапивин, а вышедшие в 1965-1966 гг. в том же журнале повести «Оруженосец Кашка» и «Та сторона, где ветер» принесли автору популярность во всей стране [Щупов, 2017, с. 101-106]. Творческая программа писателя шла рука об руку с социально-педагогической: еще в 1961 г. Крапивин организовал «детскую разновозрастную группу» под аббревиатурой БВР («Братство Веселого Роджера»), на базе которой после череды трансформаций был в 1968 г. сформирован внешкольный пионерский отряд «Каравелла» [Крапивина, 2012, с. 132–133]. Таким образом, интерес к творчеству Крапивина подпитывался интересом к его гуманистической программе воспитания молодежи.
Не меньший интерес вызывали проблемы экологии, причем здесь застрельщиками выступали ученые. Так, проблемы защиты окружающей среды поднимал в своих трудах и публичных выступлениях академик С. С. Шварц, основатель и глава Института экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР [ Горчаковский , 1999]. Наиболее же ярким воплощением этой тенденции к защите среды стало творчество видного публициста Б. С. Рябинина. В 1930–1950-х гг. он прославился как автор многочисленных сочинений о животных, а также историко-публицистических очерков о промышленных предприятиях и рабочих уральских заводов. С конца 1960-х гг. усилия Рябинина оказались направлены на защиту историко-культурной и природной среды; в 1970–1980-х гг. Рябинин оказался лидером целого ряда кампаний по сохранению градостроительного наследия Свердловска, выступал на экологические темы. К проблемам экологии обращался и один из наиболее видных писателей Свердловска 1970-1980-х гг. Н. Г. Никонов, идейно близкий к деревенщикам; его «публицистическая поэма» «След рыси» (1977), первоначально опубликованная в «Уральском следопыте», в 1983 г. вышла в серии «Роман-газета». Никонов дважды был выдвинут на соискание Государственной премии, но так ни разу ее и не получил.
Впрочем, и «квазиэтническая» региональная идентичность, приковывавшая к себе внимание свердловской творческой интеллигенции с 1940-х гг., тоже оказалась востребована. С 1960-х гг. историзм стал одним из ориентиров урбанистического развития Свердловска. Общий тренд был задан направлявшейся из центра политикой укрепления культурной сферы; в 1966 г. было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВО-ОПИК). Консолидировавшаяся вокруг ВООПИК свердловская интеллигенция смогла организовать целую серию кампаний по защите исторического облика Свердловска и других городов Урала [Соколов, 2021, с. 226–227; Лахтионова, 2022, с. 447]. Огромную роль здесь сыграл архитектор Н. С. Алферов, профессор Уральского политехнического института (в 1967 г. он станет основателем Свердловского архитектурного института), с конца 1950-х гг. разрабатывавший исследовательскую тематику «городов-заводов» XVIII – начала XIX в. На основе идей Алферова и его коллег в середине 1960-х гг. был кардинально реконструирован городской центр; здесь был создан Исторический сквер с частично сохраненными старыми заводскими корпусами, которые планировалось использовать теперь как центры музейно-просветительской работы. Хотя большая часть исторического наследия старого Екатеринбургского завода была утрачена при реконструкции, все же создание Исторического сквера на бывшей индустриальной территории стало крупной новацией в советском градостроении. В 1980-х гг. эта стратегия была вновь с успехом применена, теперь уже при создании Литературного квартала – культурного пространства, имитировавшего квартал старого Екатеринбурга; для создания исторической атмосферы здесь был снесен дом 1950-х гг., а также была выстроена реплика памятника деревянного модерна (дом Иванова), располагавшегося в другом месте и сгоревшего в 1970 г. Пространство квартала было благоустроено и превращено в парк [Худякова, 2006]. Инициатором строительства при деятельной поддержке главы городского совета П. М. Шаманова выступила Л. А. Худякова, в 1972–1984 гг. возглавлявшая отдел культуры Свердловского областного комитета КПСС, а с 1984 г. возглавившая разместившийся в новом квартале Музей писателей Урала. Обращение к уральской исторической тематике позволило укрепить свои позиции Свердловской киностудии, переключившейся теперь на производство фильмов с уральской спецификой. Ее ресурсов не хватало для конкуренции с мощными студиями столичных городов в производстве широкоэкранных фильмов, однако свердловчане уверенно осваивали формировавшийся в СССР рынок телевизионного кинематографа. В 1967 г. большой успех имела картина московского режиссера В. М. Георгиева «Сильные духом», посвященная разведчику Н. И. Кузнецову. А в 1968 г. на экраны вышел телефильм Я. Л. Лапшина «Угрюм-река», ставший одним из лидеров союзного проката, в 1972 г. последовал телефильм «Приваловские миллионы», удостоенный Государственной премии РСФСР 1975 г., в 1983 г. – еще один успешный телефильм «Демидовы» [Кириллова, 2016, с. 140-141]. Новаторские стратегии сложно взаимо- действовали с историзмом, который имел тенденцию перерасти в «локальный фундаментализм» [Абашев, 2012, с. 131–132; Янковская, 2013, с. 161] и начать вновь воспроизводить культурные механизмы «периферийной столицы».
На фоне триумфального шествия новаторства, экологической проблематики, историзма, особенно отчетливо выявляется неспособность крупных индустриально-производственных проектов в позднесоветском Свердловске играть консолидирующую социально-культурную роль. Так, если строительство «Уралмаша» в 1930-х гг. стало одной из доминант в культуре Свердловска тех лет, то крупнейшая стройка 1970-х гг. – цех холодной прокатки (ЦХП) Верх-Исетского металлургического завода – так и не смогла стать весомым фактором культурной жизни города, несмотря на огромное внимание прессы, многочисленные награды строителей и подчеркнутую технологичность нового завода. Создателей ЦХП во главе с директором завода В. С. Ожигановым нельзя было обвинить в невнимании к актуальным тенденциям. Так, при возведении комплекса были впервые разработаны и применены новаторские технологии очистки воды, исключившие слив отходов нового производства в реку Исеть. Наряду с экологической, у руководителей завода была и культурная программа: старый Верх-Исетский завод предполагалось закрыть и музеефицировать, трансформировав бывший заводской поселок в культурно-досуговую площадку, а около новой промплощадки планировалось создание новых инфраструктурных узлов и благоустроенной набережной ( Букин , Пискунов , 1982, с. 205–209).
Нерыночный спрос: культура в городе интеллигенции и бюрократии
Совокупность охарактеризованных выше форм культурного признания позволяет говорить о том, что с 1960-х гг. за Свердловском постепенно закрепляется значение национального культурного центра. Феномен трансформации «периферийной столицы» в культурный центр национального уровня связан в первую очередь с индивидуальными стратегиями выдающихся деятелей культуры, которые, даже обретая признание, оставались в своей «периферийной столице» благодаря наличию институтов и ресурсов, позволявших развивать успешную творческую деятельность. Об этом говорит, например, Т. П. Жумати, анализируя развитие андеграунда в СССР 1980-х гг.: «Художественная ситуация в провинции в 1960-1980-е гг. складывается под влиянием многих факторов. Одними из важнейших можно считать начавшийся в советской культуре процесс децентрализации и связанное с ним возрастание значения региональных культурных центров. <…> Столица, выполняющая функции центра, являющаяся таковым в официальной сфере, в неофициальной – скорее эпицентр, средоточие крупных сил альтернативного искусства» [ Жумати , 2005, с. 175].
И все же зачем в стабильном, иерархичном мире советской культуры кому-то понадобилось осуществлять трудоемкие работы по созданию Исторического сквера и Литературного квартала или бороться за титул «творческой лаборатории» советской музыкальной комедии? Мы полагаем, что движущей силой стали глубокие изменения в социально-экономическом облике города. Н. Верт подчеркивал, что в 1970–1980-х гг. «развитие городской субкультуры, повышение общего уровня образования породили значительно более сложную общественную структуру, отличавшуюся целой гаммой “неформальных образований”, “микромиров” и уголков “самоуправления” со своей социальной базой, культурой и контркультурой» [ Верт , 1992, с. 412]. Е. В. Матвеев, изучающий развитие всесоюзных добровольческих обществ в контексте развития позднесоветской субъектности, приходит к выводу о том, что данные организации являлись «гибридной средой», в рамках которой «граждане обменивали свою лояльность на относительную автономию сферы реализации своих интересов, осуществлялась коадаптация советских граждан и власти на взаимовыгодных условиях» [ Матвеев , 2018, с. 86].
В середине XX в. Свердловск становится одним из ведущих научно-технических и технико-бюрократических центров страны (важную роль играло технико-экономическое влияние многочисленных свердловских НИИ и проектных институтов, управлений, трестов), на рубеже 1960-х гг. произошел стремительный рост численности свердловской интеллигенции и студенчества. К 1973 г. общая численность работников науки, образования и здравоохранения, а также студентов дневной формы обучения превысила 100 000 человек и достигла 10 % от суммар- ного населения города [Бугров, 2021, с. 70–71]. Свою роль сыграли развитие систем коммуникации - транспорта (железнодорожных и авиаперевозок), телевидения и радио, прессы и книготорговли - и массовых организаций [Малкова, 2013; Матвеев, 2018], а также остававшийся неизменным со 2-й половины 1950-х гг. отказ от позднесталинского курса на фактическую культурную изоляцию. Все это, в свою очередь, сформировало своеобразный нерыночный спрос на культурную продукцию.
Разумеется, культурные институты, интегрированные в плановое хозяйство, не зависели напрямую от интереса посетителей [ Малкова , 2013], но опосредованное влияние социального контекста заставляло по крайней мере часть деятелей культуры и искусства искать новые подходы к творчеству, в том числе и по экономическим причинам. Г. А. Янковская справедливо отмечает: «В ограниченном пространстве дозволенных тем, сюжетов и образов экономика вытесняла идеологию на обочину. <…> Слабая совместимость идеологических деклараций и экономических реалий оставляла возможность для социального маневра» [ Янковская , 2007, с. 236]. Свой вклад в функционирование нерыночного спроса вносили и патрон-клиентские отношения, использование «административного ресурса»; с другой стороны, нельзя не учитывать стремление творческих фигур к самореализации, их тягу к созданию своих, говоря языком Н. Верта, «микромиров». Режиссер А. Е. Титель в одном из интервью так объяснял успех свердловской оперы 1980-х гг.: «Число любителей оперы не прямо пропорционально величине города - там сложилась мощная прослойка интеллигенции. Кроме того, я пришел в театр, который был в хорошем состоянии^ Интерес к театру был большой, и когда мы пришли, поезд уже шел на всех парах, и мы с ускорением продолжили это движение. Театр стал модным» ( Кичин , 2009). Именно тот феномен, о котором вспоминал Титель, мы и считаем нерыночным спросом , возникающим в научно-техническом центре.
Рассмотрим конкретный пример из истории позднесоветского Свердловска. С 1967 г. в краеведческом журнале «Уральский следопыт» начинает регулярно выходить рубрика «Мой друг - фантастика» (ее вел В. И. Бугров), где публикуются фантастические произведения и литературоведческие заметки о жанре. В 1970-х гг. популярность рубрики, первоначально являвшейся в общем-то маргинальной, начала расти, и к 1980 г. вывела «Уральский следопыт» на общесоюзный тираж в 249 000 экземпляров [ Сергеева , 2020, с. 18, 53]. На волне этого успеха в 1981 г. редакцией журнала была учреждена «Аэлита» - первая в СССР премия за лучшее научно-фантастическое произведение [ Ивашников , 2007, с. 227]. Ее первыми лауреатами стали знаменитые А. Н. и Б. Н. Стругацкие (за роман «Жук в муравейнике»), и вручение «Аэлиты», на которое приехал лично А. Н. Стругацкий, вызвало ажиотаж, переросло в настоящий фестиваль. В том же 1981 г. начал работу и свердловский клуб любителей фантастики «Радиант».
Хотя вся эта деятельность разворачивалась в целом под контролем властей3, все же она не привлекала большого внимания в профессиональном литературном сообществе, в официальной областной и городской прессе. Зато, например, газета Уральского политехнического института «За индустриальные кадры» регулярно печатала обзоры фантастической литературы, рисунки и стихотворения студентов, посвященные любимым книгам. Своим мнением о фантастике на ее страницах делился не какой-либо литературный работник, а видный ученый-химик, лауреат премии Совета министров СССР Г. Д. Харлампович ( Харлампович , 1983). Рост интереса к фантастической литературе был особенно быстрым среди научно-технической интеллигенции: одним из наиболее авторитетных писателей-фантастов Урала 1980-х гг. был, например, С. А. Другаль, талантливый изобретатель-орденоносец и заведующий крупной лабораторией в Свердловском научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта, для которого писательское дело являлось хобби. Литературно-фантастическое хобби Другаля и газетные статьи Харламповича можно - с долей условности! - считать проявлениями нерыночного спроса.
Заключение
С конца 1930-х гг. культура в Свердловске развивалась с опорой на уральскую «квазиэтни-ческую» идентичность, постулированную в качестве основополагающей. Эвакуация времен Великой Отечественной войны, мобилизовавшая для работы в тылу огромные творческие ресурсы, позволила локальной – уральской – тематике закрепиться на общесоюзном уровне [Витковская, Назукина, 2021, с. 80]. Сложился региональный канон «опорного края державы», который плодотворно разрабатывался писателями, художниками и режиссерами Свердловска, но одновременно означал фиксированное место города в жесткой иерархии культурных центров СССР.
В середине XX в. облик Свердловска начинает трансформироваться: город становился одним из ведущих научно-технических центров страны, на протяжении 1960-х гг. произошел стремительный рост численности свердловской интеллигенции и студенчества. Присутствие многочисленного слоя интеллигенции и бюрократии увеличивало своеобразный нерыночный спрос на культурную продукцию; горизонтальная связность вновь возникающих общественных групп и течений, наряду с развитием систем коммуникации, позволяла преодолевать «квазиэт-ническую» привязку к уральской тематике. В этой ситуации все более выигрышной – хотя и рискованной! – становилась стратегия эксперимента, ориентированного не столько на идеологическую линию (опять-таки предполагавшую в первую очередь интерес к локальной тематике), сколько на условного потребителя.
Разумеется, культурная сфера в СССР оставалась под бдительным и жестким контролем идеологического руководства [ Шадрина , 2009; Мамяченков , 2016]. Тем не менее экономическая сторона в советском культурном производстве доминировала, а по мере роста нерыночного спроса на ее развитие все в большей степени оказывали влияние мода, определенная конкуренция, стремление выделиться; в этом смысле можно заключить, что развитие культурных центров в СССР зависело как от институтов, организовывавших творческую деятельность, так и от среды, в которой деятельность этих институтов разворачивалась. Напряжение между ориентацией культурных институтов на региональную тематику уральского канона и растущим нерыночным спросом со стороны городской интеллигенции определяло ход и темп развития культурного центра в Свердловске. М. Н. Липовецкий интерпретирует «культурную революцию» в Свердловске 1980-х гг. как «отрицательную революцию» (термин А. В. Магуна), основанную на «особой региональной культурной идентичности», «отсутствии корней» и при распаде имперской структуры породившей особую постколониальную гибридность: «Такая гибридность де-эссенциализирует локальную культуру, освобождая ее от необходимости “освещать” местные темы и работать в неких эстетических рамках, как бы заданных местными культурными традициями» [ Липовецкий , 2019, с. 14]. Это справедливое замечание, однако, как мы постарались показать выше, подобная гибридность в целом вытекала вовсе не из культурной специфики Свердловска, а из траектории его социально-экономического развития, поэтому и пресловутую «революцию» рубежа 1980–1990-х гг. можно рассматривать как продолжение наметившейся еще в 1960-х гг. тенденции. По нашему мнению, комбинация сформированных еще в 1930-х гг. институтов и развивавшегося с 1960-х гг. нерыночного спроса стимулировала движение Свердловска (как и других сопоставимых по социальным и экономическим параметрам городов) по маршруту от «периферийной столицы» к культурному центру национального значения, предполагавшему поиск новаторских стратегий и преодоление официозной иерархии. Это, в свою очередь, означает, что в условиях плановой экономики развитие культурного центра национального уровня требовало «двух ключей»: статуса «периферийной столицы», гарантировавшего стабильные вложения в культурные институты, и статуса крупнейшего научнотехнического центра, гарантировавшего растущий нерыночный спрос .
Коллапс плановой экономики и распад Советского Союза означал снятие преград для экспериментальных стратегий, но обрушившийся на страну социально-хозяйственный кризис в громадной степени нивелировал возможности для дальнейшего культурного роста – не только ресурсным обескровливанием творческих институций, но и демонтажом научно-технических структур, обеспечивавших существование интеллигентской городской среды, заменой стабильного нерыночного спроса неустойчивым и падающим на фоне экономического коллапса рыночным спросом. То, что было в условиях планового хозяйства «микромирами» и «уголками самоуправления», при капитализме быстро трансформировалось в рыночные коммерческие ниши, организуя всю творческую деятельность на принципиально иных началах.
Список литературы "Периферийная столица" или общесоюзный центр? Векторы культурного развития Свердловска в 1940-1980-х годах
- Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь, 2000. 404 с.
- Абашев В.В. Память города и гуманитарные практики // Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики. Пермь, 2012. С. 123-139.
- Александров А. Свердловская оперетта: достоинства и просчеты // Советская музыка. 1978. № 2. С. 75-80.
- Алексеев Е.П. Даешь тяжелую индустрию в искусстве! Время первых пятилеток на Урале в полотнах местных и столичных художников // Образ Урала в изобразительном искусстве. Екатеринбург, 2008. С. 189-203.
- Алексеев Е.П., Мережников А.Н. Зримый образ сказа: иллюстрации Геннадия Мосина к «Малахитовой шкатулке» Павла Бажова // Искусство Евразии. 2022. № 1. С. 43-51.
- Алексеев Е.П. Картина Г. Мосина и М. Брусиловского «1918 год»: анализ художественной системы // Известия Урал. федер. ун-та. Гуманитарные науки. 2013. № 1. С. 55-69.
- Анимица Е.Г. Города Среднего Урал. Свердловск: Сред.-Урал. книж. изд-во, 1983. 288 с.
- Белошапка Н.В. Государственное управление культурой в СССР: механизм, методы, политика // Вестник Удмурт. ун-та. История и филология. 2009. Вып. 2. С. 87-103.
- Блинов В.А., Созина Е.К. Екатеринбург литературный. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 448 с.
- Бугров К.Д. Рабочий или интеллигентский? Основные социально-культурные модели развития советского Свердловска 1930-1980-х гг. // Муниципалитет: экономика и управление. 2021. № 4. С.64-77.
- Бурлина Е. Я. От «мифов провинциальной культуры» к культурологическим исследованиям: Самара 1992-2012 гг. // Городская культура и город в культуре: материалы Всерос. науч.-практ. конференции: в 3 ч. Ч. 1. Самара: изд-во Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2012. С. 149-160.
- ВертН. История советского государства, 1900-1991. М.: Прогресс-Академия, 1992. 480 с.
- Витковская Т.Б., Назукина М.В. Траектории развития регионализма в России: опыт Свердловской области и Республики Татарстан // Мир России. 2021. № 1. С. 67-87.
- Горчаковский П.Л. Провозвестник экологического мышления // Известия Урал. гос. ун-та. 1999. № 12. С.101-107.
- Дергачев И.А. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Критико-биографический очерк. Свердловск: Сред.-Урал. книж. изд-во, 1981. 336 с.
- Жумати Т.П. Художественный андеграунд 1960-1980-х гг.: столицы и провинция // Известия Урал. гос. ун-та. 2005. № 35. С. 173-182.
- Зорина Л.И. Уральское общество любителей естествознания. 1870-1929. Из истории науки и культуры Урала. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1996. 208 с.
- Зубаревич Н.В. Четыре России [Электронный ресурс] // Ведомости. 2011. 30 декабря. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/12/30/chetyre_rossii (дата обращения: 01.06.2022).
- Ивашников К.В. Клубы любителей фантастики: опыт диалога с властью (1985-1991 гг.) // Новый исторический вестник. 2007. № 2. С. 225-231.
- Кириллова Н.Б. Уральское кино: время, судьбы, фильмы. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 432 с.
- Клюева И.В. Художественно-педагогическая деятельность Степана Эрьзи // Интеграция образования. 2005. № 5. С. 144-151.
- Комиссаров В.В. Движение любителей фантастики в провинциальном советском городе в 1980-е годы // Вестник Север. (Аркт.) федер. ун-та. Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 2. С. 22-27.
- Композиторы Екатеринбурга. Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 1998. 383 с. Коробков С. Эпоха Курочкина // Страстной бульвар, 10. 2018. № 9. С. 127-142.
- Крапивина Л.А. Пионерский отряд «Каравелла»: взгляд сквозь призму пятидесятилетия // Образование и наука. 2012. № 4. С. 128-143.
- Лахтионова Е. С. Деятельность общественных и политических акторов по охране объектов индустриального наследия в Свердловской области (1960-1980-е годы) // Научный диалог. 2022. № 3. С.439-455.
- Липовецкий М. Странный случай региональной культурной революции: Свердловск в годы перестройки // Филологический класс. 2019. № 2. С. 8-16.
- Мазур Л. Н. От уездного города к столице Урала: особенности урбанизационного перехода Екатеринбурга-Свердловска // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. Вып. 21. С. 165-190.
- Малкова И.Г. Культурное пространство городов Урала (1960-е - 1980-е гг.) // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2013. № 1. С. 42-47.
- Мамяченков В.Н. Идеологический контроль за настроениями граждан СССР в 1953 - начале 1960-х гг. (на материалах Свердловской области) // Научный диалог. 2016. № 5. С. 156-174.
- Матвеев Е.В. Всесоюзное добровольное общество любителей книги как позднесоветская массовая организация 1970-1980-х годов // Magistra Vitae: электрон. журнал по историческим наукам и археологии. 2018.№ 1. С. 85-98.
- НазукинаМ.В. Между Уралом и Поволжьем: поиски пермской идентичности. Пермь, 2018. 196 с.
- Назукина М.В. Уральский макрорегион в системе территориальных идентичностей современной России // Известия РАН. Серия географическая. 2015. № 6. С. 37-47.
- Образ Урала в изобразительном искусстве. Екатеринбург: Сократ, 2008. 372 с.
- Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда: историко-краеведческий семинар. М.; Л.: ГИЗ, 1928.148 с.
- Растворова НВ. Жанровая панорама творчества Владимира Кобекина // Современное музыкальное искусство. 2012. № 2. С. 252-255.
- Романова Л.В. Фольклорное направление в музыке уральских композиторов // Sciences of Europe. 2016. № 9-2. С. 4-8.
- Сергеева Ю.С. Рубрика «Мой друг - фантастика» в журнале «Уральский следопыт» 196070-х годов как инструмент популяризации научной фантастики. Екатеринбург, 2020. Соколов С.В. Документы Свердловского отделения ВООПИК как источник по интеллектуальной жизни Свердловска в 1960-1980-е гг. // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. Вып. 21. С. 222-228.
- Сперанский А.В. Средний Урал в Великой Отечественной войне: вклад в победу // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: материалы VIII Всерос. науч. конф., Екатеринбург, 26-27 апреля 2007 г. Екатеринбург: АМБ, 2007. Т. 2. С. 241-245.
- Сутырин В.А. Павел Бажов: биографическое повествование. Екатеринбург: Сократ, 2012. 509 с.
- Счастливое место: свердловская музкомедия Георгия Кугушева, Владимира Курочкина и Кирилла Стрежнева. Екатеринбург: Автограф, 2018. 511 с.
- Худякова Л.А. С чего начинался Литературный квартал // Урал. 2006. № 5. С. 235-237.
- Шадрина Е.А. Развитие традиций музыкального театра Южного Урала (конец 1930-х - начало 1980-х годов): идеологический контекст // Вестник Юж.-Урал. гос. ун-та. Социально-гуманитарные науки. 2009.№ 9. С. 83-87.
- Щупов А.О. Владислав Крапивин. Екатеринбург: Сократ, 2017. 557 с.
- Янковская Г.А. Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2007. 312 с.
- Янковская Г.А. Локальный фундаментализм в культурных войнах за идентичность // Вестник Перм. ун-та. Политология. 2013. № 2. С. 157-165.