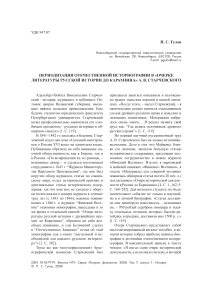Периодизация отечественной историографии в «Очерке литературы русской истории до Карамзина» А. В. Старчевского
Автор: Гулов П.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736916
IDR: 14736916 | УДК: 947.07
Текст краткого сообщения Периодизация отечественной историографии в «Очерке литературы русской истории до Карамзина» А. В. Старчевского
Адальберт-Войтех Викентьевич Старчев-ский – историк, журналист и публицист. Потомок дворян Волынской губернии, имеющих прямое польское происхождение. Еще будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, Старчевский начал профессионально заниматься его «любимым предметом – русскою историею в обширном смысле» [1. С. 119].
В 1841–1842 гг. находясь в Берлине, Стар-чевский издал два тома «Сказаний иностранцев о России XVI века» на латинском языке. Публикация обратила на себя внимание научной общественности, как в Европе, так и в России. «По возвращении из-за границы, – вспоминал автор, – я сделался постоянным сотрудником с 1843 г. “Журнала Министерства Народного Просвещения”, где мне был поручен обзор журналов, статьи по славянскому миру, отдел исторической критики и оригинальные статьи исторического содержания, так что имя мое не сходило с обертки почти каждого номера журнала в течение трех лет (с 1843 по 1846); наконец появившаяся в 1846 г. в журнале “Финский Вестник” огромная монография, вышедшая в то же время и отдельной книгой: “Очерк литературы русской истории с древнейших времен до Карамзина”, обратила на себя всеобщее внимание, и сам Белинский сделал в “Отечественных Записках” отзыв об этой монографии, как о книге “настольной и необходимой для каждого русского литератора”» [2. С. 382].
Тогда же как член-корреспондент Археографической комиссии Старчевский был приглашен заняться описанием и изложением грамот польских королей и князей литовских. «После этого, – писал Старчевский, – я окончательно решил заняться отыскиванием следов древнего русского права в польских и литовских памятниках. Материалов набралось очень много… Я решил назвать свой труд так: “Где искать источников древнего русского права”» [1. С. 119].
Но первый научный русскоязычный труд А. В. Старчевского был не только источниковедческим. Дело в том, что Майковы, близко его знавшие, заказали большую статью исторического содержания, предложив постоянное сотрудничество в новом журнале «Финский Вестник». В итоге в мартовской и майской книжках «Финского Вестника», в отделе «Материалы для северной истории» появилась обширная статья (почти 20 печ. л.) под заглавием: «Очерк исторической деятельности в России до Карамзина» [4. С. 1–162; 5. С. 168–292]. Для молодого студента это было значительное событие не только в научной, но и в личной биографии. «Статья доставила мне некоторую известность, – вспоминал он, – 950 рублей серебром гонорара и тысячу отдельных оттисков, которые, быстро разойдясь в продаже, доставили мне 1500 р. с.» [1. С. 119].
Очерк Старчевского представляет собой систематизированный каталог-пособие, в котором историк собрал наиболее важные биографии и источники отечественного историографии. В пояснительной записке к тексту читаем: «Я писал один очерк исторической деятельности, а не полную систему, в которой
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © П. С. Гулов, 2008
бы подробно были изложены все возможные поиски, споры и сомнения наших историков, породивших и сделавших возможною “Историю государства Российского”» [3. С. 3].
Старчевский писал не только для тех, кому «интересно знать наших историков», но и «для тех, кто хотел бы заняться этим предметом исключительно» [Там же]. Автор в своем кратком предисловии обозначил круг проблем, затрагиваемых в очерке: «Изучающий предмет (т. е. литературу русской истории, или, в современной терминологии, историографию. – П. Г. ) добросовестно должен знать, что уже по этой части сделано, какие вопросы занимали наших изыскателей отечественной судьбы, и как они смотрели на некоторые ее периоды» [Там же]. Таким образом, Стар-чевский решал в своем очерке не только источниковедческие и историко-дидактические задачи, но и одним из первых отечественных авторов кратко сформулировал историографические методологические принципы.
По структуре текста «Очерка…» нам представляется возможным выделить периоды, на которые автор разделил историческую работу отечественных авторов до Н. М. Карамзина.
-
1. Летописная деятельность (начало XII – первая половина XVI в.).
-
2. Исторические повести, сказания и записки современников (конец XVI – XVII в.).
-
3. «Период систематического обрабатывания истории»:
-
а) эпоха Петра Великого;
-
б) время Елизаветы Петровны;
-
в) время Екатерины II.
Периодизация Старчевского формируется по характеру источников, представленных в каждый из периодов. Классификация источников напрямую зависит от их происхождения. По мнению автора, первый период имеет следующие особенности: «С конца XI столетия до половины XVI (т. е. до Иоанна Грозного) летописи наши были писаны монахами, как людьми образованнейшими в то время» [Там же. С. 6]. «Смирные монахи, погруженные в созерцание божества, мало обращали внимания на дела мирские и вносили их в свои заветные хартии не иначе как с равнодушной небрежностью и даже с презрением. Внимание их более всего устремлялось на явления небесные, в которых видели они предзнаменования наказаний, ожидав- ших грешное человечество; затем, личность князей, их семейство, войны с соседями, и наконец, некоторые происшествия поучительные для морали, – вот все, чем занимались летописцы» [Там же. С. 6–7].
Старчевский, анализируя летописный период, указывает источники, которые бы могли «удовлетворить наши современные требования» и пролить свет на «обыкновенный житейский быт, именно общественную и нравственную жизнь народа». По мнению историка, мы можем восстановить картину прошлого при помощи «народных преданий, песен, поговорок, богословской литературы и самого языка, как хранилища народных понятий и, наконец, при помощи повествований иностранцев об особенностях русского народа».
Летописный период и следующий за ним период «начала исторических повестей, сказаний и записок современников» имеют четкую границу. «С половины XVI столетия, – указал автор, – монахи лишаются права продолжать летописи, по крайней мере, в Великом Княжестве Московском, <…> начиная с половины царствования Иоанна Грозного летописи сочинялись самим правительством». Аккуратный в выводах Старчевский предполагает, что «издание летописей под непосредственным надзором царя могло иметь две цели: – или для точности в показаниях, передаваемых потомству, или для выполнения личных его видов» [Там же. С. 8–9].
XVII в. Старчевский назвал веком «записок и монографий, предшествовавший систематическому обрабатыванию летописей» [Там же. С. 56]. Далее автор отмечает: «Историческая деятельность в России при Петре Великом представляет, так же как и в XVII столетии, два различных направления; она находилась, во-первых, в руках духовенства, во-вторых, в руках светских лиц, не столько ученых сколько любителей отечественной старины <…> при Петре Великом летописи наши заменяются ведомостями и постановлениями правительства, которые с 1705 или 1711 года, были передаваемы печати, и таким образом сделались доступными для каждого». При этом Старчевский подчеркивает важность появления ведомостей, «ибо с этого времени отечественная история делается, во-первых, гораздо достовернее, а во-вторых, любители отечественной стари- ны с большей удобностью могут составлять свои записки не только о современных происшествиях, но и о событиях минувшего времени» [3. С. 96]. По мнению автора, описание периода «систематического обрабатывания истории» происходит по трем направлениям: а) «обрабатывание истории лицами духовного звания»; б) «светские люди, любители русской старины»; в) «сочинители записок».
Говоря о периодизации истории русской литературы Старчевского, невозможно обойти исполинскую фигуру Н. М. Карамзина, тем более что его имя присутствует в названии очерка, подразумевая деление историографии в России на «до» и «после» Карамзина.
Старчевский назвал историческую деятельность «краеугольным камнем общественного учения». По его мнению, необходимо «облечь историю во всеоружие истины, и потому нам предстоит перестроить ее по всем законам критики, начиная с зародыша и кончая последним периодом ее развития» [Там же. С. 2].
Историографический, по сути, труд Стар-чевского есть одна из первых попыток в отечественной научной традиции дать новую жизнь «литературе русской истории». Как отметил сам автор, «мы постоянно слышим, что у нас нет литературы; эту жалобу можно простить только молодому поколению, которое еще порядочно не изучило Руси. Литература у нас есть, но нам не достает ее истории» [Там же. С. 291]. Такой вывод, сделанный двадцатисемилетним историком, позволяет, по нашему мнению, назвать его одним из первых отечественных историографов в современном смысле этого слова.
Материал поступил в редколлегию 01.10.2007