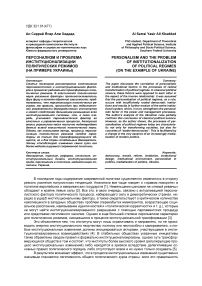Персонализм и проблема институционализации политических режимов (на примере Украины)
Автор: Ал Саррай Ясир Али Хаддад
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению соотношения персоналистского и институционального факторов в процессах радикальной трансформации политических режимов. В классической политической науке указанные факторы противопоставлялись друг другу в аспекте обратной зависимости: предполагалось, что персонализация политических режимов, как правило, происходит при недостаточной укорененности демократических институтов и имеет следствием дальнейшее размывание всей институциональной системы, что, в свою очередь, усиливает персоналистский фактор во властных и управленческих процессах. Авторский анализ украинского кейса частично подтверждает данный вывод классической политической науки. Однако, как показывает автор, процессы персонализации политических режимов сегодня характерны не только для трансформирующихся обществ, но и для стран «стабильных демократий». Этому способствует изменение самой сути все более медиатизируемой современной политики.
Демократия, транзит, реформа, институт, институциональный дизайн, институциональная среда, персонализм в политике, медиатизация политики, украина
Короткий адрес: https://sciup.org/149132571
IDR: 149132571 | УДК: 321.01(477) | DOI: 10.24158/pep.2020.2.5
Текст научной статьи Персонализм и проблема институционализации политических режимов (на примере Украины)
В последние годы содержание современной политики существенно изменилось в сторону резкого усиления популистских тенденций. Аналитики все чаще говорят о «правом повороте» в политике европейских и американских государств [1]. Неменьшими шансами на «левый реванш» обладают и крайне левые силы [2]. Все это, в свою очередь, связано с актуализацией персоналистского фактора политического процесса, набирающего силу в демократических странах, нередко в ущерб институциональному фактору, а также свидетельствует о критическом количестве накопившихся в западных обществах проблем (переизбыток иммигрантов, возрастающее социальное расслоение, навязывание идентичностей и «политической корректности» и т. д.), которые не могут найти институционализированного разрешения с помощью парламентских процедур или средствами легитимного насилия. Однако в еще большей степени персонализм характерен для политических режимов, находящихся в процессе институциональной трансформации [3].
Это объясняется тем, что институты могут лишь ограничивать и направлять, но не производить энергию институционального творчества; поэтому они неспособны к саморазвитию, и любые институциональные изменения должны инициироваться акторами, участвующими в институционализированных взаимодействиях [4]. В стабильных обществах указанные инициативы также обрамлены сводом правил и формально институционализированы, однако суть трансформирующихся обществ в том и состоит, что институты более высокого уровня (регулирующие процесс институциональных изменений) либо находятся в кризисе вследствие делегитимации основных правил политического порядка, либо отсутствуют вовсе и их нужно только создавать [5].
В результате возникает эффект, что в процессе институциональных изменений существенно значимым становится легитимность общего политического курса страны: если его правильность принимается большинством населения, это легитимирует высший уровень правил, направляющих и оформляющих институциональные изменения, что, в свою очередь, придает легитимность их результатам. Происходит своеобразная эманация легитимности от высшего уровня институциональных правил (общий политический курс и ориентация страны, обычно формализованные в конституциях) к нижнему (уровень правил конкретных институциональных взаимодействий).
Именно в этом пункте процесса трансформации политического порядка резко возрастает риск делегитимации общей ориентации (политического курса), поскольку реформы всегда связаны с экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, что чаще всего приводит к преждевременному разочарованию в проводимых реформах. В результате их плодами пользуются представители победившей на популистской основе контрэлиты, которая нередко реализует политику по сворачиванию реформ, несмотря на то что паразитирует на их итогах. Однако экономический базис, созданный предыдущими реформами, как правило, бывает недостаточен для сколь-либо долгого паразитирования, а контрреформы обусловливают сокращение этого базиса. Как следствие, экономический кризис углубляется, политический режим становится все более популистским и вынужден принимать внеинституциональные решения для реализации экономически невыполнимых обещаний. Возникает вполне закономерный порочный круг в соотношении персоналистских и институциональных факторов политической трансформации.
Данный аспект достаточно хорошо изучен в политологии, и недавняя победа шоумена В.А. Зеленского на прошедших в начале 2019 г. на Украине президентских выборах как нельзя лучше подтверждает выводы, сделанные в классической политической науке: в трансформирующихся политических режимах резко возрастает роль персоналистского фактора, что, в свою очередь, имеет следствием воспроизводство недемократического режима, когда военная диктатура сменяется гражданской, но никак не демократией [6]. В классической политологии исследованы и причины этого «круговорота диктатур», или «ловушки трансформации»: недостаточное развитие политических институтов актуализирует персоналистский фактор, а усиление последнего приводит к дальнейшему размыванию политических институтов.
Украинский кейс тем более примечателен, что хорошо иллюстрирует описанный эффект, когда добивающийся власти оппозиционный политик дает заведомо невыполнимые обещания, а результаты его политического курса и институциональных изменений оказываются еще хуже, чем у предшественников. Если посмотреть под этим углом зрения на украинскую президентскую кампанию 2018–2019 гг. и сравнить обещания с итогами на конец ноября 2019 г., можно увидеть следующее. Во время выборов В.А. Зеленский и его команда охотно раздавала «популистских слонов» уставшему от тяжелых экономических реформ украинскому обществу. Так, была неосторожно гарантирована зарплата учителям в 4 000 долл., декларировались масштабная борьба с коррупцией и быстрые экономические реформы. Однако в главном, сыгравшем решающую роль обещании В.А. Зеленский спекулировал на усталости граждан от войны на Донбассе: он пообещал избирателям остановить ее, для чего якобы «надо просто прекратить стрелять». Перечисление всех популистских обещаний заняло бы много места, заметим лишь, что уставшее от тяжелых, но далеких от завершения реформ и войны украинское общество выдало колоссальный кредит доверия В.А. Зеленскому и его команде, поддержав их дважды – на президентских и парламентских выборах. Это, как показано ранее, достаточно типичная реакция социума на масштабные институциональные реформы.
Удивляет другое: явно некомпетентная команда, не имеющая даже программы, получила поддержку и от многих экспертов. Так, главный редактор Ukraine Business News, экс-журналист The New York Times Дж. Брук был преисполнен восторга, когда комментировал первые полгода правления В.А. Зеленского: «Киев сегодня является эпицентром самой значимой экономической революции в регионе. В рамках либертарианской перестройки постсоветской системы новое правительство Украины планирует запустить крупнейший в Европе рынок сельскохозяйственных земель, провести крупнейшую постсоветскую приватизацию, строить автомобильные и железные дороги, порты и аэропорты, открыть рынок нефти и газа для частных инвестиций. Легализовать азартные игры в казино и добычу янтаря. Отменить валютные ограничения. Либерализовать трудовое законодательство» [7].
Неизбежное разочарование приходит только сейчас. Уже в конце сентября 2019 г. появилось понимание, что «бизнес на крови» (так В.А. Зеленский называл войну на Донбассе, обвиняя П.А. Порошенко в получении от нее выгод) далеко не так просто закончить. Не удалось долго эксплуатировать и подготовленный предыдущей командой экономический рост, который к концу 2019 г. стал замедляться в результате непродуманных и хаотичных решений, а также невразумительной кадровой политики «Зе!-команды». В целом отсутствие стратегии реформ привело к резкому снижению рейтинга в конце 2019 г. [8]. Однако, и это самый важный момент: уменьшение рейтинга власти предержащей не привело к повышению рейтинга политиков прошлого – П.А. Порошенко, Ю.В. Тимошенко и др. Судя по всему, украинское общество продолжает надеяться на то, что методом перебора найдет достаточно эффективного популиста, который продолжит институциональные реформы, но сделает это безболезненно. Как говорилось ранее, подобные примеры популистских «реформ без карты» [9, p. 175–184] типичны для трансформирующихся социумов.
Однако реалии современной политики поставили перед исследователями ряд новых вопросов. Если персоналистский фактор наиболее влиятелен в радикальной институциональной трансформации, то почему он приобрел такое значение в современных странах «стабильных демократий», имеющих развитую и устойчивую институциональную систему (Д. Трамп в США, Дж. Грилло в Италии и т. д.)? Приведет ли «поворот в сторону популизма» в США и Европе к коррозии политических институтов? Наконец, какие уроки должна извлечь из этих наблюдений трансформирующаяся Россия? Все эти и подобные им вопросы делают крайне актуальной тему исследования персоналистского фактора в процессах институционализации политических режимов.
В классической политической науке и теории демократии мейнстримом является противопоставление персоналистского и институционального факторов. Так, становление авторитарных политических режимов в межвоенной Европе (Италии, Германии, Франции и т. д.) обычно связывается с недостаточной укорененностью демократических политических институтов либо с их разрушением в результате социально-экономического кризиса [10]. В частности, Х. Арендт обращала внимание на такой факт: распространению и упрочению фашизма в Великобритании положила конец развитая система институтов парламентской демократии, в то время как перманентный кризис в Веймарской Германии не позволил подобным институтам сформироваться в достаточной мере [11, с. 74–76].
В современном мире также наблюдается усиление популистских политических форм [12]. Такие лидеры, как С. Берлускони и Дж. Грилло в Италии, Г. Вилдерс в Нидерландах, Й. Хайдер в Австрии, М. Ле Пен во Франции, а также возрастание популярности право- и левопопулистских партий в парламентах европейских стран («Йоббик» в Венгрии, «Альтернатива для Германии» в Германии, «Свобода» в Нидерландах, «Национальный фронт» во Франции и т. д.) вызвали новую волну интереса к популистским политическим формам. Рассмотренный пример Украины лишний раз подтвердил обоснованность этого интереса: «Популизм вернулся – и он вернулся с удвоенной силой. То, что когда-то рассматривалось как пограничное явление, регресс в давно ушедшие эпохи или феномен третьего мира, теперь стало основой всей современной политики во всем мире» [13, p. 25]. Однако пример Украины показывает также справедливость традиционного для политической науки противопоставления персоналистского и институционального факторов, когда возникает дилемма между «политиками старой формации» (П. Порошенко, Ю. Тимошенко, А. Яценюком и др.), нередко увязшими в неформально институционализированных связях, ролях и взаимных ожиданиях, и потому неспособными провести необходимые реформы, и «политиками новой волны» (В. Зеленским, С. Вакарчуком, А. Дубинским и др.), умеющими нравиться публике и много обещать, но при этом также оказывающимися не в состоянии осуществить институциональные преобразования. Тем самым возникает «порочный круг» бесконечной имитации реформ при прогрессирующей слабости государства либо сменяющих друг друга диктатур в ситуации захвата власти одной из группировок. Таковы практики реформирования постсоветского пространства.
В теории противопоставление персоналистского и институционального факторов имеет логику, только если понимать институт как деперсонализированное «правило игры» в обществе [14, с. 17]. В то же время в современной неоинституциональной дистрибутивной теории институтов поставлена проблема «институциональной амбивалентности»: изначальной мотивацией при создании институтов является не пресловутая коллективная польза, а борьба за власть и распределение ресурсов [15, p. 38–42]. Из этого следует, что классическое противопоставление указанных факторов лишается смысла, поскольку если политический процесс протекает в сложившейся институциональной среде, то его акторы предпочитают существующие институты при принятии решений; если же институциональная среда имеет нестабильный характер, это резко актуализирует личностные качества институциональных дизайнеров. На этот момент обращал внимание уже С. Хантингтон [16]. Таким образом, корректнее говорить о взаимодополнительности институционального и персоналистского факторов в процессах институциональной трансформации, а не противопоставлять их.
Обозначенный вывод подтверждается, в частности, фундаментальными изменениями в современной политике «стабильных демократий» США и Европы. Исследователи фиксируют радикальный характер данных перемен: кризис идеологических систем и распространение их суррогатов, «медиатизация политики», «политика постправды», эмотивизация политики, резкое ускорение процессов социальных изменений и т. д. [17]. Все эти и другие факторы приводят к усилению популистского персонализма в странах «стабильных демократий», «антиистеблишментской революции», «правому» и прочим «поворотам», о которых заговорили многие политологи. Все это ставит под вопрос сами цели трансформации политических режимов и противопоставления институционального и персоналистского факторов в изменившихся условиях данной трансформации.
Ссылки:
https:// (дата обращения: 13.02.2020).
; Institutional Inconsistency and Political Instability: Polity Duration, 1800–2000 / S. Gates, H. Hegre, M.P. Jones, H. Strand // American Journal of Political Science. 2006. Vol. 50, no. 4. P. 893–908.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Персонализм и проблема институционализации политических режимов (на примере Украины)
- Белинский А.В. Правый популизм как вызов для системы евро-атлантической безопасности // Проблемы европейской безопасности. 2018. № 3. С. 235-254.
- Макаренко Г. Правый поворот Европы [Электронный ресурс] // РБК. 2014. 8 апр. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2014/04/08/56befc869a7947299f72d2a2 (дата обращения: 13.02.2020).
- Прилуцкий В.В. Протестные движения в современной Америке (2009-2019) // Вестник Брянского государственного университета. 2019. Т. 40, № 2. С. 74-79. DOI: 10.22281/2413-9912-2019-03-02-75-79
- Русакова О.Ф., Русаков В.М. Правый поворот в политическом дискурсе элит и кризис неолиберализма // Дискурс-Пи. 2016. № 3-4. С. 13-22.
- Завадская М. Левый поворот общества или правый поворот государства? [Электронный ресурс] // Riddle. 2019. 25 февр. URL: https://www.ridl.io/ru/levyj-povorot-obshhestva-ili-pravyj-povorot-gosudarstva (дата обращения: 13.02.2020)
- Игры на идеологической периферии. Праворадикальные установки студенческой молодежи Ростовской области / С.П. Поцелуев, М.С. Константинов, П.Н. Лукичев [и др.]. Ростов н/Д., 2016. 396 с.
- Константинов М.С. Элементы институционально-эволюционной теории в социальной философии М.К. Петрова. Ростов н/Д., 2005. 64 с.
- Gandhi J., Przeworski A. Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats // Comparative Political Studies. 2007. Vol. 40, no. 11. P. 1279-1301. DOI: 10.1177/0010414007305817
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. 180 с.
- Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая / пер. с англ. С. Моисеева. М., 2017. 552 с.
- Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности: пер. с англ. М., 2010. 447 с.
- Панов П.В. Институциональная устойчивость фрагментированных политий // Политическая наука. 2012. № 3. С. 31-49.
- Gandhi J., Przeworski A. Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats // Comparative Political Studies. 2007. Vol. 40, no. 11. P. 1279-1301.
- DOI: 10.1177/0010414007305817
- Geddes B. What Do We Know about Democratization after Twenty Years? // Annual Review of Political Science. 1999. Vol. 2, iss. 1. P. 115-144.
- DOI: 10.1146/annurev.polisci.2.1.115
- Geddes B., Wright J., Frantz E. Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set // Perspectives on Politics. 2014. Vol. 12, no. 2. P. 313-331.
- DOI: 10.1017/s1537592714000851
- Брук Дж. Украинская либертарианская революция [Электронный ресурс] // НВ. Мнения. 2019. 13 сент. URL: https://nv.ua/opinion/v-ukrainu-sletayutsya-investory-novosti-ukrainy-50042422.html (дата обращения: 13.02.2020)
- Оцiнка дiяльностi органiв влади та реакцiя на актуальнi подiї [Электронный ресурс] // Київський мiжнародний iнститут соцiологiї. 2019. 27 нояб. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=905&page=1 (дата обращения: 13.02.2020)
- Shleifer A., Treisman D. Without a Map: Political Tactics and Economic Reform in Russia. Cambridge; L., 2000. 223 p
- Кудряшова И.В. Как обустроить разделенные общества // Политическая наука. 2016. № 1. С. 15-33.
- Belkin A., Schofer E. Toward a Structural Understanding of Coup Risk // Journal of Conflict Resolution. 2003. Vol. 47, no. 5. P. 594-620.
- DOI: 10.1177/0022002703258197
- Institutional Inconsistency and Political Instability: Polity Duration, 1800-2000 / S. Gates, H. Hegre, M.P. Jones, H. Strand // American Journal of Political Science. 2006. Vol. 50, no. 4. P. 893-908.
- DOI: 10.1111/j.1540-5907.2006.00222.x
- Арендт Х. Истоки тоталитаризма: пер. с англ. М., 1996. 672 с
- Moffitt B. The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation. Stanford, 2016. 240 p
- Moffitt B. The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation. Stanford, 2016. P. 25.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 17.
- Knight J. Institutions and Social Conflict. Cambridge, 1992. 324 p
- Хантингтон С.Ф. Политический порядок в меняющихся обществах / пер. с англ. В.Р. Рокитянского. М., 2004. 480 с
- Константинов М.С. Идеолоноиды в сознании молодежи Юга России // Политика в сетевом обществе: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием / редкол.: Е.В. Морозова [и др.]. Краснодар, 2019. С. 133-137