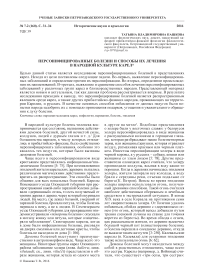Персонифицированные болезни и способы их лечения в народной культуре карел
Автор: Пашкова Татьяна Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7 (160) т.2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является исследование персонифицированных болезней в представлениях карел. Исходя из цели поставлены следующие задачи. Во-первых, выявление персонифицированных заболеваний и определение причин их персонификации. Во-вторых, определение происхождения их наименований. В-третьих, выявление и сравнение способов лечения персонифицированных заболеваний у различных групп карел и близкородственных народов. Представленный материал является новым и актуальным, так как данная проблема рассматривается впервые. В результате исследования приходим к выводу, что персонифицирование болезней является распространенным явлением среди карел, а также других прибалтийско-финских народов, проживающих на территории Карелии, и русских. В качестве основных способов избавления от данных недугов были попытки народа задобрить их с помощью приношения подарков, угощения и уважительного обращения к духу болезни.
Народная медицина карел, мифология, верования, болезнь, эпидемия
Короткий адрес: https://sciup.org/14751103
IDR: 14751103 | УДК: 39
Текст научной статьи Персонифицированные болезни и способы их лечения в народной культуре карел
В народной культуре болезнь человека воспринимается как состояние, вызванное действиями демонов болезней, другой нечистой силы, колдунов, людей с дурным глазом и т. д.1 Для большинства народов, к числу которых относились и прибалтийско-финские, было свойственно персонифицировать заболевания, особенно это касалось тех недугов, которые были вызваны демонами болезней.
Чаще всего в персонифицированном виде крестьянам представлялись инфекционные/эпи-демические болезни [5: 75]. При возникновении эпидемий жители карельских деревень пытались различными магическими действиями предотвратить их распространение. Эти способы были общими для всех повальных болезней. Карелы Повенецкого уезда Олонецкой губернии при распространении какой-либо заразной болезни добывали «деревянный» огонь, то есть получаемый от трения дерева о дерево, через который окуривали людей. На место, где лежал больной, умерший от заразной болезни, бросали петуха, чтобы болезнь перешла к нему, а не к людям. В Семчезерском уезде Олонецкой губернии для прекращения эпидемии устраивали «похороны болезни»: опускали в могилу кошку или петуха, которые олицетворяли заболевания2. Сямозерские карелы, когда в доме были инфекционные больные, рисовали на дверях смоляные или дегтевые кресты, чтобы болезнь не выходила из дома [1: 106].
Демоны болезней выступают преимущественно в антропоморфном виде. Чаще всего это женщины. Некоторые группы карел Олонецкого района заболевание холера (ливв. halieru; ливв. vilutaudi; ск., ливв. vilučči) представляли в образе женщины, которая летала из одного места в другое на метле3. Подобные представления о холере были у восточных славян: у белорусов холера персонифицировалась в виде женщины с распущенными волосами и горящими глазами, которая разбрасывает некие болезнетворные зерна, или женщины/девушки, которая отравляет воздух, размахивая красным или черным платком. Известны персонификации холеры в виде черной коровы, а у русских – собаки, кошки или женщины со злым лицом [5: 78]. Другие представители олонецких карел считали, что холеру производили колдуны, всыпая в воду какие-то порошки. Когда в деревнях начиналась эпидемия холеры, жители запирали все колодцы, а воду брали с середины реки, отъехав подальше от берега (К. Петров). Вепсы во время эпидемии холеры широко использовали огонь, полученный древними способами. Такой огонь считался наиболее действенным обережным и лечебным средством в экстремальной ситуации. В конце XIX века в селе Корвала на протяжении семи лет свирепствовала холера. От болезни удалось избавиться, обойдя деревню с «деревянным» огнем (это огонь, который вепсы добывали путем трения сосновой лучины на станке для точения веретен из бересты). Во время обхода с огнем, как рассказывали жители, из деревни выскочил большой черный кот (олицетворение болезни), и болезнь перешла в соседнюю деревню, откуда ее выжили таким же путем [3: 250]. Калевальские карелы (п. Калевала) для остановки эпидемии также использовали огонь [6: 62].
Демоны болезней могут находиться между собой в родственных отношениях, чаще всего это сестры. Карелы (например, д. Войница) считали, что существует «три оспы, три сестры»:
собственно болезнь оспа – «самая старшая и самая злая сестра», ветрянка – «средняя сестра» и корь – «самая младшая сестра». Всех трех сестер в Карелии очень уважали и боялись.
Для обозначения кори в диалектах карельского языка использовали наименования, в основе номинации которых лежат ее симптомы. У человека, заболевшего корью, все тело покрывается мелкой сыпью, как будто его золой посыпали. Вполне возможно, по аналогии с этим в основу карельских названий болезни корь легло существительное tuhka , tuhku ‘зола’: (ск., ливв.) tuhkarokko/tuhkurokko (зола + оспа/волдырь), (ск.) tuhkičča/tuhkičču (от сущ. tuhka ‘зола, пепел’ + суф. -čča , -čču ), (ск., ливв.) tuhkiččarubi/ tuhkiččurubi (корь + оспа). Для того чтобы «задобрить» корь, ее приглашали в гости каждый третий год. Ей накрывали стол, угощали (д. Вой-ница)4. Угощения для олицетворенной болезни корь готовили и шимозерские вепсы [3: 395].
Основной акцент в лечении кори делался на использовании материи красного цвета. В основе данного способа исцеления – принцип «подобное отталкивает подобное». Тверские (д. Семеновское) и тихвинские (д. Коргорка) карелы также использовали для избавления от кори красную тряпку: ею накрывали ребенка и занавешивали красными занавесками все окна5 [4: 145]. Вепсы, проживающие в Пяжозере и Пондале, напротив, держали заболевшего корью ребенка в темной избе. Темнота (мрак) – это признак мира мертвых, смерти. Поместив корь в условия темноты и смерти, стремились изгнать болезнь красного цвета [3: 395]. Красный цвет – это цвет жизни, здоровья, солнца, он наделялся защитными свойствами.
В представлениях карел источником ветряной оспы был ветер. Исходя из этого, в основе номинации ветрянки в тверском говоре карельского языка лежит лексема tuuli ‘ветер’: (ск.) tuulenrubi (ветер + оспа/болячка). Во время ветрянки лицо больного покрывалось струпьями. Затем короста отпадала, и человек иногда оставался рябым. Тверские карелы (с. Воздвиженка) при появлении ветрянки или любой другой сыпи на теле прибегали к следующему методу лечения: больного окатывали водой через борону, лопату и ольховое гнездо (девочек)/еловое гнездо (мальчиков), сопровождая эти действия словами заговора: « Aštovalla aštoičen, labijella roičen, leppazella tulen pežolla kylvetän oigien hengen ristikanžan » (‘Бороною бороню, лопатою рою, ольховым ветряным гнездом парю правую душу крещеную’)6. Чтобы появившиеся при ветряной оспе волдыри не чесались, кожу больного натирали ячневой крупой. У карел д. Семеновское считалось, что ветрянка лечению не поддается (« händä n’imil’l’ ei voinun l’ečči » ‘ее ничем нельзя было вылечить’) [4: 145].
Больше всего карелы боялись и уважали самую старшую сестру – оспу. В д. Кондока отец заболевшего оспой ребенка стал ругать эту болезнь: «Emättäy, jotta, et tiijä i lähtie kun tulit taloh, ni et t’iijä lähtie!» (‘Заклинает/матерится, что не уходишь, раз в дом пришла, то и не уйдешь!’). После этого его семилетняя дочь стала косоглазой [8: 228]. Для данного заболевания у карел существовало большое количество наименований. Карелы называли заболевание оспа Божьей болячкой, при этом указывая на то, что «ее лечить даже было грешно»7. Компонент «Божий» был отражен в следующих наименованиях: (ливв.) jumalan rubi (букв. ‘Божья болезнь/оспа/болячка’), (ливв.) jumalan kasse (букв. ‘Божье наказание’). По мнению финского языковеда Я. Калима, вторая часть данного наименования заимствована из русского языка: kasse < русс. казать, наказать. Финский этнограф И. Маннинен предполагал, что название jumalan kasse (фин. Jumalan rangaistus) очень хорошо подходит в отношении оспы, которая считалась насланной именно Богом8. К русским заимствованиям относятся лексемы (ск., ливв.) ospičča, ospa (от русс. о-съп-а к съп, сыпати – сыпная повальная болезнь)9. Германское происхождение прослеживается в финском названии, которое в дальнейшем было заимствовано в карельский язык (ск., ливв., люд.) rupi/rubi (rupi<*χrufōn-/-*χrubnō/χrufiz (ср.: др. норв. hrufa ‘оспа’, совр. норв. ruv, ruva, ruve ‘оспа’)10.
При обращении к персонифицированным болезням очень часто использовали личные имена, которые считались знаком особого уважения этого недуга. В группу подобных наименований входит, например, лексема (ск., ливв., люд.) Ospičča Ivanouna ‘Оспитта Ивановна’. В славянских языках персонифицированному духу оспы в знак особого расположения, уважения, почтения присваивались личные имена, отчества, ср.: Осп(иц)а Ивановна, Оспица Афанасьевна, Воспинка Осиповна (русс.); баба Писанка, баба Шарка, Шаруля, Шерчица (б.). У северных вепсов, как и у соседних народов – карел, русских и коми, оспа также персонифицировалась в виде женщины. Ее величали Оспа Ивановна или Оспа Андреевна [2: 188]. Как у карел, так и у русских причиной оспы считают главным образом нарушение запретов: непочитание болезни, оскорбление каким-либо действием, словом11.
По словам карел д. Оуланка, оспой болели как дети, так и взрослые. Знахари были бессильны перед этой болезнью. По ее течению определяли, умрет больной или выздоровеет: если волдыри от оспы были кровавого цвета и росли внутрь, то человек умрет, а если они были внешними, то человек поправится [7: 236]. По мнению олонецких карел, оспа – одно из самых опасных заболеваний, которое ежегодно по весне «откуда-то, Бог весть знает, заносилось в Олонецкую Карелию». Карелы называли оспу «нежеланной гостьей, настоящим горем всех сел и деревень».
В период болезни больной оспой лежал за занавеской около печи. Ему нельзя было смотреть на гостей, можно было смотреть только на вдов и вдовцов. Когда больному несли еду, кланялись и говорили: « Ospiča Ivanovna, rupi jumalan luoma, nouse murkinalla! » (‘Оспитта Ивановна, оспа, Божье творение, встань на второй завтрак!’).
Для лечения оспы у ливвиковских карел было два способа: отнести больного в баню и там парить его до тех пор, пока «болезнь с криком не выйдет»; или испечь пирог и с поклоном, встав на колени около больного, упрашивать, чтобы дорогая гостья, Оспитта Ивановна, смилостивилась и не испортила больному глаза, лицо, руки и не сделала его калекой. Автор этого собранного материала Н. Лесков относительно вышеуказанных способов лечения, применяемых олонецкими карелами, пишет: «…первый способ отличается какой-то неразумной дикостью, а другой – отчаянием, равного которому не скоро и сыщешь». Когда больного оспой вели в баню, то с собой звали Оспитту, чтобы она помогала парить больного. В баню вместе с больным нельзя было идти вдовам и вдовцам, женщинам, у которых нет детей. Во время парения в бане нельзя было сердиться.
Для того чтобы Оспитта не рассердилась на больного и членов его семьи, ее задабривали: накрывали на стол от трех до девяти разных блюд. Затем больного оспой усаживали за стол, кормили, поили и обхаживали как самого дорогого гостя. После этого кормили и поили других детей из этого дома, а также звали соседских. Когда больной оспой поправлялся, то Оспитту провожали со словами: « Nyt on syöty syömät, juotu juomat, pietty piot parahat. Kun hyvänä vierahana tulit, ta parempana mäne! » ‘Теперь еда съедена, питье выпито, лучшие пиршества проведены. Ты пришла к нам как лучший гость, так и уходи как лучший!’
Если даже в семье никто не болел оспой, то Оспитту звали в гости для профилактики каждый седьмой год12. Также соседи приходили в тот дом, где был больной оспой, и приглашали оспу к себе, надеясь, что, получив приглашение, она не будет такой сердитой (то есть в их доме болеть будут не сильно).
У паданских карел оспу называли только уважительно: «Марья Ивановна желанная» или «Оспица Матушка». Встречали болезнь самыми добрыми словами: «Здравствуй, матушка Марья Ивановна! Здравствуй на многие лета! Благодарствуй, что посетила нас, рабов твоих покорных, не будь ты нам злою мачехою, будь родною матерью! Ты лики порти, да в гроб не складывай! Не побрезгуй дарами нашими!» Все это сопровождалось учащенными поклонами и дарами, которые подносили больному, и он должен был попробовать все. Затем дары доедались присутствующими, а больного вели в очень сильно натопленную баню, где парили его до полусмерти, «выпаривая желанную гостью, а то матушка, по Руси бродивши, овшиве-ла». Чаще всего от такого лечения больной умирал (например, в 1876 году в Паданах от оспы умерли 19 из 32 больных). Жители прокомментировали это так: «Не угодили, знать, Марье Ивановне».
Суоярвские карелы (д. Поросозеро) собирали в кучу во дворе портянки или льняное белье больного, сжигали, собирали золу, мазали ею болячки больного и приговаривали: « Mistä mierosta tulit, sinne i mane, elä puutu sinä ilmoisena ikänä » (‘С какого мира ты пришла, туда и иди, не тро-гай/приходи никогда на свете’)13.
Тверские карелы заболевшего оспой ребенка парили в бане, читая заговор: « Ruškiene rubuozeni, armahane rubuozeni, ota omaš hyvyöt, ana omat tervehyšmiän raba boozella lapšella » (‘Красная оспа, любимая оспа, возьми (ты) свое добро, отдай нашему рабу Божьему, ребенку его здоровье’). По возвращении из бани больного, так же как и в Северной Карелии, усаживали на почетное место за столом, а перед ним (для оспы) клали яйцо, выкрашенное в красный цвет, со словами: « Ka tässä siulaš gostinčat » (‘Вот тебе гостинцы’). Жители д. Кондока не только парили в бане больного оспой ребенка, но и Оспитту угощали там, а не дома, чаем и оладьями. Во время угощения повторяли: « Ospičč Ivaanovna, Ospičč Ivaanovna, prost’i! » (‘Оспитта Ивановна, Оспитта Ивановна, прости!’) [8: 228]. У повенецких карел в то время, когда кто-нибудь болел оспой, родители больного кланялись до земли, при этом приговаривая: «Оспица Ивановна, прости, пожалуй, буде мы тебя чем прогневали». После этого пекли для Оспитты пироги пряженые, приносили вино. В период болезни баню топили ежедневно, больного парили и на его лицо клали горячие блины, чтобы скорее засыхали нарывы, а все тело натирали или про-макивали спиртом или вином.
Среди карел еще одним «гневным» гостем, как и оспа, считалось заболевание тиф (ск., ливв., люд. tifu ). К этой болезни относились так же, как и к Оспитте: уважали и потчевали. Больного оставляли на произвол судьбы, не трогали его, считая, что иначе болезнь рассердится и пойдет из дома в дом. Порой больного заедали вши, но к нему никто не прикасался. Соседи приходили с разного рода угощениями: рыбниками, калитками, шаньгами, – и складывали их около больного в качестве подарка для болезни.
Во время эпидемии сыпного тифа в Паданском уезде применялись следующие приемы лечения: если больного знобило, то его несли в жарко натопленную баню и парили до потери сознания, а если у него был сильный жар, то трижды опускали в ледяную прорубь. Объясняли это так: «…если ему холодно, то надо согреть, а ежели жарко – остудить, вот болезнь и пройдет». Во время тифозной эпидемии паданские карелы пытались «отогнать» болезнь, стреляя из ружья около больного14. Такой же обряд «пугания» болезни проводили вепсы (с. Корвала) [3: 131].
Итак, персонификация болезней была свой-ствена для всех групп карел, проживающих как на территории Карелии, так и в других районах (например, тверские и тихвинские карелы). Данное явление включало мифологическую составляющую, имеющую в основе страх людей перед эпидемическими болезнями, носящими в рассматриваемый период массовый характер. Большинство способов лечения было построено на задабривании болезней (угощения, подарки) и на обращении к ним в форме заговоров-просьб уйти и оставить больного в покое.
* Статья подготовлена в рамках комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012-2016 гг.
СОКРАЩЕНИЯ
-
б. – болгарский язык
ливв. – ливвиковское наречие карельского языка люд. - людиковское наречие карельского языка ск. – собственно карельское наречие карельского языка
PERSONALIZED DISEASES AND METHODS OF THEIR TREATMENT
IN RARELIAN FOLKLIFE CULTURE
Список литературы Персонифицированные болезни и способы их лечения в народной культуре карел
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т./Под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М.: Междунар. отношения, 1995. С. 225.
- Повенецкие корелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания//Олонецкие губернские ведомости. 1863. № 14, 15. С. 50.
- Петров К. Болезни простого народа//Олонецкие губернские ведомости. 1863. № 48. С. 188.
- Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Porvoo: WSO, 1924. S. 62.
- Образцы карельской речи/Сост. В. Д. Рягоев. Л.: Наука, 1980. С. 304.
- Михайловская М. В. Карельские заговоры, приметы и заплачки//Сборник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого. Вып. 2. Л., 1925. Т. V. С. 614.
- Лесков Н. Отчет о поездке к Олонецким Корелам летом 1893 г.//Живая старина. Вып. 1. СПб., 1894. С. 31.
- Kalima J. Eräästä rokkotaudin nimestä//Kalevalaseuran vuosikirja. № 29. Porvoo; Helsinki, 1949. S. 41-44.
- Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М.: ГИС, 1958. С. 665.
- Suomen sanojen alkuperä. Helsinki: SKS. III. 2000. S. 109.
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т./Под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М.: Междунар. отношения, 1995. С. 576.
- Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Porvoo: WSO, 1924. S. 60-61.
- Suomen kansan vanhat runot: Aunuksen, Tverin ja Novgorodin Karjalan Runot (SKVR). Osa II. Helsinki: SKS, 1927. S. 562.
- Алимов Т. М. Знахарство в Карелии//В помощь просвещенцу. 1929. № 1. С. 22.
- Бусарова В. П. Структура обряда лечения (на примере сямозерских карел)//Сямозерские чтения: Доклады и материалы первой и второй научно-практических конференций. Петрозаводск: Изд. Дом «Карелия», 2006. С. 104-110.
- Винокурова И. Ю. Вепсский мифологический пантеон в свете некоторых этапов этнической истории народа (на основе вепсского диалектного материала)//Вепсские ареальные исследования: Сб. статей. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. С. 174-192.
- Винокурова И. Ю. Мифология вепсов: Энциклопедия. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 524 с.
- Слушаю карельский говор/Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск: Периодика, 2001. 208 с.
- Юдин А. В. Персонифицированные болезни и способы борьбы с ними в народной культуре восточных славян//Studia Litteraria Polono-Slavica, 6: Morbus, medicamentum et sanus. Choroba, lek i zdrowie. Warszawa: SOW, 2001. C. 75-96.
- Inh a I. K. Kalevalan laulumailta: Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa. Helsinki: SKS, 1999. 437 s.
- Pentik ä i n e n J. Marina Takalon uskonto (uskontoantropologinen tutkimus). Helsinki, 1971. 388 s.
- Virtaranta P. Vienan kyliä kiertämässä. Porvoo; Helsinki: WSO, 1978. 700 s.