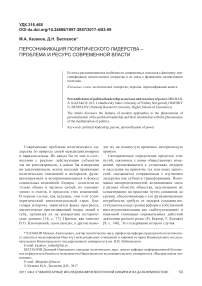Персонификация политического лидерства - проблема и ресурс современной власти
Автор: Казаков Михаил Анатольевич, Беспалов Дмитрий Николаевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Ракурсы социальной динамики
Статья в выпуске: 4 (42), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности современных подходов к феномену персонификации политического лидерства и их связь с феноменом медиатизации политики.
Политическое лидерство, персона, персонификация власти
Короткий адрес: https://sciup.org/170175740
IDR: 170175740 | УДК: 316.468 | DOI: 10.24866/1997-2857/2017-4/53-59
Текст научной статьи Персонификация политического лидерства - проблема и ресурс современной власти
Современные проблемы политического лидерства по природе своей междисциплинарны и парадоксальны. Но какую бы из них в соотнесении с реально действующим субъектом мы ни рассматривали, в каком бы измерении ни анализировали, всюду находим проявление политических отношений и интересов, функционирующих и воспринимающихся в фокусе социальных изменений. Лидеры – носители не только общих и частных связей, но одновременно и очагов, и пределов этих изменений. В первом случае, как ведущие, они «тот соци-окритический интеллектуальный страт, благодаря которому зажигается факел прогресса, магнетически притягивающий взоры людей к себе, организуя их на конкретные исторические деяния» [16, с. 77]. Причем, как заметил В.О. Ключевский, одни заводят, а другие выво- дят их на покинутую временно историческую прямую.
Своевременное определение пределов этих путей, связанных с ними общественных изменений, проявляющихся в установках лидеров и населения на принятие тех или иных ценностей, оказывается сопряженным с изучением лидерства как субъекта трансформации. Понимание неопределенностей, возникающих здесь в разных областях общества, недопущение их концентрации на практике путем снижения до уровня, обеспечивающего его функциональные потребности, требует от лидеров создания институциональных границ реформ и собственной институционализации как «хабитуализации» и взаимной типизации опривыченных действий деятелями разного рода» (П. Бергер, Т. Лукман) [9, с. 146]. Это содержание второго случая.
Примечательны по этому поводу слова Д. Норта: «Несовместимость формальных правил и неформальных ограничений (что может быть результатом глубины культурного наследия, в рамках которого были выработаны традиционные способы разрешения проблем обмена) порождают трения, что могут быть ослаблены путем перестройки всех ограничений в обоих направлениях, и тогда будет достигнуто новое равновесие, значительно менее революционное, чем риторика перемен» [16, с. 10]. В этом отношении процесс эволюции отечественного политического лидерства, осознающего, что оно «является властью, осуществляемой «сверху вниз» [2, с. 5], пример его неразрывной связи с феноменом власти.
Она выражается в том, что структура этого лидерства не только шире иных его форм, создает определенный образ власти и общественного устройства, системы знаний и правил в нем, но и, будучи сосредоточением ценностей, установок, необходимых для внутреннего согласования интересов и самоорганизации, есть специфический тип отношения между субъектом и объектом, соответствующий ему род (качество) власти, проявляющих себя через деятельность персон и группы, находящихся на верху социальной иерархии (Т. Боттомор) [26, p. 7], готовых к удержанию своих доминирующих позиций в обществе. В чем сила лидерства и одновременно его проблема.
В новейшей истории эта специфика наблюдаема с момента возникновения связи, когда власть делегируется объектом субъекту отношения добровольно, а объект, реализуя в идеале право отбора и выбора выразителя/представи-теля своего интереса, закрепляет тем самым его статус и полномочия. В этом смысле политическое лидерство не только институт власти, детерминируемый отношениями ответственности перед электоратом (населением) за сделанный им выбор социального порядка. По Т. Парсонсу – один из основополагающих институтов политической системы, но и персонально деятельностное начало власти, реализующее себя в сфере публичных общественных отношений посредством конкуренции за политическое (властное) первенство [10, с. 11].
Первичное и несущее этого начала – личность лидера. Уже в Древнем Риме слово «persona» служило для обозначения специальной маски, используемой актером античного театра. С одной стороны, эта маска помогала ему: оборудованная специальным раструбом, она усиливала звук голоса и доносила его до аудитории. С другой стороны, она скрывала лицо актера под личиной персонажа. Поучительно, что этимология слова persona (per – через, sonus – звук) отчетливо указывает и на атрибутивную, и двойственную (способствование – препятствование) природу личности.
Сущность индивидуального политического лидерства «триедина», что проявляет себя во взаимодействии личностных, организационно-статусных и социокультурных качеств носителя соответствующих функций, что позволяет сформулировать проблему выработки критериев зрелости (интегрированности) деятельности политических руководителей на основе оценки их личностной самостоятельности, статусного положения и доминирующих типов ценностно-смысловых ориентаций. Однако многое осталось за скобками. Неверное представление «не каждый человек – личность» рождало в древности героическое видение царей и полководцев, позже – сакрализацию монархов и вождей, что при отсутствии реальных правовых рычагов контроля деятельности генсеков и президентов до сих пор сохраняет за вождизмом право считаться сущностью персонифицированной власти, служит оправданию манипулятивных практик в современной политике. Из-за непрофессионализма отдельных членов организации, так или иначе отождествляемой с потенциальным лидером, системы демонстрируют признаки нестабильности при реализации тех или иных политик. Уже в этом контексте выработка адекватной концепции персонификации – путь интеллектуальной борьбы и взаимосвязи различных парадигм – с учетом превалирующего значения культуры и коммуникативных концепций.
Персонификация (от лат. persona «лицо», facio «делаю») – это персонализация с обратным знаком общения. Ее отличие – стремление человека быть самим собой, в соотношении с деятельностью. В персонификации происходит рост индивидуации человека, связи личности с самостью, высокими идеалами, Богом (К. Юнг), ослабление противостояния персоны и тени в личности человека, отказ от личностных фасадов. Протекающий по восходящей процесс персонификации усиливает интегрированность личностных структур, увеличивает степень позитивности, эмпатичности и конгруэнтности человека (К. Роджерс). Коммуникативные процессы объясняют существование как персонализирующего, так и персонифицирующего общения в социуме.
Персонализирующее общение, свойственное социальной структуре прежних обществ, уводит эмпирическую личность от оптимума ее полноценного функционирования. Персонификация как более органичный и интегративный процесс ближе современности. Его можно и нужно анализировать с позиций социологии. Там, где обыденное, ненаучное знание видит причины, политологи и социологи усматривают следствия, свидетельствующие о социальных сдвигах, процессах и тенденциях. «Наличие институтов и процесса институционализации не является спецификой политики и представляет собой всего лишь частный случай более сложной антропологической реальности, а именно того, что человек есть живое существо, причем единственное, обитающее в искусственной среде» [13, с. 21]. Лидеры – не исключение, но для того, чтобы определиться с их новой политической миссией, в рамках которой лидерство и предстает персонифицированной совокупностью социальных ролей, необходимо хотя бы обозначить главный нерв эпохи. Им является общемировой политический тренд – изменение роли государства и всех иных политических институтов, трансформации их сущности и форм, которые меняют не только структуру политического рынка, но и его эффективность в ответах на вызовы современности. Число реально противодействующих вызовам равно числу тех, «кто на законных основаниях осуществляет политическую власть» [18, с. 167].
Это лидерская группа. Те же, кто в нее не входят, противоборствуя между собой, используют в информационно-коммуникативном пространстве, по сути, одинаковые методы, понятия, техники. С той лишь разницей, что «на Западе» – «демократический метод – это такое институциональное устройство, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей», утверждал Шумпетер в 1942 г. [24, с. 524]. Он также говорил, что лидерство есть нечто значительно большее, чем личные качества человека, так же как функционирование и достижения этого метода в реальности гораздо важнее исполнения общей воли . Именно через раскрытие феномена лидерства можно прояснить то, откуда возникает идеология, что потом «возводится в ранг воли народа – не вытекает из их инициативы, но формируется… и это важнейшая часть демократического процесса» [24, с. 346].
В качестве теоретического подхода к феномену лидерства все шире используется синтез конструктивизма и инструментализма. Первый понимает лидерство как социальный конструкт, вынуждая аналитика не забывать об идейно-ценностной составляющей (П. Бергер, Т. Лукман, Ф. Барт, Б. Андерсон, П. Бурдье, И. Гофман). Инструментализм позволяет в процессе социального конструирования выделять заинтересованных акторов, их ресурсы, стратегии (Э. Хобсбаум, Т. Рейнджер, Р. Уортман). Потенциал публичного лидерства здесь видится в качестве одного из ключевых ресурсов устойчивого развития общественно-политической жизни. Данный подход проработан и апробирован на российском материале.
В российской гуманитарной науке феномен персонификации в политике «предали гласности» еще в 1989 г., в нашумевшем тогда сборнике статей «Тоталитаризм как исторический феномен» [21]. В начале 1990-х гг. эта тема уже в разных форматах была заявлена в публикациях В.В. Ильина, Ю.А. Левады, А.С. Панарина, В.П. Пугачева, А.С. Соловьева, А.Б. Орлова, Е.Б. Шестопал и других [7].
Разбор тенденций современного политического лидерства предполагает анализ системы условий и правил, их изменений, в соответствии с которыми происходит выдвижение, функционирование лидера в структурах власти и осуществление им своих полномочий. Посредством их слияния с индивидуальными качествами лидера осуществляется персонификация власти, лидерства [8, с. 113] – тенденция, воспроизводящаяся при определенных обстоятельствах и потому нуждающаяся в постоянной рефлексии. В массовом сознании «персонификация» воспринимается с момента взятия лидером какой-либо определяющей властной позиции (мэра, губернатора), ассоциации с ней возможностей достижения и трансляции узнаваемости «себя в мире». Однако это не персонификация, а персонализация, создаваемая отграниченностью индивидуума от других, обретением особой оболочки, что обозначает его как персону или маску. С ней он может долго жить и действовать, пока – в силу разных причин – он сам либо кто-то иной не догадается ее снять или «сорвать».
Когда же лидер сам (пусть исподволь) сдвигает маску по горизонтали или утончает роль персоны по вертикали – это некий старт персонификации, что в социальном контексте, как умно подметил О. Уайльд, означает: «Будь са- мим собой. Прочие роли уже заняты». Сама постановка вопроса переводит проблематику лидерства, а шире элитизма, в плоскость исторической динамики и влечет за собой ряд новых вопросов. Один из них неоднократно ставила политология: может ли внутренняя эволюция сама по себе вывести лидерство или элиту к нормальному состоянию, сопоставимому с нуждами общества?
Современные теории лидерства все теснее связаны с феноменом медиатизации политики, где персонификация власти, сопряженная с уровнями восприятия и общественного мнения, влияет на политическое поведение социальных групп в соответствии со своими пределами. Персонификация сегодня невозможна без опоры на СМИ, Интернет, и, как следствие, на весь коммуникативный процесс. В частности именно поставляемый СМИ материал о месте и роли лидеров в стране создает субстанцию их образа, а потом и имиджа, получающего поддержку зрителей (избирателей). Такой алгоритм С. Пшизова считает российской спецификой.
Персонификация лидерства, имея своим источником многоликость власти, не исключает воздействия на ее формирование иных (в т.ч. негативных) форм власти и институтов, с учетом их цивилизационного контекста в закреплении власти. Как тенденция она «живуча», чередуя в основании то потребности субъекта власти в образе, отображающем связи ведущего и ведомых, то объективные вызовы организованных систем. В первом случае, выступая от имени группы (элиты), лидер осуществляет ее представительство (реальное или символическое) во взаимодействии с другими особыми группами, в том числе религиозного типа. Образ лидера при стечении обстоятельств становится элементом создания групповой идентичности. «Важнейший аспект ее оформления – персонификация в каком-либо личностном образе» [6, с. 75]. Во втором случае, к ним относится потребность в самоорганизации, упорядочении действия (поведения) иных элементов системы в целях обеспечения ее стабильности.
По мере усиления потребности системы и самих людей в сложно организованных коллективных действиях, их осознания в форме коллективных целей (идеологии), спецификация функций лидера и его структурное, институциональное обособление повышается. Субъективные аспекты такого выделения наглядны в переходных ситуациях (мандат на «чрезвычайное управление», конфликт «групп интересов»
и т.д.), когда сосредоточением исторического виража выступают индивидуальные способности, готовность человека к возложению и выполнению роли лидера, а также признание за ним права на руководство со стороны группы, организации, общества.
«Институты не обязательно – и даже далеко не всегда – создаются для того, чтобы быть социально эффективными; институты или, по крайней мере, формальные правила, создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил» [15, с. 33]. Концентрация власти в их руках нередко приводит к случаю, когда персонификация лидерства подменяется его персонализацией (вплоть до «культа личности») в условиях тоталитарного режима.
Институционализация лидерских позиций находит отражение в понятии «формального лидерства». Отмеченное рационализацией властных отношений, оно представляет собой приоритетное влияние некоего лица (группы) на членов организации, закрепленное в ее нор-мах/правилах и основывающееся на положении в общественной иерархии, месте в ролевых структурах. Однако, т.к. достижение этого полнокровный, системный процесс, связан он не только с профессионализацией, но и с персонификацией, в зависимости от времени и социокультурного контекста в цикличности политического развития «оборачивающейся» еще и деперсонификацией. На практике – это различные феномены, знаковые для политического процесса. Деперсонификация (с развенчанием мифов прежних вождей и их клиентелл) – примета переустройства России 1990-х гг. Персонификация в многообразии проявлений – черта политической жизни современной РФ.
Сегодня идет размывание прежних идеологий, партии превращаются в модель «catchallparty» c размытой социальной базой и еще менее четким идеологическим базисом. Изменяются и факторы, влияющие на электоральное поведение: избиратели принимают решения, основываясь не на рациональном обдумывании программы кандидата или партии, а на личной симпатии к человеку, выдвинувшему свою кандидатуру на выборах. В этой связи и появился термин «персонификация политики»: избиратель оценивает политического лидера не столько по конкретным решениям, сколько по личным характеристикам, испытывая симпатию или антипатию к его персональным ка- чествам [12, с. 82]. Дж. Маццолини выдвигает тезис о том, что во многих демократических странах «персонифицированное лидерство» – главная черта современного политического процесса, именно оно влияет на политическое поведение людей [27, p. 17-20] в связи с изменениями институциональной среды политики, структурных компонентов лидерства, обусловленных культурой.
Сегодня, когда новый запрос на лидерство исходит со стороны Президента РФ и проявляется в линиях на омоложение корпуса публичных политиков, в интересе к личностям, которые могут принести новые идеи и сплотить региональные элиты [5, с. 6], персоналистский идентификатор1 ясен и понятен.
Список литературы Персонификация политического лидерства - проблема и ресурс современной власти
- Аршинов В.И., Буданов В.Г. Когнитивные основания синергетики//Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 65-108.
- Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу/Пер. с англ. Г.М. Квашнина. М.: РАУ, 1992.
- Беспалов Д.Н., Казаков М.А. Информационная война и обеспечение безопасности//Вестник МГИМО-университета. 2014. № 6. С. 82-87.
- Дахин А.В, Казаков М.А., Макарычев А.С., Семенов Е.Е., Стрелков Д.Г., Распопов Н.П. Перспективы стратегии публичной политики губернатора Нижегородской области: аналитические оценки, общественное мнение, тенденции. Аналитический доклад. Нижний Новгород: НИЦ СЭНЭКС, НИЦ «ЭОН», 2010.
- Дахин А.В. Сценарии региональной модернизации в современной России: Практикум когнитивного моделирования. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014.
- Евгеньева Т.В. Технологии социально-политических манипуляций. М.: Национальный институт «Высшая школа управления», 2010.
- Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. М.: Изд-во МГУ, 1995.
- Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной России. СПб: Питер, 2009.
- Казаков М.А. Институционализация региональных политических элит в процессе реализации национальных интересов России: обобщение некоторых выводов исследования//Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. Т. 2. № 1. С. 146-150.
- Казаков М.А. Политическое лидерство: современные проблемы эволюции: автореф. дис.. канд. полит. наук. М., 1993.
- Казаков М.А. Региональные элиты в политическом процессе России. Нижний Новгород: НГТУ, 2004.
- Касамара В.А., Сорокина А.А. Персонифицированное лидерство: политические лидеры глазами российских и французских студентов//Общественные науки и современность. 2012. № 4. С. 81-94.
- Кола Д. Политическая социология/Пер. с фр., предисл. А.Б. Гофмана. М.: Изд-во «Весь мир», «ИНФРА», 2001.
- Никонов В.А. Современный мир и его истоки. М.: Издательство Московского университета, 2015.
- Норт Д. Институты, институциональные начала и функционирование экономики. М.: Начала, 1997.
- Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа//Вопросы экономики. 1999. № 3. С. 5-15.
- Пугачев В.П. Управление свободой. М.: Изд-во Комкнига, 2005.
- Пшизова С.Н. Спин-контроль в системе политических коммуникаций//Российские властные институты и элиты в трансформации: Материалы восьмого Всероссийского семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской трансформации»/Отв. ред. А.В. Дука. СПб.: Интерсоцис, 2011.
- Савельев Ю.Б. Критерии модернизации в 21 веке: эмансипационные ценности и социальное включение//Гуманитарии в XXI веке. В 2-х т. Т. 1. Нижний Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2013.
- Соловьев А.И. Медиакратия//Политология. Лексикон. М.: РОССПЭН, 2007.
- Тоталитаризм как исторический феномен. М.: Философское общество СССР, 1989.
- Урсу Н.С. Внутренний контур национальной безопасности//Национальная безопасность. 2012. № 1(18). С. 102-105.
- Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология. М.: Народное образование, 1999.
- Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995.
- Щербинина Н.Г. Мифо-героическое конструирование политической реальности России. М.: РОССПЭН, 2011.
- Bottomore, T.B., 1976. Elites and society. Harmondsworth: Penguin Books.
- Mazzoleni, G.A., 2000. A return to civic and political engagement prompted by personalized political leadership? Political Communication, no. 17, pp. 325-328.