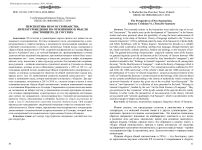Перспектива неососсюрианства. Литературоведение по отношению к мысли (настоящего) Де Соссюра
Автор: Скубачевска-Пневска Анна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 2 (49), 2019 года.
Бесплатный доступ
Резюме: XX столетие в гуманитарных науках прошло под знаком так называемого «соссюрианства». В статье подводятся итоги «соссюрианства» в литературоведении и ставятся вопросы о возможности использования новейших достижений «соссюрологии» в изучении литературы. Теория языка, изложенная в «Курсе общей лингвистики» (1916), изданном под фамилией де Соссюра Шарлем Балли и Альбером Сеше, с ее «догмой бинарности», функционировала в течение десятилетий как надежный инструмент, при помощи которого можно было систематизировать все - язык, литературу и искусство, ритуалы и мифы, кулинарные обычаи, моду, идеологию и даже структуру родства. Последовательно открываемые рукописи - особенно конспекты слушателей лекций де Соссюра по общему языкознанию, которые он вел в Женевском университете с 1907 по 1911 гг., исследования древней поэзии, выявленные Жаном Старобинским («анаграммы»), и очерки, из которых складываются «Заметки по общей лингвистике» (среди них, прежде всего, эссе «О двойственной сущности языковой деятельности») - приводят к пониманию языка, которое невозможно согласовать с «Курсом». Две круглые годовщины, отмеченные в 2013 и 2016 гг., столетие смерти ученого и сотая годовщина выпуска «Курса общей лингвистики», вызвали повышенный интерес к достижениям Фердинанда де Соссюра. Современное изучение наследия женевца, основанное на наборе текстов, установленном согласно критериям подлинности, которые переворачивают существующую до сих пор иерархию источников, дало начало так называемому «неососсюрианству». Основой неососсюрианства являются тексты, объединенные в сборнике Заметки по общей лингвистике во главе с эссе О двойственной сущности языковой деятельности. Они создают предпосылки «расширения» диадической концепции знака на отношения текст / действительность. Иначе говоря, перспектива неососсюрианства в литературоведении связана с «семиотическом четырехугольником де Соссюра», который является альтернативой для семиотического треугольника Огдена и Ричардса.
Де соссюр, структурализм, анаграммы, лингвистика, теория литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/149127406
IDR: 149127406 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00030
Текст научной статьи Перспектива неососсюрианства. Литературоведение по отношению к мысли (настоящего) Де Соссюра
Можно сказать, что предыдущее столетие в лингвистике и теории литературы, а в меньшей степени также и в других гуманитарных дисциплинах, прошло под знаком «соссюрианства». Это понятие очевидным образом направляет внимание на швейцарского лингвиста и его вклад в развитие всех научных дисциплин, прямо или косвенно заинтересованных языком. Однако, прежде всего, оно обращено к одному тексту, к «Курсу общей лингвистики», причем в одних контекстах это наследие валорировано однозначно положительно, в других (гораздо чаще) - термин соссюрианство (фр. Ie saussurisme, англ. Saussurism) имеет отрицательные коннотации.
Издание «Курса общей лингвистики» в 1916 г. - это, бесспорно, одно из переломных научных событий XX столетия. Содержащаяся в «Курсе»
концепция языка наложила отпечаток почти на все области знаний и определила начало новой эпохи в науке [Eagleton 2012, 9]. Как подчеркивает Н. Слюсарева, «вряд ли можно назвать какую-либо другую книгу, которая совершила бы такое триумфальное шествие по странам мира, как “Курс общей лингвистики” Фердинанда де Соссюра и привлекла бы к себе такое внимание» [Соссюр 1998, VIII]. Благодаря этой публикации де Соссюр становится в ряд самых больших умов последних столетий, и его называют «Галилеем» или «Коперником лингвистики». По мнению Д. Гольдкрофта, «Курс» коренным образом определяет новую перспективу в мышлении о языке, настоящую «коперниканскую революцию» [Holdcroft 1991, 134], даже, скорее, «соссюрианскую революцию». Аналогичное мнение Р. Харрис и Т.Д. Тейлор иллюстрируют характерным сравнением: «...так как Коперник установил, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, де Соссюр утверждает нечто подобное по отношению к языку» [Harris, Taylor 1994, 207-208]. Даже Роман Якобсон, «один из главных персонажей эпохи соссюрианства» [Gasparov 2013, 9], несмотря на то, что он построил свою научную карьеру на последовательной критике основных положений «Курса», т.е. принципа самоуправления и линеарное™ в языке, называет «Курс» гениальным произведением, не имеющим равных себе по ширине и глубине воздействия, оказываемого на мировую лингвистику. Якобсон подчеркивает смещение интересов наиболее крупных ученых начала XX в. с самого предмета в его фактичности на отношения и обращает внимание на синхронность перемен, совершающихся в точных науках и в рефлексии над языком. Лингвист признает симптоматичным, что «Курс общей лингвистики» вышел в свет впервые в том же году, что и «Основы общей теории относительности» Эйнштейна [Jakobson 1989, 59].
Использование основных понятий де Соссюра быстро стало считаться буквально обязанностью дорожащего своей репутацией лингвиста, и вскоре после этого цитирование «Курса», с ростом научного престижа лингвистики, сделалось модным среди гуманитариев, согласно принципу «нельзя не знать де Соссюра» [Skubaczewska-Pniewska 2013, 7-15]. Апогей этих тенденций связан с французским структурализмом, поднявшим лингвистику де Соссюра до уровня академической ортодоксии и упрочившим позицию «Курса» как обязательного источника цитат. В шестидесятые и семидесятые годы можно было без проблем дискредитировать исследователя обвинением, что он не знает или не понимает де Соссюра [Harris 2001, 189-213]. Структуралистская методология оказалась настолько всесторонней и гибкой, что без нее трудно обойтись даже авторам, заявляющим приверженность к другим направлениям, а в литературных исследованиях она воспринималась почти как синоним добросовестного анализа. Отношение к теории языка, содержащейся в «Курсе», стало инструментом классификации и мерилом ценности [Firth 1957, 179].
Тем более важным является вопрос, сколько общего имеет эта теория с действительными взглядами ее номинального автора. Номинального, поскольку известно, что основанием для издания книги, через три года после смерти де Соссюра, были конспекты слушателей университетских лекций по общему языкознанию, которые он вел в Женеве с 1907 по 1911 гг. Парадоксально, что эти лекции читались для горстки слушателей, а сегодня они известны во всем мире, и их значение трудно переоценить. На первый курс записалось только пять человек (по другим источникам - шесть), на очередные два только немногим больше [Joseph 2012, 727]. Способ использования студенческих конспектов редакторами Шарлем Балли и Альбером Сеше до сегодняшнего дня вызывает разногласия среди исследователей: некоторые из них преклоняются перед редакторами, благодаря их за спасение гениальной концепции от забвения, а другие обвиняют в искажении взглядов преподавателя и попытках заблокировать доступ к архивным материалам, позволяющим установить достоверность редакционных решений. Достаточно сказать, что об авторе «Курса» иногда пишут «Псевдо-Соссюр» (Pseudo-Saussure) [Bouquet 2010, 31-48], о редакторах же - как об авторах-издателях (author-editors) [Engler 2004, 6]. Трудно однозначно оценить, действительно ли Балли и Сеше опасались сравнения изданной их усилиями работы с рукописями преподавателя и конспектами его учеников или просто были убеждены, что им удалось извлечь из доступных источников эссенцию мысли мастера. Факт, что при жизни редакторов не издавались тексты, на основании которых был составлен посмертный труд де Соссюра, несмотря на то, что большинство материалов хранилось в библиотеке в Женеве, где оба редактора преподавали.
Обнародование этих отрывочных конспектов осуществлялось в течение нескольких лет в атмосфере скандала в связи с интерпретационными злоупотреблениями и явными ошибками первых издателей. Приведем только один пример. На основании последнего предложения «Курса», в котором была сформулирована «основная мысль» (I’idee fondamentale) этой книги: «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [Соссюр 1998, 305], преемники де Соссюра в своих исследованиях предпочитали структурные системные сообщения (langue) их актуализации в отдельных высказываниях (paroles). Не случайно Слюсарева упоминает о «эпохальной роли» [Соссюр 2000,212] заключительной фразы «Курса» для лингвистики (добавим, также и для литературоведения, антропологии и т.д.). Теория, изложенная в «Курсе» с ее «догмой бинарности» [Есо 2009, 118], функционировала как надежный инструмент, при помощи которого можно было систематизировать почти все, начиная с языка, через литературу и искусство, ритуалы и мифы, кулинарные обычаи, моду и идеологию, и заканчивая структурой родства. В анализируемых текстах культуры, по образцу фонем, выделяли «культуремы» и элементарные единицы свойственного им языка, например, «мифемы», «графемы», «театрофемы», «идеологоемы» «биографемы», «вкусофемы». Между тем, манускрипты не оставляют сомнений, что автором конечной фразы «Курса» не является де Соссюр [Godel 1957, 180-181]. В настоящее время, особенно имея в своем распоряжении двухтомное «Критическое издание», подготовленное Рудольфом Энглером в
1968 г. [Saussure 1968-1974], читатель может составить свое собственное мнение о работе, выполненной Балли и Сеше. Очень полезными оказываются редакторские решения, которые применил издатель. Энглер разделил текст 1916 г. на почти три тысячи фрагментов, с которыми соотнес соответствующие этим отрывкам конспекты слушателей лекций де Соссюра по общему языкознанию, а также его собственные записи. Этот материал он разместил в шести колонках; в первой колонке находятся фрагменты «Курса», в четырех последующих - соответствующие им конспекты, составленные студентами, а в последней - слова, записанные самим де Сос-сюром и найденные в архивах. (Ценным является также издание с комментариями Тулья Де Мауро, а также отдельные двуязычные (на английском и французском языках) публикации материалов курсов в разработке Эйсуке Комацу, равно как издание рукописей, доступ к которым был открыт семьей де Соссюра в 1996 г, не говоря уже о многочисленных комментариях к ним выдающихся лингвистов. В рамках этой статьи невозможно, к сожалению, перечислить все важные публикации).
Решимость, с которой Балли и Сеше сумели преобразовать хаотичные и временами неясные материалы в понятный учебник, с одной стороны, вызывает восхищение, а с другой - сопротивление. Например, С. Буке упрекает Балли и Сеше в том, что они подвергли де Соссюра своеобразной цензуре, очистили редактируемую книгу от информации на тему проектируемой де Соссюром лингвистики речи (linguistique de la parole) [Bouquet 2004, 210], т.е. де-факто дискурса. Тем не менее, мы можем догадаться, что редакторы хотели показать новаторство взглядов де Соссюра, поэтому они экспонировали элементы, касающиеся языка как системы, а значит того, что скоро стало опознавательным знаком структурализма. Таким образом, они построили когерентную систему, что требовало принятия многих трудных решений, как стилистических, так и касающихся сущности излагаемых вопросов.
Во французской лингвистике существует тенденция отождествлять этот упрощенный, но авторитетно навязанный читателю свод правил и дефиниций, являющийся основой структуральной парадигмы, с термином le saussurisme, причем «-изм» имеет здесь обесценивающий характер. Как кажется, лучшим российским аналогом этого термина будет «соссюриан-ство». Важно подчеркнуть противоположность идей соссюрианства и реальных взглядов Соссюра (например, С. Мартин дал отрывку из своей статьи подзаголовок «Saussure centre le saussurisme» [Bedouret, Prignitz (eds.) 2012, 134-135]). Ф. Растье, один из известнейших современных соссюро-логов, подчеркивает, что «Курс общей лингвистики» сыграл роль «вульгаты соссюрианства» (vulgate du saussurisme) [Rastier 2009].
Фактически, в тексте «Курса» нет и следа колебаний и сомнений, которые многократно сопровождали лингвиста. Не случайно он являлся одним из наименее «плодовитых» ученых своего поколения (при жизни, кроме немногих статей, швейцарский лингвист опубликовал только одну небольшую авторскую книгу: Memoire sur le systeme primitif des voyelles dans les langues indo-europeennes. Leipzig, 1879). Биографы де Соссюра, К. Мехиа Куихано и Дж. Джозеф [Mejia Quijano 2011], [Joseph 2012] рисуют портрет человека, который наверняка не написал бы книги, похожей на «Курс». С одной стороны, де Соссюр был убежден, что изучение существа языка чрезвычайно трудно, может, даже невозможно, и уж наверняка нельзя осуществить синтез этого феномена, сводя его к одному принципу. С другой, он был человеком, стремящимся к совершенству, и не обнародовал мысли, в правильности которых не был убежден. Чем старше он становился, тем более высокие стандарты устанавливал для самого себя и был не в состоянии справиться с собственными требованиями.
Понятие «теория языка де Соссюра» не так уж однозначно. В течение нескольких десятилетий оно функционировало в соответствии с концепцией, изложенной в «Курсе общей лингвистики». Начиная с конца 50-х гг. (после публикации Годела) этой теории начали противопоставлять ее менее радикальные версии, реконструируемые на основании постепенно выявляемых архивных материалов. Переломным моментом в восприятии идей женевца (особенно в литературоведении), именуемым даже «второй революцией де Соссюра» [Aron 1970], оказалась публикация Ж. Старобин-ского 1971 г. «Слова под словами: Анаграммы Фердинанда де Соссюра» (причем название книги «Слова под словами» [Starobinski 1971] ассоциируется с палимпсестом, словом-ключом, согласно концепции Ж. Женетта. Впрочем, одна из самых ранних публикаций Старобинского об анаграммах имела еще более «интертекстуальное» название - «Текст в тексте» [Starobinski 1969]). Эта книга показала совершенно новый облик лингвиста, с навязчивым упорством занимающегося изучением сатурнийской, ведийской и неолатинской поэзии. Он был увлечен поиском имен, или так называемых слов-тем (mot-theme), скрытых в звучащем слое текстов. Элементы, которые составляют своеобразно понимаемую анаграмму, разбросаны по всему стихотворению и создают разнородные фонетические повторения. В зависимости от вида этих повторений и их расположения в текстах лингвист выделял также силлабограммы (syllabogramme), гипограммы (hypogrammes), логограммы (logogrammes), криптограммы (cryptogrammes) и параграммы (paragrammes). Этот последний термин переняла от де Соссюра Ю. Кристева, автор концепции «семиологии параграмм» (одну из глав своей книги Кристева назвала «Pour une semiologie des paragrammes» [Kristeva 1969, 113-146]).
Уже сам объем записей де Соссюра об анаграммах подстегивает воображение исследователей, потому что их значительно больше, чем записей по общему языкознанию. Эти последние поместились в нескольких тетрадях, но сумели революционизировать гуманитарные науки. Нет ничего удивительного в том, что обнаружение свыше ста сорока тетрадей, посвященных проблемам поэтики, стало причиной второй революции. Однако, прежде всего, эти записи приводят к такому пониманию языка, которое невозможно согласовать с «Курсом». Короче говоря, книга 1916 г. соотносится с исследованиями высокой научной точности, а «анаграммы» дают антитеоретические выводы. Отсюда рассуждения о «двойственности де Соссюра» (la dualite saussurienne) [Calvet 1975,46] или концепт, провозглашающий существование «двух де Соссюров», где один репрессирует другого. Лозунг «Les deux Saussueres» был лейтмотивом конференции в университете Колумбия (Columbia University') и затем специального номера журнала «Recherches Semiotexte» 1974 г. Популярное в то время шутливое определение «Ferdinand deux Saussure» должно было создать образ охваченного безумием исследователя, который днем настаивал на линеарности языкового знака, а ночью тайно занимался изучением знаков, приведенных в порядок нелинейно. Был опубликован даже текст под характерным названием «Безумие де Соссюра» [Deguy 1969]: «...как бы немного сумасбродный профессор из Женевы и вместе с тем значительный реформатор мышления, впрочем, не только в области лингвистики, исследовал свои анаграммы в большой тайне, как глубоко законспирированный сотрудник какого-нибудь тайного (единоличного) отдела контрразведки, работающей для империи, которую можно назвать “Литература”» [Panas 2005, 46].
Таким образом, можно сказать, что существуют, по крайней мере, четыре предполагаемые «теории де Соссюра»: первая соответствует «Курсу общей лингвистики», вторая - женевским лекциям по общему языкознанию, третью можно реконструировать на основании не изданных при жизни лингвиста рукописей (прежде всего тех, которые составляют книгу «Заметки по общей лингвистике»), за исключением записок об анаграммах, которые являются четвертой теорией.
Несмотря на то, что последовательно открываемые рукописи представляют де Соссюра, теоретика и историка языка, в совсем ином свете, чем «Курс», ни источники, распространенные Геделом или Старобинским, ни прочие материалы, разработки и комментарии не уменьшили значения книги, отредактированной Балли и Сеше и изданной под фамилией де Соссюра более ста лет тому назад. «Значение Курса в становлении гуманитарной мысли трудно переоценить как в плане принятия идей этой книги, так и в плане их отрицания» [Постовалова 2017, 51]. Даже при очень критическом подходе к работе редакторов, скрывших от мира настоящего де Соссюра на несколько десятилетий, трудно возразить, что главным образом благодаря этим ученым произошла «методологическая экстраполяция соссюризма» («1’extrapolation methodologique du saussurisme») [Greimas 1956], а фамилия де Соссюра появляется в ряду крупнейших мыслителей истории:
«В “Курсе общей лингвистики” торжество первооткрывателя преобразуется в мощное энергетическое воздействие - интеллектуальное, эмоциональное, эстетическое. Это воздействие сохраняется по сей день, оно проходит сквозь время и движется поверх сменяющих друг друга на протяжении столетия научных направлений. Новые теоретические концепции способствуют удержанию и продвижению во времени учения Соссюра, заново осмысляя и переосмысляя его. Семиология, языковой знак, язык и мышление, язык и речь, язык и время - не вызывает сомнения актуальность этих проблем в языкознании и в смежных гуманитарных науках XX-XXI вв.» [Ревзина 2017, 91].
Концепция языка, известная по «Курсу», сыграла в литературоведении XX столетия роль «ключевой традиции» [Skubaczewska-Pniewska 2005]. Это понятие ввел польский структуралист Я. Славиньский в книге «Концепция поэтического языка краковского авангарда». Ключевую традицию создают нормы, представляющие собой в данное время необходимое отношение для каких-либо новых начинаний. Речь идет об облигаторном сопоставлении с ключевой традицией, необходимость составить свое мнение ней, высказаться «за» или «против» [Slawinski 1965, 188], [Slawinski 1974,28].
«За» высказались, конечно, все структуралисты и семиотики, в том числе и Славиньский. Об этом свидетельствует сама его концепция «ключевой традиции» и, шире, структуралистская концепция литературной традиции. Традиция в понимании Славиньского - это langue литературы. Как отдельные высказывания (paroles) являются, согласно де Соссюру актуализацией системных правил по осям, ассоциативной и синтагматической (выбор и комбинация в терминологии Якобсона), так и литературное произведение, согласно Славиньскому, представляет собой результат осуществленных в творческом процессе актов выбора определенных норм и конвенций из «словаря» традиций и их оригинальной комбинации в новом художественном произведении.
Частично «за» и частично «против» высказались постструктуристы, особенно деконструктивисты, которые усваивали соссюрианство (или, скорее, постсоссюрианство (немного в другом смысле термин (post) saussurisme появляется в статье К. Tatsukawa [Tatsukawa 1989]) в версии, популяризированной в книге «О грамматологии» Жака Деррида [Skubaczewska-Pniewska 2013, 134-153].
Решительно против «Курса» высказался, например, Пьер Бурдье, создатель теории «литературного поля» и известного понятия «символическое насилие». Для французского социолога лингвистика де Соссюра - это исключительно отрицательный, но очень четкий и важный критерий сопоставления. Критические высказывания Бурдье в адрес структурализма являются одновременно подтверждением культурной ценности этого направления, а тем самым значения «Курса» [Thompson 1991, 4, 10]. Впрочем, в очень популярных сегодня Cultural Studies, одним из основных защитников и законодателей которых является именно Бурдье, легко узнать многие мотивы, начало которым дали наследники де Соссюра, особенно семиотики-структуралисты, представители московско-тартуской семиотической школы.
Семиотика, лапидарно запроектированная в «Курсе общей лингвистики» и динамично развивающаяся до сегодняшнего дня, обратила внимание на знаковый и текстовый облик культуры и показала, что многие из явлений, считающихся естественными и очевидными, это на самом деле
«культурные факты». Более поздние теории как бы открывают этот факт заново. Это касается самых важных направлений, существующих в гуманитарной рефлексии последних лет. Понимание культуры как системы семиотических практик аналогично литературным произведениям (новый историзм), пространства стирания картин мира, детерминируемых по общественному или половому признаку (культурный феминизм), или конкурирующих между собой языков, группирующих вокруг себя интерпретационные общности (Стенли Фиш), подтверждают актуальность наиболее важных положений семиотики, которые для Умберто Эко являлись синонимом теории культуры [Есо 2009, 28].
В связи с двумя круглыми годовщинами, которые отмечались в 2013 и 2016 гг, наблюдается очередная волна усиленного интереса к достижениям и личности Фердинанда де Соссюра. Как столетие смерти ученого, так и сотая годовщина выпуска самого известного в истории лингвистики компендиума, каким, несомненно, является «Курс», были отмечены проведением научных конференций, проходивших почти во всем мире, и многочисленными публикациями, в которых содержится реинтерпретация достижений языковеда из Женевы, а также подведение итогов существующего до настоящего времени восприятия его идей.
В современных дискуссиях, сосредоточенных вокруг вопроса о настоящем де Соссюре, особенно отмечается «последнее наследство де Соссюра», те. очерки, из которых складываются «Заметки по общей лингвистике», и в особенности - эссе «О двойственной сущности языковой деятельности». Как утверждают знатоки, чтобы полностью оценить содержание этих материалов, надо совершить настоящую «филологическую революцию» (ипе revolution philologique) [Depecker 2012] или - как предпочитает ее называть А.-Г. Тутен (Anne-Gaelle Toutain) - «концептуальную революцию» (la revolution conceptuelle) [Toutain 2016, 203]. Это была бы уже третья революция де Соссюра [Skubaczewska-Pniewska 2017]. Исследователи убеждают, что только полная переоценка существующей до сих пор «соссюрологии» и, прежде всего, отвержение гегемонии «Курса», дает нам наконец-то шанс узнать настоящего Соссюра.
Борьба, которую ведут с соссюрианством последователи аутентичного де Соссюра, напоминает крестовый поход. «Можно почувствовать почти религиозное усердие, с которым новое поколение исследователей пытается опровергнуть документ, являющийся основой соссюрианства как апокрифический (apocryphal) и реконструировать настоящую истину и настоящий дух науки де Соссюра» [Gasparov 2013, 6]. Б. Гаспаров воспринимает эти исследования как что-то вроде «соссюровской христологии» (Saussurean Christology) [Gasparov 2013, 7].
Что интересно, религиозная риторика не чужда также и защитникам соссюрианства. По их мнению, рукописи, с которыми представители настоящего де Соссюра связывают надежду на раскрытие подлинной мысли своего мастера, имеют паразитический характер по отношению к «Курсу», без которого они не были бы ни важны, ни интересны для лингвистики.

Ю. Трабант в статье под характерным названием «Нужно ли защищать Соссюра от его поклонников?» признает, что женевец был личностью масштаба Иисуса или Гомера, но в том смысле, что его создали тексты, составленные другими. Автор придерживается мнения, что восхваление настоящего де Соссюра и его отдельных заметок вредит имиджу лингвиста, а также подрывает научную ценность одного из самых важных научных текстов XX в., после чего подводит итог: «что касается Евангелия, мы находимся в счастливом положении, потому что мы не нашли постфактум написанных от руки заметок, сделанных рукой Иисуса» [Trabant, 114-116].
Последние работы о наследии де Соссюра, основанные на наборе текстов, установленном согласно критериям подлинности, переворачивают существующую до сих пор иерархию источников и уже дали начало так называемому «неососсюрианству»: «Термин неососсюрианство (neo-saussurisme), таким образом, не относится к единой парадигме. Я использую его здесь в очень широком смысле, чтобы указать на проблематику становления чтения рукописей осью открытия де Сосюра, в смысле раскрытия “второго Сосюра”, который будет полностью отличаться от того, из “Курса общей лингвистики”, который якобы ввел в заблуждение несколько поколений соссюрологов» [Toutain 2016, 203].
Была даже разработана специальная исследовательская программа (ип programme neo-saussurien) [Bouquet 2016, 264-268]. Время покажет, будет ли она вдохновлять литературоведов; но на данном этапе исследований лингвистов можно вывести один важный вывод.
Вопреки распространенному в соссюрианстве убеждению, что диадический знак генерирует чистый симулякр без какой-либо возможности обратиться к референту, знак как единство signifiant и signifie не закрывает языковых структур в границах дискурса и не отсекает их от внешних зависимостей. Как доказывает М. Данелевич в книге «Достичь предмета», существуют предпосылки «расширения» диадической концепции знака на отношения текст / действительность. Исследовательница, согласно принципу дуализма, подчинила основной паре понятий с уровня langue, т.е. signifiant / signifie, отвечающую ей бинарную оппозицию на уровне parole. Эту оппозицию создают, с одной стороны, звук или буква как фоническая или графическая реализация акустической картины, с другой - референт. Возникший таким образом «семиотический четырехугольник» является альтернативой для семиотического треугольника Огдена и Ричардса. Понятие произвольности знака, обычно интерпретируемое в духе антирефе-ренциализма, по Данелевич, как раз наоборот - открывает язык, а затем и литературу, во внешний мир [Danielewiczowa 2016, 41]. И, следовательно, открывается перспектива неососсюрианства в литературоведении.
Список литературы Перспектива неососсюрианства. Литературоведение по отношению к мысли (настоящего) Де Соссюра
- Постовалова В.И. Фердинанд де Соссюр и его значение в становлении лингвофилософской мысли ХХ-ХХI веков // Критика и семиотика. 2017. № 1. С. 25-68.
- Ревзина О.Г. Перечитывая Соссюра // Критика и семиотика. 2017. № 1. С. 90-108.
- Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. 2-е изд. М., 2000.
- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1998.
- Aron T. Une seconde revolution saussurienne // Langue frangaise. 1970. № 7. Р. 56-62.
- Bouquet S. Du Pseudo-Saussure aux textes saussuriens originaux // Le projet de Ferdinand de Saussure. Geneve, 2010. Р. 31-48.
- Bouquet S. Saussure's Unfinished Semantics // The Cambridge Companion to Saussure. Cambridge, 2004. Р. 205-218.
- Bouquet S. Ontologie et epistemologie de la linguistique dans les textes originaux de Ferdinand de Saussure // Entornos. 2016. Vol. 29, № 2. Р. 257-268.
- Bourdieu P. Language and symbolic power. Cambridge, 1991.
- Calvet L.-J. Pour et contre Saussure: vers une linguistique sociale. Paris, 1975.
- Danielewiczowa M. Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze. Warszawa, 2016
- Deguy M. La folie de Saussure // Critique. 1969. № 260. Р. 20-26.
- Depecker L. Les manuscrits de Saussure: une revolution philologique // Langages. 2012. № 185. Р. 3-6.
- Eagleton T. Koniec teorii. Warszawa, 2012.
- Eco U. Teoria semiotyki. Krakow, 2009
- Engler R. The Making of the "Cours de linguistique generale" // The Cambridge Companion to Saussure. Cambridge, 2004. Р. 47-58.
- En quoi Saussure peut-il nous aider a penser la litterature? / S. Bedouret, G. Prignitz (dir.). Pau, 2012.
- Firth J.R. Papers in Linguistics 1934-1951. London, 1957.
- Gasparov B. Beyond Pure Reason: Ferdinand de Saussure’s Philosophy of Language and Its Early Romantic Antecedents. New York, 2013.
- Godel R. Les sources manuscriptes du „Cours de linguistique generale" de F. de Saussure. Geneve, 1957.
- Greimas A.-J. L'actualite du saussurisme // Le frangais modern. 1956. № 24. Р. 191-203.
- Harris R. Saussure and his Interpreters. New York, 2001.
- Harris R., Taylor TJ. Landmarks in linguistic thought: the western tradition from Socrates to Saussure. London, 1994.
- Holdcroft D. Saussure. Signs, System and Arbitrariness, Cambridge, 1991.
- Jakobson R. W poszukiwaniu istoty języka. W 2 t. T. 2. Warszawa, 1989
- Joseph J.E. Saussure. Oxford, 2012.
- Kristeva J. Semeiotike. Recherches pour une semanalyse. Paris, 1969.
- Mejía Quijano C. Le cours d’une vie: portrait diachronique de Ferdinand de Saussure: in 2 vols. Nantes, 2011
- Panas W. Tajemnica siodmego aniola. Cztery interpretacje. Lublin, 2005.
- Rastier F. Saussure et les textes // Texto! Textes et cultures. 2009. Vol. 14, No 3. URL: http://www.revue-texto.net/index.php?id=2420 (accessed 15.03.2019).
- Saussure F. de. Cours de linguistique Generale: in 2 vols. Wiesbaden, 19681974.
- Skubaczewska-Pniewska A. "W języku istnieją tylko różnice bez składników pozytywnych". Saussure'owska teoria języka jako "tradycja kluczowa" w dwudzi-estowiecznej refleksji teoretycznoliterackiej // Więzy tradycji. Bielsko-Biała, 2005. S. 51-70
- Skubaczewska-Pniewska A. W więzieniu systemu. Ferdinand de Saussure a teoria literatury. Toruń, 2013.
- Skubaczewska-Pniewska A. "Mimesis" czy "semiosis", czyli o potrzebie trzeciej rewolucji saussure'owskiej // Kurs na Ferdinanda de Saussure'a. Poznan, 2017. S. 83-100.
- Sławiński J. Dzieło. Język. Tradycja. Warszawa, 1974.
- Sławiński J. Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej. Wrocław, 1965.
- Starobinski J. Les mots sous les mots: Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Paris, 1971.
- Starobinski J. Le texte dans le texte // Tel Quel. 1969. № 39. P. 3-33.
- Tatsukawa K. Du sens. Le (post-)saussurisme et son autre // Histoire Epistemologie Langage. 1989. Vol. 11, № 2. P. 91-102.
- Toutain A.-G. Le Cours de linguistique generale et l'histoire du saussurisme // Entornos. 2016. Vol. 29, № 2. S. 185-208.
- Thompson J.B. Editor's Introduction // Bourdieu P. Language and symbolic power. Cambridge, 1991. P. 1-31.
- Trabant J. Faut-il defendre Saussure contre ses amateurs? Notes item sur l'etymologie saussurienne // Langages. 2005. № 159. P. 111-124.