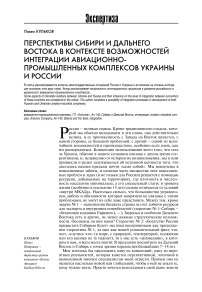Перспективы Сибири и Дальнего Востока в контексте возможностей интеграции авиационно-промышленных комплексов Украины и России
Автор: Кульков Павел Петрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются аспекты межгосударственных отношений России и Украины и их влияние на степень интеграции экономик этих двух стран. Автор рассматривает возможность интеграционных процессов в развитии российского и украинского авиационно-промышленных комплексов.
Авиационно-промышленный комплекс, гп "антонов", ан-140, сибирь и дальний восток, интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170166849
IDR: 170166849
Текст научной статьи Перспективы Сибири и Дальнего Востока в контексте возможностей интеграции авиационно-промышленных комплексов Украины и России
Р оссия – великая страна. Кроме традиционного смысла, который мы обычно вкладываем в эти слова, она действительно велика, и ее протяженность с Запада на Восток является, с одной стороны, ее большой проблемой, с другой – одной из величайших возможностей и преимуществом, особенно если знать, как им распорядиться. Концепция использования всего того, что есть за Уралом, обычно в нашем сознании связана с двумя-тремя стереотипами, и, независимо от истории их возникновения, мы к ним привыкли и редко задумываемся об истинной ценности того, что досталось нашим предкам почти «само собой». Мы вовлечены в повседневные заботы, и немалая часть множества этих повседневных проблем и задач (и не только для России) решается с помощью ресурсов, добываемых на территориях, где плотность и численность населения минимальна, а его социальный статус и уровень жизни (особенно в последние 15 лет) сильно отличается от условий «внутри МКАДа». Настолько сильно, что большинство управленцев, работа и обязанности которых напрямую не связаны с этими проблемами, не могут их себе даже представить. Между тем, кроме задачи № 1 – наполнения бюджета страны за счет добычи ресурсов для экспорта и внутренних потребностей (стереотип № 1: Сибирь – «бездонная кладовка Евразии»), – у Зауралья и особенно Дальнего Востока есть и другие, не менее важные стратегические возможности. Осознаны ли они нами? Стереотип № 2: «Богатство России прирастать Сибирью будет» мы пока воспринимаем как продолжение стереотипа № 1, да еще как некий успокоительный факт, что, мол, «случись что» (в мире, с природой, температурой, полюсами или кто кнопку не ту нажмет), то у нас есть «заповедник», в котором и нам, и всем места хватит. Я предлагаю посмотреть на Дальний Восток и Сибирь с точки зрения перспектив ближайших 7–14 лет.
Мне хотелось бы предложить одну из концепций, одну из вероятных реальностей, которая кажется перспективной, логичной и выполнимой многим специалистам моей отрасли. Причем она не является настолько новой или глобальной, чтобы о ней не знали те, кому нужно знать. Просто хочется использовать свой шанс внести вклад, пусть и скромный, в необходимые России осознание и изменения, а отраслевой опыт и имеющиеся заделы могут быть полезными, как полезен собранный лоскут пазла для того, кто хочет побыстрее собрать из кусочков всю картину...
Что является целью для многих государственных и частных корпораций, работающих в Сибири и на Дальнем Востоке? В основном это природные ресурсы – минеральные, лесные, рыбные и т.д. Даже их часть, добываемая на относительно небольшой части освоенной территории, делает Россию одной из самых богатых стран мира. Население, проживающее на этой территории, из-за суровых климатических условий и отдаленности практически является «сборной солянкой» из переселенцев, за 70–80 лет сформировавших местный этнос. «Малочисленные местные народы» являются во многих регионах действительно малочисленными (кроме Якутии, Бурятии, Тувы и некоторых других регионов) и не могут восполнить необходимые обществу ресурсы для развития. В советское время существовала программа преференций, мотивировавшая региональную миграцию, да и экономика позволяла людям без особых проблем переезжать. Сейчас же зачастую эти люди стали заложниками из-за невозможности куда-либо уехать в связи с отсутствием средств и адекватных перспектив. Немалую роль в этом играет набившая оскомину «региональная транспортная доступность», вернее, ее отсутствие. При общей тенденции к урбанизации и сокращению населения, в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке это может стать в какой-то момент препятствием для развития масштабных и перспективных региональных проектов, которые нужны в т.ч. и для того, чтобы наполнять местные бюджеты, уменьшая дотационность депрессивных регионов, и облегчить нагрузку на доноров. Таким дефицитом обязательно воспользуются соседи, у которых как раз обратная проблема – чем занять свои избыточные трудовые ресурсы. Многие строительные компании в Китае стройматериалы на этажи небоскребов и сейчас доставляют вручную, потому что «грузчикам тоже надо кормить свои семьи и чем-то надо занимать неквалифицированную рабочую силу». В европейской части России тоже есть вопросы с безработицей, и часть населения использует возможность жить в комфортной географической зоне, а работать и зарабатывать – в «не очень комфортной», т.е. работает вахтовым методом. В советское время так жили и работали многие регионы, например Белгородская и Харьковская обл., Краснодарский край и даже целые республики, например кавказские, откуда сезонная миграция мужского населения имела массовый характер. Этот метод облегчает также и возможность удержать в отдаленном регионе высококвалифицированные кадры, особенно управленцев среднего и верхнего звена, которые первыми уезжают «в центр» по достижении определенного уровня квалификации, статуса и запросов. Фактически и сейчас топ-менеджмент и собственники многих компаний за Уралом живут и работают в Москве, а активами управляют дистанционно, «вахтовым методом». Кстати, что позволило Москве в постперестроечное тяжелое время очень быстро стать «новым Вавилоном»? Ответ очевиден: еще с советских времен Москва, как столица, централизовала и замкнула на себя самые главные ресурсы: кадры, управление, финансы, координацию и распределение всех потоков (торговых, транспортных и т.д.). Ненамного изменилась эта специфика и сейчас – теперь из независимых государств СНГ и даже из дальнего зарубежья топ-менеджмент перебирается в столицу, мотивируясь безразмерными масштабами российского рынка и соответствующими возможностями, на фоне которых местные границы для развивающегося и амбициозного человека уже тесны.
Так что мешает совместить «необходимое с возможным» в контексте всего вышесказанного?
Вот именно та пресловутая «региональная транспортная доступность»! С одной стороны, московский аэроузел уже задыхается от перегруженности стыковочных рейсов типа «Омск – Новосибирск» через Москву, с другой стороны, из-за нехватки рейсов и поступлений от них закрылись или находятся в плачевном состоянии 70% местных аэропортов. Усугубляют этот процесс проблемы с пополнением парка самолетов, особенно регионального, платежеспособностью местного населения и отсутствием у местных бюджетов возможности или желания через дотации влиять на сохранение транспортной логистики. А ценим ли мы те возможности, которые появляются у региона, когда к нему обеспечен свободный доступ людей, грузов, инвесторов (а это, прежде всего, люди) и инвестиций? Что происходит, когда очередная компания переносит головной офис, ключевую команду и управленческие функции «с периферии» в Москву, оставляя на местах просто производственные площадки, «прорабов» и «супервайзеров»? За ключевой командой уходят финансовые потоки, налоги, перспективы и возможности. И наоборот, когда у бизнесмена или предпринимателя есть возможность прилететь из города, где он живет, в регион с потенциальными возможностями, то вместе с ним прилетает и его интерес, активность, компетенции, ресурсы, команды, грузы и т.д. И все это не может быть сосредоточено только в 8–10 городах-«хабах», куда летают самолеты московских авиакомпаний. Все это уже было, работало и давало соответствующие результаты стране и людям в 70-х и 80-х гг.
Для того чтобы понять истинную цену чего-нибудь, это надо потерять.
Проблема в том, что полный авиационный цикл, т.е. проектирование, серийное производство, поддержание летной годности и регулярная коммерческая эксплуатация авиационного транспорта, который у Советского Союза появился не так давно, в 1930-х гг., в случае его потери или дезинтеграции восстановить либо очень сложно, либо чрезвычайно дорого и долго. Лидерство в производстве пассажирских среднемагистральных и особенно дальнемагистральных самолетов мы потеряли давно и надолго. Это конкуренция не только и не столько разработчиков и производителей самолетов, сколько всего комплекса необходимых и влияющих на них условий в стране: наличия регулярного серийного производства самолетов, комплектующих, запчастей, технологий; поддержания пригодной аэродромной сети; организации эффективного управления отраслью и законодательного регулирования; финансирования и лизинга для перевозчиков; межгосударственного лоббирования интересов самолетостроителей и т.д.
Но так ли это критично для России при наличии возможностей глобального рынка? Я считаю, что нет. Конкурировать сейчас с Airbus и особенно с Boeing в этом сегменте – все равно что ввязаться в новую «гонку вооружений». В авиации циклы перехода на эксплуатацию нового типа самолета и стоимость этих процедур таковы, что наши перевозчики еще очень долго будут возить пассажиров между «хабами» на «иномарках». В этом есть и рыночный, и коммерческий смысл. Но зачем мы отдаем лидерство в тех сегментах, где нам не было и нет равных и которые в наибольшей степени влияют на перспективы развития регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока, где сосредоточены все необходимые ресурсы для будущего России? Я имею в виду производство и эксплуатацию региональных пассажирских и грузовых рамповых самолетов всех классов (легких, средних, тяжелых, самых тяжелых и самых дальних). Если внимательно оглянуться, то мы увидим, что мощности, потерянные после распада Союза и оставшиеся за границей, создавались в свое время для удовлетворения рынка всего Союза, они не нужны нынешним государствам-владельцам в том виде, в котором они им достались. Поэтому они либо сокращаются, либо интегрируются в рынок, для которого создавались. Никто из стран содружества, включая и Россию, не в состоянии сейчас заново создать полный цикл авиапромышленного комплекса с потенциалом лидерства на глобальном мировом рынке, это возможно было только за счет ресурсов всего СССР и их целевого перераспределения.
Так зачем мы теряем то, что нам самим очень нужно? Только для того, чтобы осознать ценность и потом проявлять творческий и производственный героизм? Пассажиров можно возить и на «иномарках», и даже не только между «хабами», есть для этого и французский АТR, и канадский Bombardier, и китайская копия Ан-24 – МА-60. Вопрос в том, что когда мы пересадим на них большинство региональных перевозчиков, подкосив окончательно перспективы серийного производства собственных региональных самолетов, тогда мы и узнаем истинную цену, стоимость обслуживания и способность импортной техники летать на грунтовые и неподготовленные аэродромы при сибирских морозах. Выпуск SSJ эту проблему не решает: во-первых, самой дешевой в эксплуатации и функциональной для Севера является все-таки турбовинтовая техника (это подтверждает опыт Канады и Аляски), а во-вторых, мощностей ОАК, и так загру- женных военными заказами, вряд ли хватит для действительно массовой серии SSJ, даже если на нее будет такой спрос. С грузовыми самолетами еще хуже – потребности военных еще можно удовлетворить за счет «нового» и дорогого Ил-476, и то начиная с 2014 г., а вот удовлетворить потребности российских коммерческих грузоперевозчиков нечем. Ни Ан-124, который может возить грузы между грузовыми «хабами», ни выходящие из эксплуатации Ан-26 и Ан-12, которые могут обеспечить внутрирегиональный грузооборот от «хаба» к месту потребления груза, отечественной замены не имеют. Сейчас, при отсутствии серийного производства, системы поддержания летной годности и лизингового финансирования для перевозчиков, региональные российские самолеты, естественно, не выдерживают конкуренции ни в чем, кроме их цены и функциональности, специально «заточенной» под суровые сибирские условия. Это давно понимают серьезные западные авиапроизводители, они же и тратят немало денег на лоббирование и искусственное поддержание такой ситуации. Так что остается? Просто отдать огромный российский рынок, который вместе с продажами самолетов, их обслуживанием и эксплуатацией косвенно будет контролироваться иностранными корпорациями? Тогда мы его потеряем лет на 20–30, а может быть, и навсегда. И это только рыночный аргумент. А как быть с геополитикой, ведь нельзя допустить зависимость своих стратегических и военных грузопотоков внутри страны от иностранных корпораций? Игроков, от которых зависит большинство принятых решений и сценариев развития мира, на сегодня всего три: Россия, Китай и США. И два из них масштабно соседствуют именно по границам самого богатого ресурсами и перспективного региона мира – Сибири и Дальнего Востока! До третьего через Берингов пролив – рукой подать, намного ближе, чем до Москвы. Так что наличие, численность и качество населения, проживающего в этой части России, имеет большое значение не только для самой России… И для подтверждения закономерности: «Свято место пусто не бывает» не всегда нужны экстремальные сценарии. Есть и другие – ползучие, незаметные, но не менее эффективные процессы.
Как говорят в Одессе, «если не можешь прекратить контрабанду, тогда ты должен ее возглавить». Предлагаю, наконец, 3-й стереотип, потенциальный: «Сибирь и Дальний Восток – регион добычи, переработки, экспорта и транзита ресурсов и готовой продукции на самые большие и богатые рынки потребления – в США и Китай». Нам ничего не мешает организовать по суше, воздуху и воде транзитный и экспортный грузооборот, тем более что Китай и Азия для США производят сейчас больше продукции, чем США для всего мира, а большая часть денег США опять же хранится и работает в Китае… США – самый большой рынок потребления готовой продукции, Китай – самое большое производство и потребитель ресурсов, а Дальний Восток России находится посередине между ними. Сейчас поток авиагрузов идет двумя основными путями – или вдоль территориальных вод России над Тихим океаном через Аляску, или через Москву, где в Шереметьево груз сортируется, комбинируется и летит дальше в США. В первом случае причина – экономия времени и затрат иностранных перевозчиков на получение разрешений на пролет территорий и отсутствие инфраструктуры необходимого качества; во втором случае Москва – это самая большая в России зона потребления и координатор транзита товарных потоков по всей стране. Но самый короткий прямой воздушный путь из Китая в США – через российский Дальний Восток с дозаправкой в Магадане, Петропавловске-Камчатском или Анадыре. При наличии достаточного потребления высокотехнологичной продукции или оборудования обратный поток грузов из США нужен будет самой Сибири и Дальнему Востоку, а в Китай на обратном пути можно везти соответствующие воздушной логистике по стоимости экспортные грузы. Да, это настолько масштабный проект, что потребует грандиозного строительства и модернизации инфраструктуры (УВД, запасные аэродромы, снабжение авиатопливом, радиотехническое обеспечение трасс, разрешительная система, логистические центры хранения и перевалки и т.д.), достаточного количества всех ресурсов, времени и целеустремленных усилий правительства, высококвалифицированных кадров, но разве всего этого в России сейчас нет?! Зато долгосрочная перспектива и этих регионов, и авиационной, строительной, ряда смежных отрас- лей, и экономика субъектов федерации и России в целом выиграет на много лет вперед.
Синергетический эффект от организации одного рабочего места в авиапроме – 1 к 10, это даже выше, чем в строительной отрасли – 1 к 8. Полноценная и долгосрочная загрузка этих двух отраслей позволит в 15–18 раз увеличить спрос на трудовые ресурсы разной квалификации, это повлечет за собой и развитие технологий, и социальный эффект для всех субъектов-участников, в т.ч. и отдаленных от театра «непосредственных трудовых действий».
Одним из самых важных ресурсов в реализации любых перспектив для Сибири и Дальнего Востока является наличие своей линейки выпускающихся серийно грузовых самолетов. Там, где есть работа для одного пассажирского самолета, автоматически появляется работа для трех грузовых такой же вместимости. Главным активом СССР и мировым лидером в этом сегменте было и пока остается украинское КБ «АНТК им. Антонова», ныне ставшее частью ГП «Антонов». В его линейке продуктов есть то, что сейчас так нужно России, – грузовые рамповые и региональные самолеты, как турбовинтовые, так и реактивные. Естественно, что созданные для потребностей всего Союза мощности украинских серийных авиазаводов сейчас работают в режиме «горячего резерва», а то уже и «холодного». Наиболее «боеспособные» и модернизированные из них – харьковское «ГАПП» и киевское ГП «Завод 410ГА» – на существующих мощностях и при наличии финансирования могут быстро наладить выпуск любой серии самолетов. В свое время ХГАПП выпускало по 4(!) Ту-134 в месяц, да еще кроме этого столько же крылатых ракет и всякой побочной продукции! Да и в России хватает серийных заводов, способных эффективно работать, например в Воронеже, Ульяновске и Самаре. Но самым ценным все же является само КБ, т.к. именно оно генерирует авторский продукт и является носителем авторских прав, производственных ценностей, сложившихся исторически традиций и технологий проектирования и запуска в производство всей линейки выпускаемых самолетов. В составе ГП «Антонов» есть и свой серийный завод «Авиант», хотя для КБ серийное производство не является «профильным» бизнесом, а скорее опытным производством. Таким образом, Украина сохранила потенциал лидерства «АНТК им. Антонова» в его главном сегменте – проектировании грузовых рамповых самолетов всех категорий. Сохранила в т.ч. благодаря совместной с российской группой «Волга-Днепр» эксплуатации имеющегося парка Ан-124 «Руслан». Имеют перспективы и нынешние разработки – Ан-70, Ан-140, Ан-148/158, хотя они, как я считаю, входят в конкурентный клинч с продукцией ОАК, и это обеспечивает им определенный стопор в проникновении на свой главный рынок, для которого они разрабатывались, – российский. Еще больше перспектив у грузовых и военнотранспортных версий Ан-140, да и у Ан-12 достойной замены нет, разве что его китайская копия Y-8/9, созданная опять же при участии специалистов «АНТК им. Антонова». Нынешняя потребность в таких самолетах, даже без учета вышеописанных проектов, измеряется сотнями, и необходимость их разработки с учетом имеющегося потенциала рынка авиационных грузоперевозок подтверждается основными перевозчиками, например группой «Волга-Днепр». Доставка грузов большими партиями в основные грузовые «хабы» должна иметь логическое продолжение в виде «разброски» по региону до склада потребителя, причем желательно без «распалетования» и «перепалетова-ния» груза, увеличивающих цену доставки. А это сегмент Ан-140Т и «нового» Ан-12.
Малое, бывшее частью большого и потерявшее с ним связь, всегда будет помнить о преимуществе быть большим. Самое интересное, что в качестве лидера мирового авиастроения ГП «Антонов» не нужен Украине. Такое лидерство слишком дорого обходится, собственный рынок слишком мал и не может предоставить необходимый потенциал для развития, а чужие рынки, в т.ч. и российский, уже достаточно «чужие», чтобы на них пускали бесплатно. По сути, главной ценностью для Украины является авиакомпания «Авиалинии Антонова», эксплуатирующая «Русланы» и приносящая основные доходы, преференции и имидж великой авиационной державы. За счет них и сохранилось, и работало над новыми проектами АНТК все эти годы. Но что будет, когда закончат летать «Русланы» «Авиалиний Антонова» конца 1980-х гг. выпуска? Что будет, когда уйдут на пенсию и «насовсем» старые опытные конструкторские кадры, которые и являются носителями всего самого ценного? Новых в достаточном количестве нет и вряд ли будет при нынешних экономических условиях – череде мировых кризисов и отсутствии регулярной и напряженной проектной работы. Готово ли население страны за счет бюджета поддерживать имидж авиационной державы и оплачивать его из своего налогового кармана? Это непростой вопрос для любого правительства, ведь сокращение госпредприятий тоже стоит дорого. И измеряется не только деньгами, но и голосами электората… Более того, вслед за ГП «Антонов» сокращение производства и персонала неизбежно и для многих серийных заводов, которые сами не найдут новую рыночную нишу. Все эти процессы уже знакомы России, т.к. нет уже, к сожалению, тех масштабов ни у КБ Туполева, ни у КБ Яковлева, ни у КБ Ильюшина…
На мой взгляд, выход очевиден. Его, как наилучший способ «сохранить и приумножить», обсуждают в авиационном сообществе 70% отраслевых специалистов, причем по обе стороны границы, разного возраста и даже политических взглядов. Если дезинтеграция не принесла пользы обеим странам, тогда, может, попробовать интеграцию? Не для политики, а всерьез, так, чтобы все-таки договориться. Созданное в 2011 г. СП ООО «ОАК-Антонов» серьезной роли не сыграет, пока не достигнуты договоренности на высшем уровне и не согласованы главные принципы такой интеграции.
Конечно, вопросы эти непросты, и их решение потребует взаимной политической воли, экономической заинтересованности, позитивности межгосударственных отношений и филигранного дипломатического мастерства, особенно учитывая ситуацию внутри Украины и отношение к интеграции с Россией части населения на западе Украины. Да и договариваться лидерам ведь приходится по многим взаимоувязанным направлениям – согласовывать сферы влияния, интересы, обязательства, финансы и прочая, прочая, прочая... Но ведь нет ничего невозможного, если найти этому адекватные цены… Ведь был у России интерес к активам AirBus, состоялся интерес частной екатеринбургской «УГМК» к чешскому производителю региональных Л-410, так почему бы не поучаствовать в самом привлекательном и перспективном для России авиационном активе – ГП «Антонов», – особенно учитывая разговоры о его корпоративизации и акционировании. Учитывая фактические потребности и стратегические интересы России, для создания авиационной финансовопромышленной группы самыми интересными частями являются, безусловно, КБ «АНТК им. Антонова» и серийный завод «ХГАПП». Решение вопроса о совместном владении, контроле, использовании и развитии этих предприятий решило бы многие наболевшие вопросы: и по авторским правам на совместно созданную и выпускающуюся серийно в России технику; и по реализации потенциала российского рынка; и по поддержанию летной годности самолетов на территории России; и по возможности влияния на процедуры по сопровождению эксплуатации военно-транспортного и специального парка самолетов МО РФ. У России есть большой рынок с колоссальными перспективами, платежеспособный и неудовлетворенный спрос на самолеты, перевозки и услуги, у украинского КБ «АНТК им. Антонова» есть продукты для этого рынка и удовлетворения спроса, и все это существовало взаимосвязанно на протяжении 45 лет. Кто-то же должен исправить несоответствие, вызванное этим искусственным разделением, и начать «собирать камни»!
Валерий ПОЛУБОЯРОВ, Дмитрий ЧЕРНАВИН, Дмитрий ВУЙЛОВ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ В УСЛОВИЯХ ШИРОКОМАСШТАБНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
В данной статье описывается опыт использования информационных технологий в рамках развития системы управления Волгоградским государственным университетом.
This article describes the experience of using information technologies for the development of the management system in the Volgograd State University.
ПОЛУБОЯРОВ Валерий
П роблема эффективности управления вузом в современных условиях приобретает особую актуальность с в связи с переходом на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), переходом на нормативно-подушевое финансирование, ростом требований к аккредитационным показателям, усилением контроля за деятельностью вузов со стороны Минобрнауки и др.
В соответствии с разработанными и реализуемыми в настоящее время концепциями и федеральными целевыми программами информатизации образования Российской Федерации, работы по использованию ИТ в Волгоградском государственном университете (ВолГУ) в настоящее время проводятся по следующим основным направлениям: 1) ИТ в учебном процессе; 2) ИТ в управлении образовательной деятельностью; 3) ИТ в управлении вузом1.
Основными игроками на современном рынке систем информатизации вузов являются крупные системные интеграторы Naumen с продуктом Naumen University и АйТи с продуктом «АйТи Университет», екатеринбургская компания Tandem с продуктом Tandem University и ставропольский партнер компании 1С – СГУ-Инфоком с продуктом «1С: Университет». Каждое из перечисленных решений представляет собой типовую систему, охватывающую ту или иную долю функционала, связанного с управлением учебным процессом, приемной кампанией, научной и договорной деятельностью, а также с подразделениями университета. Адаптация этих систем к специфике конкретного университета может осуществляться как силами разработчиков системы или системных интеграторов, так и самим вузом. Однако ни один из представленных на рынке продуктов не закрывает полностью весь спектр функций, требующихся от системы информационной поддержки вуза.
Главным компонентом комплексной системы управления учебным заведением является подсистема управления учебным про цессом – АР М «Деканат»2. Ее внедрение позволило осуществить