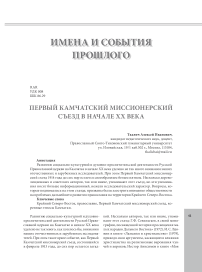Первый Камчатский миссионерский съезд в начале XX века
Автор: Ткалич Алексей Иванович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Имена и события прошлого
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Развитию социально-культурной и духовно-просветительской деятельности Русской Православной церкви на Камчатке в начале XX века уделено не так много внимания наших отечественных и зарубежных исследователей. При этом Первый Камчатский миссионер- ский съезд 1914 года до сих пор остается своеобразным белым пятном. Несколько дорево- люционных и советских авторов, так или иначе, упоминают этот съезд, но эти упомина- ния носят больше информационный, нежели исследовательский характер. Вопросы, ко- торые поднимались на этом съезде, призваны были заострить внимание общественности на проблемах дальнейшего развития православия на территории Крайнего Северо-Востока.
Крайний северо-восток, православие, первый камчатский миссионерский съезд, коренные этносы камчатки
Короткий адрес: https://sciup.org/170173907
IDR: 170173907 | УДК: 008
Текст научной статьи Первый Камчатский миссионерский съезд в начале XX века
Развитию социально-культурной и духовнопросветительской деятельности Русской Православной церкви на Камчатке в начале XX века уделено не так много, как хотелось бы, внимания наших отечественных и зарубежных исследователей. При этом такое яркое событие, как Первый Камчатский миссионерский съезд, состоявшийся в феврале 1913 года, до сих пор остается загад- кой. Несколько авторов, так или иначе, упоминают этот съезд: Г. Ф. Севильгаев, в своей монографии, посвященной истории просвещения малых народов Дальнего Востока» (1972), И. С. Вдовин в книге «Ламаизм и христианство» (1979), приводя свои аргументы, касающиеся влияния христианства на религиозные верования чукчей и коряков; Нестор Анисимов в книге «Моя
Камчатка»; в монографии «Православная миссия» в отдельной главе дается описание и оценка съезда, объективно повлиявшего на жизнь коренных народов Крайнего Северо-Востока (2011). Попробуем разобраться насколько актуально изучать Камчатский православный миссионерский съезд с современной точки зрения, какие уроки можно извлечь из его решений, или он может быть интересен только как исторический факт.
Как показывает анализ протоколов съезда, опубликованных в нескольких номерах Владивостокских епархиальных ведомостей за 1914 г., вопросы, которые поднимались на Первом Камчатском миссионерском съезде, призваны были заострить внимание общественности к весьма важным проблемам дальнейшего становления и развития Православия на территории Крайнего Северо-Востока — на Камчатке и Чукотке, на побережье Охотского моря и в Гижиге. Сам съезд предварялся большой организационной и подготовительной работой. Все будущие делегаты заранее, в письменном виде выдвинули вопросы для коллективного обсуждения.
Нестор Анисимов — главный вдохновитель и организатор Первого Камчатского миссионерского съезда.
Съезд был собран в селении Иоасафовском, на севере Камчатки. Открытие состоялось 18 февраля 1913 г. Известие о начале съезда облетело все селения и стойбища Камчатки. Миссионеры съезжались за сотни и тысячи верст. Многие из них подвергались в пути серьезной смертельной опасности, попадали в пургу, преодолевали коварные наледи и глубокие ущелья. Немало прибыло на съезд и представителей коренного населения — для Камчатки это было огромное и важное событие. Круг вопросов, который должен был рассмотреть съезд, касался повседневной жизни и деятельности камчатских миссионеров: о необходимости более частого посещения стойбищ постоянно кочующих «инородцев», о внушении благоговейного отношения к крестильным крестикам и иконам; о разъяснении крещеным значения христианского имени, которое они носят, и о точном определении возраста «инородцев»; о школах для детей крещеных оленеводов и о возможном типе этих школ, программе, составе учащихся; о переводах на языки коренного населения Камчатки богослужебных книг и о богослужениях на этих языках и проповедях; о занятиях в школах при начальном

Епископ Нестор (Анисимов) (1885-1962), миссионер на Камчатке обучении «инородцев» на их родном наречии; о чтении Часов в часовнях, где нет священников, о миссионерских и школьных библиотеках и о многом другом, жизненно важном и необходимом для успешной деятельности миссионеров Крайнего Северо-Востока.
Многие проблемы требовали тщательной проработки и обращения к общероссийскому церковному опыту, например: как поститься кочевым жителям региона, если в их рационе нет или почти нет растительной пищи. Другой вопрос: как готовиться к исповеди в условиях скученности населения в ярангах и в условиях постоянных перекочевок. Еще один немаловажный вопрос: можно ли священнику брать в дорогу оружие, ведь в пути на многие версты его подстерегает опасность от дикого зверя. Немедленного решения вопроса требовала статистика оседлых и кочующих жителей Камчатского полуострова — каждый год в исповедных росписях приходилось отмечать одних и тех же людей в разных приходах, так как кочующие жители стойбищ постоянно кочевали с места на место в поисках лучших кормов для своих оленей. Многие крещеные коряки не знали своих лет и имен, данных при крещении, называя и то, и другое наугад. В связи с этим все участники съезда высказали пожелание как можно скорее устроить народную перепись в Камчатской области с привлечением священников-миссионеров.
О разъяснении крещеным «инородцам» их христианского имени слушали доклад священника Паланского Свято-Никольского прихода, о. Николая Лонгинова. После обмена мнениями решили, — во-первых, внушать всем крещеным, чтобы они называли друг друга не по-язычески, а православным именем, и, во-вторых, для точности записи заносить в метрики в скобках и языческие имена, чтобы не происходило ошибок.
С пониманием и сочувствием заслушали депутаты и участники съезда доклад начальника Камчатской миссии о. Нестора о том, что миссионерам часто приходится служить в холодных и дымных юртах и подземных жилищах, куда приходится спускаться по закопченному и скользкому столбу со Святыми Дарами и крестом. Не лучше обстоит дело и со службой в продуваемых насквозь и холодных камчатских церквях и часовнях, в которых Святые Дары приходится отогревать своим дыханием. Но если где появляется возможность, устраивать часовни и молитвенные помещения, даже если это будут всего лишь полуземлянки, обложенные дерном или снегом. Хорошо также, если на месте совершаемых богослужений будет сооружен крест в память о событии. Немаловажным был вопрос о строительстве на территории Камчатской области новых церквей и часовен. По докладу священников и псаломщиков Лесновско-го, Дранкинского и Паланского приходов решили строить новые, более просторные храмы и школы при них, особенно там, где имелся строевой лес; в селениях Подкагирное и Рекинники, при отсутствии строевого леса, устроить часовни в виде землянок. Начальник миссии, о. Нестор, высказался о необходимости перестройки школы и дома для священника в с. Кичиги, а также возведении часовен в селениях Алюторском, Вет-вейском, Вывенском, Каменском и на Тава-т омских горячих ключах. Анадырский (Марковский) священник, о. Агафопод Шипицын, просил решить вопрос об устройстве часовен в урочище
Алгане, на устье р. Белой, перестроить из нового имеющегося леса часовню в Ерополе. Необходимо, по его мнению, было также построить церковь-школу в устье р. Анадырь, в Ново-Мариинском посту, а также на м. Чукотский Нос.
Кроме вопросов церковного строительства, участников съезда волновал также вопрос о школах для кочевников-оленеводов. Необходимо было обсудить и договориться о возможном типе такой школы и составе учащихся. Проблема главным образом состояла в том, что дети оленеводов с самых ранних лет участвуют в общем процессе труда наравне с взрослыми: мальчики пасут и охраняют оленей день и ночь, посменно, а девочки делят со своими матерями заботу по ведению домашнего хозяйства — шьют или ремонтируют одежду и обувь, выделывают массу шкур, готовят еду, собирают дрова, плетут неводы и сети, заготавливают рыбу и разделывают оленя. Разобрав все «за» и «против», делегаты и участники съезда признали обучение детей оленеводов-коряков «желательным, насколько то представится возможным». Количество церковно-приходских школ для жителей Камчатской области необходимо, как решили делегаты съезда, по возможности увеличивать. Эти школы должны были стать доступными для всех — и для крещеных, и для некрещеных, и для детей, и для взрослых. Пример тому — школа в селении Иоасафовском, куда вслед за детьми приходили и взрослые. Во всех школах необходимо было ввести, хотя бы в общедоступных рамках, обучение медицине, а также ремесленные занятия. Среди них — столярное ремесло, слесарное, токарное, кузнечное, переплетное, сапожное, портняжное. Для девочек и женщин — рукоделие и шитье. Необходимо было также в миссионерских школах ввести изучение собаководства и оленеводства с основами ветеринарии. Словом, — подвел черту под своим выступлением о. Нестор, для Камчатской области необходимо выработать на практике особый тип миссионерской церковно-просветительской ремесленной школы.
О переводах на языки коренных жителей Камчатской области богослужебных и других книг, о проповедях и беседах на этих языках и богослужении в национальных селениях, о занятиях в школах, особенно при первоначальном обучении на родном наречии «инородцев», было выслушано выступление начальника Миссии о. Нестора. Он затронул весьма важную пробле- му — как добиться того, чтобы коренное население стало христианами не только наружно, но и внутренне. Для этого очень важно, чтобы миссионер знал язык народа, среди которого ему приходится работать. Еще апостол Павел писал в своем «Послании к коринфянам»: «Если приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Если вы произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». В церкви, — продолжал Апостол, — я хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на непонятном языке (Кор. 14,6-9). Исходя из всего этого, миссионер должен обязательно изучать языки коренного населения Камчатской области. Необходимо, чтобы богослужение для не знающих русского языка коряков и тунгусов-эвенов совершалось на их родном наречии; первое время хотя бы частями, или попеременно, то на русском, то на «инородческом». А проповедь обязательно произносить только на родном для слушателей языке. Только тогда высокие христианские истины дойдут до сердец жителей Камчатской области. Неоспоримый пример тому — как действовал великий миссионер и Апостол Японии — архиепископ Николай, чья паства возросла за короткое время до 35 тысяч человек. Мало того, когда богослужение проводилось на незнакомом, для тех же коряков, русско-славянском языке, они, не понимая сути происходящего, ходили, сидели, лежали, смеялись и громко переговаривались, приводили в молитвенное помещение собак и не отгоняли их от священника и походного престола. Все это ими делалось безотчетно, по непониманию. Молитва православного священника была для них то же, что и шаманское заклинание, только в иной форме.
Говоря о переводах богослужебных книг и молитв на языки коренного населения Камчатской области, о. Нестор затронул и такую проблему, как установление церковного пения на «инородческих» языках. Необходимо было приложить все силы, чтобы в Камчатских церквях стало реальностью православное пение, совершаемое на понятном прихожанам языке. Этим можно было бы привлечь внимание не только уже крещеных к богослужению, но даже и некрещеных, потому что благоговейное православное пение сильно проникает в душу, увеличивая во сто крат впечатление от службы церковной. Пример такому благотворному влиянию — богослужение на корякском языке, которое о. Нестор совершал в церкви с. Иоасафовское уже с 1911 года. Участники и члены съезда, выслушав сообщение о. Нестора, постановили продолжать переводческую деятельность на своих приходах, а также признали полезным первоначальное обучение учащихся вести на национальных языках коренных жителей Камчатской области. Решили также собрать все привезенные миссионерами тексты проповедей, молитвы и словари, внимательно просмотреть и проверить, а затем издать. Для просмотра и проверки создали специальную комиссию из участников съезда,
Доклад священника-миссионера из Паланы о. Николая Лонгинова касался вопроса, можно ли допускать учителей или почтенных грамотных мужчин читать Часы и утреннее богослужение в часовнях в воскресные и праздничные дни там, где нет священника. Обсудив этот вопрос, постановили, что ради удовлетворения хотя бы элементарной духовной потребности, а также для того, чтобы народ в праздники не предавался разгулу и лени, допускать указанных лиц, читать и петь Часы, тропари и молитвы, положенные по уставу Православной Церкви в воскресные и праздничные дни в часовнях, где нет священника. На одном из заседаний священник-миссионер о. Карп Головач высказался о пользе чтений и внебогослужебных бесед в школах, — для учащихся и всего вообще населения, а также о желательности введения таких бесед как обязательных и по возможности с последним техническим достижением — «волшебным фонарем». Это предложение было принято. Участники съезда согласились с мнением священника из Дранки о. Карпа и просили о. Нестора как Начальника Духовной Камчатский миссии ходатайствовать перед Преосвященным о приобретении для пяти миссионерских станов — Иоасафовского, Дран-кинского, Лесновского, Паланского и Анадыр-ского-Марковского так называемых «волшебных фонарей».
Доклад о. Нестора о борьбе с пьянством и употреблением мухоморов был встречен с большим вниманием, поскольку вопрос о борьбе с этим злом в Камчатской области, и, в частности, среди коренного населения, весьма актуален: инородец и камчадал до болезненности падок на всякие спиртные напитки. Он готов от- дать последнюю одежду, всю (добытую) пушнину, все свое добро и богатство за стакан или бутылку водки или спирта. Но достать-то спиртные напитки в изолированном крае нелегко и не всегда можно. Но если уж довелось достать, то он их старается выпить один или с приятелями все сразу, будь то бесчисленное множество вина. Долг миссионеров, — продолжал докладчик, — спасать нашу паству: инородцев, болеющих и беднеющих от алкоголя. Вопрос борьбы со спаиванием камчадалов и инородцев весьма сложный, над которым надо серьезно поработать. Прежде всего, миссионеры должны быть сами хорошим наглядным примером трезвой жизни и внушать в проповедях и беседах о вреде алкоголя. Они должны приводить инородцам наглядные и яркие примеры гибели людей от алкоголя. Но еще ужаснее, — продолжал свое выступление о. Нестор, — когда инородцы-коряки едят ядовитые грибы-мухоморы. Мухомор быстро и сильно действует опьяняюще и отравляюще на весь организм человека. Получаются необыкновенные судороги, корчи, изо рта идет пена, появляется галлюцинация, помогающая дикарям веровать в злого духа, якобы во время действия мухомора беседующего с ними. [3, 33].
Одно из заседаний съезда было посвящено борьбе с жестокими языческими обрядами и обычаями, и, в частности, принесении в жертву собак. Убивали, как правило, самых лучших ездовых собак-передовиков, цена которым — от 50 до 150 рублей и выше. Все это проделывалось по повелению шамана, которому якобы передал так сделать злой дух. У корякских острожков на Парени выставлены были целые ряды убитых собак. Миссионерам рекомендовалось объяснять корякам, что им, как христианам, не подобает следовать языческим обрядам и обычаям. Убивать собак недопустимо, как с гуманной точки зрения, так и с материальной — ведь они в суровой северной жизни — незаменимые помощники людей.
Вопрос о многоженстве и незаконном сожительстве среди коренного населения Камчатской области был поднят также начальником Миссии, о. Нестором. Он обратил внимание участников съезда на незаконные браки и ненормальную женитьбу в селениях среди камчадалов и коряков. Виной тому были сохранившиеся языческие обычаи. Родители жениха и невесты, после взаимного соглашения, допускали их к супружеской жизни еще до совершеннолетия и до соверше- ния таинства законного брака. Еще абсолютно неразвитые в половом отношении дети, по сути, калечили свое здоровье. Девочки от этого умирали при преждевременных родах или на всю жизнь оставались больными. Был приведен пример о том, что вымерли все девочки-подростки в селении Дранка и во многих других, корякских и камчадальских селениях. Многие мальчики, подростки на вопрос, венчались ли они, отвечали: «Нет, я только женат». Здесь была необходима настойчивая и усиленная забота о прекращении ненормальных женитьб, сожительств и калечении здоровья детей [6, 147].
Следующий вопрос, выдвинутый начальником Камчатской миссии, касался крестных ходов и значении их в духовном воспитании инородческой паствы. Главное занятие оседлого населения области — рыболовство. Для народов Камчатской области рыба заменяет хлеб. При плохом улове, который случался чуть ли не через год, население голодало. Полезно поэтому перед каждым началом рыбной ловли совершать крестный ход с освящением неводов, рек и моря. Рыбная ловля — благословенный труд самим Господом и Святыми Апостолами — рыболовами. Так как в требнике имелась только молитва на благословение мрежей (неводов), о. Нестор предложил участникам съезда составить ходатайство Преосвященному Евсевию о разрешении на написание молитвы на освящении и благословение рыбной ловли. Он обосновал свое предложение тем, что в Святом Евангелии можно немало почерпнуть поучительного о рыбной ловле, применяя в то же время рыбную ловлю к ловитве душ человеческих для вечного спасения. Коренной житель должен смотреть на рыбную ловлю, как на труд, благословенный самим Богом. Участники съезда согласились с предложением о. Нестора и постановили перед началом рыбной ловли совершать крестный ход на освящение рек, моря и благословение мрежей (неводов). Вопрос о составлении молитвы на благословение и освящение начала рыбной ловли решено было предоставить через начальника Миссии архиепископу Владивостокскому Евсевию.
Не менее важным и нужным участники и члены съезда посчитали доклад о. Нестора о необходимости бережного и внимательного отношения к церковным и миссионерским архивам. Известно, что старинные архивы при Камчатских церквях не сохранились, будучи рас- хищены, заброшены и уничтожены временем, а большей частью — людьми. В связи с этим о. Нестор предложил всем членам съезда приложить все свое старание к сохранению церковных архивов.
Делегаты съезда согласились также с необходимостью постоянно записывать особенности верований и обрядов язычников, их жизнь, быт, обычаи, суеверия, приметы, сказки, рассказы, песни, пословицы и басни и т. п., сохраняя все это при церковных архивах.
Следующий вопрос — об устройстве обители милосердия на горячих целебных Паратунских источниках близ Петропавловска и основании мужского миссионерского монастыря в долине реки Камчатки. Волновал участников и членов съезда и вопрос о поднятии авторитета церковно-духовной власти в Камчатской области. В связи с тем, что самостоятельная административная власть на Камчатке, как и судебная, уже пять лет была установлена и действовала, посчитали ускорить появление здесь самостоятельной епископской кафедры, так как в самый разгар церковного строительства крайне недоставало духовного руководителя высокого звания. Обсудив этот вопрос, участники съезда постановили, что для пользы духовного возрождения и процветания Камчатской области в православно-русском духе необходимо ускорить поднятие авторитета духовной власти на Камчатке.
Таким образом, Камчатский миссионерский съезд поднял на своих заседаниях достаточно обширный перечень вопросов организационного и духовно-нравственного содержания. В качестве предстоящих задач миссионерской работы среди коренного населения Камчатской области дал в своем докладе начальник Миссии, о. Нестор: ««Надеть туземцу крест при крещении и думать, что уже сделано все нужное, и на том успокоиться, — этого мы, миссионеры, не должны допускать… нужно принять…меры к устранению препятствий в посещении отдаленных стойбищ и острожков… и установить более тесную, близкую, постоянную связь между крещеными и священником-миссионером. Это последнее можно достигнуть только путем широкого церковно-школьного строительства в Камчатской миссии. Как можно больше в доступных местах и районах оседлой и кочевой жизни… нужно (иметь) церквей, часовен, школ, молитвенных домов, миссионерских станов и походных миссий». Нужно также, ««чтобы русское имя было любимо на Камчатке. Здесь миссионерам предстоит положить немало труда. Нужен живой, наглядный пример нравственной, трезвой, трудолюбивой жизни камчатского пастыря и учителя, являющегося в Камчатскую область для просвещения и обрусения края» [2, 144].
После завершения съезда, с 21 по 23 февраля, в селении Иоасафовском совершались крестные ходы. Местное население и гости — коренные жители Камчатки — впервые увидели такое количество священнослужителей Православной Церкви вместе. Блеск облачений, стройное, правильное пение, торжественность богослужений — все это произвело неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Однако самое главное и важное — это то, что Первый Камчатский миссионерский съезд наметил конкретные задачи и способы их решения. Миссионерское движение на Камчатке получило перспективу своего дальнейшего развития и роста. Съезд не только собрал всех миссионеров воедино, но и образовал из них мощный поток, устремившийся к единой цели.
Список литературы Первый Камчатский миссионерский съезд в начале XX века
- Летопись Православного Камчатского Братства.// Владивостокские епархиальные ведомости. 1914. № 3, 4, 7-12, 16, 18.
- Нестор (Анисимов), митр. Мои воспоминания. - М., 1995.
- Нестор (Анисимов), иеромонах. Записки Камчатского миссионера.// Православный Благовестник, № 1, 1909
- Отчет Православного Камчатского Братства за 1913-1914 отчетный год. // Владивостокские епархиальные ведомости. № 2, 1915
- Севильгаев Г. Ф. Очерки по истории просвещения малых народов Дальнего Востока. Л., 1972. - с.45
- Ткалич А. И. Православная миссия на Крайнем Северо-Востоке. М.: МГОУ, 2011. 235 с.