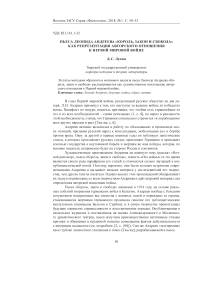Пьеса Леонида Андреева "Король, закон и свобода" как репрезентация авторского отношения к Первой мировой войне
Автор: Лукин Денис Сергеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье методами образного и мотивного анализа пьеса Леонида Андреева «Король, закон и свобода» рассматривается как художественное воплощение авторского отношения к Первой мировой войне.
Леонид андреев, безумие, война, образ, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/146278403
IDR: 146278403 | УДК: 821.161.1-32
Текст научной статьи Пьеса Леонида Андреева "Король, закон и свобода" как репрезентация авторского отношения к Первой мировой войне
В годы Первой мировой войны, разделившей русское общество на два лагеря, Л. Н. Андреев примкнул к тем, кто выступал за ведение войны до победного конца. Пацифист по натуре, писатель признавал, что «война есть страшнейшее из зол и из всех необходимостей – самая печальная» [1, с. 8], но верил в реальность этой необходимости, считая, что Германия сознательно стремится «к порабощению всех других народов и рас» [Там же, с. 6].
Андреев активно включился в работу по обоснованию и пропаганде своих позиций, призывая русский народ к консолидации, мобилизации сил и борьбе против врага. Одну за другой в первые военные годы он публикует патетические статьи, в которых прославляет русских солдат, проклинает Германию и призывает союзные государства к неутомимой борьбе и жертвам во имя победы, которая, по мнению писателя, непременно будет на стороне России и союзников.
Художественные произведения Андреева на военную тему (рассказ «Ночной разговор», пьеса «Король, закон и свобода», повесть «Иго войны») в это время являются своего рода парафразом его статей и отличаются сильно звучащей в них публицистической нотой. Поэтому, вероятно, они были холодно встречены современниками Андреева и вызывают меньше интереса у исследователей его творчества, чем другие тексты писателя. Однако анализ этих произведений обнаруживает их тесную взаимосвязь со всем творчеством Андреева и даёт широкий материал для определения авторской концепции войны.
Пьеса «Король, закон и свобода» написана в 1914 году на основе реальных событий вторжения германских войск в Бельгию. Андреев вообще с большим сочувствием воспринимал все известия с военных полей и переживал за страны, становившиеся жертвами германского произвола (многие его публицистические выступления посвящены Бельгии и Сербии), и в своем творчестве провозглашал будущие торжество справедливости и восстановление порядка. Опубликованная в нескольких журналах и поставленная на сценах Александринского и Московского драматического театров, пьеса получила преимущественно негативные отзывы критики и обвинения в неудачной попытке совмещения фактов действительности с авторским вымыслом (см. подробнее: [2, с. 494]). Сам же Андреев «подчеркивал свое глубоко личностное отношение к теме» [Там же], разрабатываемой в пьесе.
В своих художественных произведениях о Первой мировой войне Андреев исследует проблему отношения личности к разворачивающимся событиям и степени участия человека в них. В пьесе «Король, закон и свобода» писатель ставит вопрос о роли и ответственности художника в критической ситуации, с которой сталкиваются его страна и народ. Главная сюжетная коллизия пьесы заключается в том, что к известному бельгийскому писателю Эмилю Грелье (толчком к созданию этого образа и постановке проблемы пьесы в целом послужил сильно впечатливший Андреева газетный миф об участии в военных действиях и ранении Мориса Метерлинка [4, с. 285]) за решающим советом приходит сам король со своими приближенными. Перед ними стоит важное и непростое решение – взорвать плотины, чтобы затопить часть страны и немецких захватчиков вместе с ней. Уже всё готово, чтобы осуществить задуманное, но последнее слово – за «совестью нации» Эмилем Грелье.
Очевидно, что Леонид Андреев преувеличивает значение писателя, а в его лице любого художника, ставя его если не выше, то в один ряд с сильными мира сего, но в этом своего рода мечта, идеал Андреева – чтобы художник был совестью народа. Важно еще и другое: Эмиль Грелье участвовал в сражении и был ранен: пролил кровь за родину, не остался в стороне от общей беды, когда в своем положении мог бы спокойно сбежать, спрятаться и переждать эти роковые дни или годы. В этом, в карикатурном изображении германской армии в пятой картине пьесы и в том, что герои, вынужденные оставить затапливаемый город, верят в возрождение измученной врагом Бельгии, – главный публицистический пафос андреевского произведения.
Помимо своей публицистической составляющей, во многом повторяющей лозунги и идеи газетных и журнальных статей Андреева, пьеса «Король, закон и свобода» интересна еще тем, что она насыщена сквозными и значимыми для творчества писателя образами и мотивами. Один из них – лейтмотив безумия, появившийся у Андреева уже на раннем этапе творчества и получивший в его литературной деятельности своеобразную галерею воплощений: от медицинского диагноза до онтологической характеристики жизни. В ярком антивоенном рассказе Андреева «Красный смех», написанном в годы Русско-японской войны, безумие тождественно войне, является её сутью. В рассматриваемой нами пьесе безумие не столько суть и причина войны, сколько одно из её разрушительных последствий. В Бельгии сожжены деревни, разрушены памятники архитектуры, убиты тысячи людей. Многие из еще живых не могут принять происходящих на их глазах ужасов и сходят с ума. «Теперь таких много» [3, т. 5, с. 408], – говорит один из героев о сумасшедшей девушке, неустанно и тщетно ищущей дорогу в родную деревню, сожженную немцами. Постепенно на протяжении всей пьесы сходит с ума и Жанна, супруга Эмиля Грелье, не в силах справиться со всё новыми и новыми потрясениями военного времени. С мотивом безумия в пьесе тесно связаны образ дома и мотив его утраты, рассматриваемые нами в другой статье [5].
Открывается «Король, закон и свобода» описанием цветущего сада и ухаживающего за розами садовника, и образ цветов становится одним из сквозных в пьесе. Герои часто проходят мимо цветочных клумб, украшают цветами комнаты дома, держат цветы в руках, вдыхая их аромат, с букетом цветов приходит к Эмилю Грелье король Бельгии, о саде и растущих в нем цветах в том числе тоскуют герои, покидая дом и город. Цветы становятся для них символом мира и способом отвлечься от тревожных и печальных мыслей о войне: «Когда поднесешь её к лицу так близко – и закроешь глаза – то кажется, что нет ничего, кроме красной розы и синего неба» [3, т. 5, с. 375]. Образ цветка – частый в творчестве Андреева, и нередко он связан с образами неба и земли.
«Цветок под ногою» – так называется рассказ Леонида Андреева 1911 года о шестилетнем мальчике Юре Пушкарёве, любящем землю «со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, бархатистой горячей пыли и того изумительно разнообразного, таинственного и восхитительного сора, которого совершенно не замечают люди с высоты своего огромного роста» [3, т. 4, с. 22], и воспринимающем жизнь по-детски восторженно и просто. И именно он окажется цветком под ногами взрослых и их сложного непонятного мира на большом празднике, устроенном в честь дня рождения матери. Первый взрослый опыт разочарования, горечи и боли предстоит испытать мальчику, когда на торжестве он станет свидетелем измены матери отцу.
В следующий раз мы встретим уже выросшего героя, теперь Юрия Михайловича Пушкарёва, в рассказе «Полёт» 1913 года. Он по-прежнему любит жизнь и землю, но небо – «извечная цель всех стремлений, всех поисков и надежд» [Там же, с. 136], и полёты теперь составляют для него, опытного лётчика, офицера-пилота, уважаемого в обществе человека и счастливого семьянина, главный смысл и страсть жизни. Поэтому, отправившись в очередной полёт и решив, что он станет для него последним, Пушкарёв перестает смотреть на землю с её «зелеными лесами, знакомыми с детства, низкорослою травою и цветами <…> ненадежной земной любовью» [Там же, с. 145], и спокойно и даже радостно говорит себе: «Нет! На землю я больше не вернусь» [Там же, с. 148].
Война примиряет небо и землю, являясь надругательством над обоими. В «Красном смехе» измученная земля начинает выбрасывать из себя мертвые тела, переполнившись ими, а герои пьесы «Король, закон и свобода», смотря в пылающее небо, в котором, терзая его, летают военные самолеты, восклицают: «Что они сделали с небом!» [Там же, т. 5, с. 381], «Прежде, когда душа хотела покоя и радости, я смотрела в небо, а теперь некуда смотреть бедному человеку!» [Там же]. Цветок же, вырастающий из земли и тянущийся к небу, в военных произведениях Леонида Андреева становится символом беззащитности и уязвимости, хрупкости мирной жизни, тоски и воспоминания о ней.
Когда, узнав о начале войны, герой повести «Иго войны» Илья Петрович Дементьев с семьей бежит с дачи, находящейся на потенциально опасной территории, он по пути срывает для дочери цветочек, а позже на страницах своего дневника признается, что стыдится этого такого естественного и простого в мирное время жеста: «Помню одно еще обстоятельство, самое постыдное: сорвал я около дороги какой-то голубенький цветочек, колокольчик, и дал его Лидочке, моей девочке, пошутил с нею <…> но что я думал про себя, когда шутил? Думал: “вот до чего я мало потерялся и вполне владею собой, не то что другие: даже цветочки еще рву, шучу, детей и жену ободряю”!» [Там же, т. 6, с. 8]. В «Красном смехе» герой получает письмо, написанное убитым на войне женихом сестры и адресованное уже умершему брату. Содержание письма эклектично, неровно, мрачно, но среди его отрывков встречаются такие строки: «Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек?» [Там же, т. 2, с. 89]. Измученный на войне человек вспоминает о жизни до неё, о чем-то нежном, прекрасном, совершенно чуждом войне, и символом всего этого для него становится цветок.
Сама война в пьесе «Король, закон и свобода» представлена как вселенский пожар («Зарево колышется над землею, безмолвно дышит огнем» [Там же, т. 5, с. 381]), о котором герои узнают, услышав звон набатного колокола. Этот образ перекочевал в пьесу из раннего рассказа Л.Н. Андреева «Набат», в котором писатель создал экспрессионистическую картину сельского пожара и помешательства людей от огня, дыма и жара. Колокол, сообщающий о беде, в этих произведениях, как вообще часто у Андреева, наделен человеческими характеристиками (ср.: «Полный отчаяния, мятущийся звон колокола» [Там же, с. 365] и «В предсмертных муках задыхался колокол и кричал, как человек, который не ждет уже помощи и для которого уже нет надежды» [Там же, т. 1, с. , с. 350]; «Все мучительней и больнее становились человеческие вопли покорного колокола» [Там же, с. 512]). Огонь выступает враждебной человеку стихией, в пьесе – стихией войны, победить которую герои решают противоположной ему стихией воды. Вода тоже несет разрушение и смерть, требует жертв, герои понимают это и готовы их принести во имя победы, мира и будущей жизни. Это художественное воплощение позиции, которой Андреев придерживался в годы Первой мировой войны: идти на жертвы, на смерть, вести войну до конца – ради победы над Германией, германизмом и самой войной.
Tver State University
Список литературы Пьеса Леонида Андреева "Король, закон и свобода" как репрезентация авторского отношения к Первой мировой войне
- Андреев Л. Н. В сей грозный час//Андреев Л. Н. В сей грозный час. Пг.: Прометей, 1915. С. 5-15.
- Андреев Л. Н. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. М.: Худож. лит., 1995. 511 с.
- Андреев Л. Н. Собрание сочинений в 6 т. М.: Книжный Клуб Книговек, 2012.
- Кен Л. Н., Рогов Л. Э. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб.: Коста, 2010. 432 с.
- Лукин Д. С. Образ дома в произведениях Леонида Андреева о войне//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 224-227.