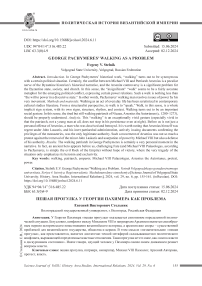Пешая прогулка у Георгия Пахимера как проблема
Автор: Стельник Е.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Политическая история Византийской империи
Статья в выпуске: 6 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
У Георгия Пахимера «пешая прогулка» оказывается синонимом определенной политической ситуации. Безусловно, конфликт между Михаилом VIII и патриархом Арсением является своеобразным нервом исторического повествования византийского историка, а арсенитские споры - существенной проблемой для византийского государства, общества и церкви. В этом смысле «незначительная» «пешая прогулка», как представляется, является достаточно точной метафорой складывающегося политического конфликта, выражающей определенные властные отношения. Такая прогулка не что иное, как «воля к власти в дискурсивном состоянии». Иначе говоря, идущий человек у Пахимера самим своим движением решает вопросы власти.
Пешая прогулка, патриарх, император, михаил viii палеолог, арсений авториан, протест, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/149147540
IDR: 149147540 | УДК: 94“04/14”:316.485.22 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.6.11
Текст научной статьи Пешая прогулка у Георгия Пахимера как проблема
Ж; ® М
DOI:
Цитирование. Стельник Е. В. Пешая прогулка у Георгия Пахимера как проблема // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 6. – С. 155–161. – DOI:
Введение. Кажется, нет ничего более банального, чем идущий пешком человек. Ходить пешком естественно (даже слишком естественно, чтобы на это обращать внимание) и повседневно. Идти пешком у византийского историка и церковного деятеля Георгия Пахимера (1242–1310 гг.) – πεζῇ, но по-гречески это еще и тривиально выражаться «в прозе», в то время как поэзия, поистине «высокое искусство» является одной из сторон души, выраженной языком, и претендует на исключительность. В этом смысле, медленный бустрофедон противостоит ритмичному и музыкальном стиху (στίχος – это поворот, а «нога» – мера ритма), подобно как телесное противостоит душевному.
Такая естественность «пешей прогулки» скрывает ее от исследовательского внимания. Нет ничего необычного, что люди ходят, люди ходили всегда и всюду. Между тем, подобные незначительные повседневные детали, став предметом анализа, могут оказаться знаками, уликами или определенными жестами, обращенными к нам, их не замечающим [1, c. 190].
На наш взгляд, необходимо рассмотреть «пешие прогулки» в тексте «Исторических записок» Георгия Пахимера. Представляется, что за несущественной деталью скрывается нечто важное.
Так, в первых VI книгах «Исторических записок» Пахимера само слово πεζῇ встречается 13 раз. И если 5 раз речь идет об абстрактном «сухом пути», то есть о движение по суши, а не по морю (οὔτε πεζῇ οὔτε κατὰ θάλατταν) [6, vol. II, p. 405, 413, 451], то в остальных случаях речь идет об исторических персонажах повествования византийского историка. И если Михаил VIII Палеолог идет пешком только два раза (в только что случайно захваченном Константинополе [6, vol. I, p. 219] и когда ведет мула патриарха Арсения [6, vol. I, p. 103]), то патриархи (Арсений – 3 упоминания [6, vol. I, p. 159, 213; vol. II, 343], Герман – 1 упоминание [6, vol. II, p. 365], Векк – 1 упоминание [6, vol. II, p. 519]) весьма часто. Один раз Пахимером упоминается военачальник Константин, но абсолютно в обратном контексте: он сломал ногу («его везут на тележке (ἁμαξίς) он окружен врагами») [6, vol. I, p. 305] и ходить не может, поэтому этот случай мы рассматривать не будем.
Таким образом, если Георгий Пахимер говорит об идущем пешком некоем человеке, как ни удивительно, но этот человек зачастую оказывается возмущенным патриархом. А это что-то значит.
Методы. Ходьба пешком как акт повседневности внимательно рассматривалась в современной культурологической литературе. С точки зрения структурализма, ходить – это значит «говорить». Походка, в этом смысле, целая неявная знаковая система, со своими знаками, структурой, ритмом и контекстом [4, p. 1]. Ходьба оказывается важным социальным жестом. Так как ходьба не эффективный способ передвижения (медленный и утомительный), смысл ее находится в политическом поле значений. Идущий пешком человек, в определенном контексте, может выражать собой политический или моральный протест, когда его невозможно выразить иначе [4, p. 18]. Идущий освобождается от давящих социальных обязательств и принятых правил игры [8, p. 10]. Ходьба – это торжество духа над материальными необходимостями и целесообразностями [9, p. 16].
В этом смысле уставший, но все равно идущий патриарх Никейский Арсений Ав-ториан (ок. 1200–1273 гг.) должен быть правильно понят.
У Георгия Пахимера «пешая прогулка» оказывается синонимом определенной политической ситуации. Безусловно, конфликт между Михаилом VIII и патриархом Арсением является своеобразным нервом исторического повествования византийского историка, а ар-сенитские споры – существенной проблемой для византийского государства, общества и церкви. В этом смысле «незначительная» «пешая прогулка», как представляется, является достаточно точной метафорой складывающегося политического конфликта, выражающей определенные властные отношения. Такая прогулка – не что иное как «воля к власти в дискурсивном состоянии». Иначе говоря, идущий у Пахимера человек самим своим движением решает вопросы власти 1.
Необходимо сразу оговориться. Говоря о конфликте между Михаилом Палеологом и патриархами, прежде всего Арсением, автор не испытывает иллюзий сказать нечто новое о причинах этого конфликта, о его социальных, политических или идеологических детерминантах и тем более его последствиях. Нас будет интересовать не столько сам конфликт, сколько его тональность, регистр и эмоциональность, выраженная в жестикуляции сторон. Пешая прогулка у Пахимера – жест фактически театральный 2.
Анализ. Первое упоминание о «пешей прогулке» у Георгия Пахимера намечает будущий конфликт между Михаилом VIII Палеологом и патриархом Никейским Арсением. Патриарх Арсений, происходивший из знатной константинопольской семьи (род Каматеров), был лично выбран и «назначен» (за семь дней пройдя все церковные должности) на должность императором Феодором II Ласкарисом еще в 1254 году. После убийства регента Георгия Музалона (на девятый день поминовения умершего императора Феодора II) восьмилетнего Иоанна Ласкариса, патриарх Арсений на несколько месяцев превратился в самого могущественного человека в империи, так как только он сохранял еще легитимность [5, p. 87].
Пахимер описывает их первую встречу в контексте определения попечителя малолетнего наследника Иоанна Ласкариса. Совет предварительно назначает на эту «царственную» должность коноставла Михаила Палеолога, но это назначение еще должен утвердить патриарх, который именно для этого и оправляется в Магнезию, где вместе с государственной казной находится и Михаил. Михаил Палеолог узнает о прибытии патриарха «раньше других», немедленно выезжает на встречу и «пешком», под уздцы, до самого дворца ведет мула Арсения (πεζῇ τε βαδίζων καὶ τὰς τῆς ἡμιόνου τοῦ ἱερέως χαλινοὺς κατέχων) [6, vol. I, p. 103].
Пахимер объясняет это необычное событие, естественно, двояко, с выделением видимых и скрытых причин. С одной стороны, Палеолог выражает свое почтение и величайшее уважение (τιμὴν τὴν μεγίστην άφοσιούμενος τῷ τε πατριάρχῆ καὶ παντὶ τῷ ἱερῷ πληρώματι) [6, vol. I, p. 103] и святую обязанность подчинятся духовной власти. Но, с другой стороны, для него это всего лишь «хитрый способ» (Ἦν δὲ ἄρα οί τὸ σοφὸν ἐκείνῳ μὲν ἐνδιδόναι τῶν ὅλων ἄρχειν, αὐτὸν δ’ ὑποποιούμενον τὸν ἐξάρχοντα, λαμβάνειν οἷόν τ’ εἶναι, ὡς ἐπ’ ἀναγκαίοις παρέξοντα) [6, vol. I, p. 105], притворно подчинившись, подчинить себе патриарха.
Разберем теперь саму ситуацию идущего Михаила, ведущего мула Арсения. Конечно, сразу бросается в глаза внешний эффект этого сюжета, когда Арсений оказывается «выше» прислуживающего ему Михаила. На этот эффект, видимо, и рассчитывал сам Палеолог. Но, во-первых, Михаил Палеолог «унижается» сам и по своей воле, и Пахимер считает, что вполне притворно, а во-вторых, ведя за уздцы мула Арсения, Михаил управляет патриархом, а тот оказывается хотя и в приятном антураже, но в роли ведомого.
Михаил, идущий и ведущий мула патриарха, отказывается от своей гордости и тщеславия, которые, как показывают многочисленные страницы «Исторических записок» Пахимера, весьма и весьма у него развиты. В данном сюжете многое настораживает и привлекает внимание, заставляет не торопиться с выводами. Слишком уж много самоунижения, слишком много скромности. Только очень уверенный и даже самоуверенный в себе человек способен так робко «подавать» себя патриарху и всему клиру. Только ценящий исключительно свое мнение Михаил VIII способен притворно «унижаться» и подчиняться.
Такая прогулка Михаила есть не что иное, как претензия на власть. «Подкупив» патриарха своим смирением и заботой (и щедрыми подарками из казны) он ее получит из рук уверенного в своем превосходстве патриарха Арсения.
Дальнейшие неуемные претензии на власть Михаила Палеолога приводят к конфликту с патриархом Арсением, соотношение сил незаметно меняется, и теперь ходить пешком придется исключительно патриарху.
Очень яркая точка конфликта – ситуация, когда патриарх, понимая, что начинает уступать властные позиции Михаилу, «вдруг» высказав свою скорбь клиру, «уходит».
Арсений в конце 1259 г. сначала со своей свитой идет пешком (πεζῇ) до ворот Никеи, а затем уже один доходит до монастыря Ἀγαλμάτου, и, отдохнув сидя у монастырской стены, достигает уже ночью уединенной обители Пасхазия [6, vol. I, p. 159].
Клир и церковные архиереи были чрезвычайно удивлены этим необыкновенным событием. И на самом деле есть чему удивиться и нам. Почему Арсений «уходит» именно сейчас практически через год после коронации Михаила VIII Палеолога, которую он сам и провел 1 января 1259 года?
Показательно, что в римской традиции движение тела всегда определенным образом соответствовало движению ума. Быстрая походка свидетельствовала быстрому движению ума, медленная походка стоиков – их рассудительности. Так, пешие прогулки Цицерона имели явный политический контекст [10, p. 47].
Эта «пешая прогулка» исключительно яркий жест (особенно яркий тем, что патриарх, совсем не молодой человек, не останавливается в своем упорстве даже ночью). Перед нами не просто личная обида Арсения, человека которого обманули и предали [12, S. 145]. Стоит обратить внимание, что Арсений сам был регентом при Иоанне Ласкарисе, а его энергичная патриаршая администрация, активно издающая документы, подтверждающие привилегии монастырей, была единственным законным органом власти [5, p. 58]. Такое движение Арсения – не столько протест против отстранения малолетнего Иоанна Ласкариса и узурпации власти Михаилом VIII, но и защита своих властных полномочий. При этом нужно учитывать, что защищать свою власть приходится от человека, которого он сам выбрал, хорошо лично знал [3, c. 12–13] и доверил ключи от государственной казны [5, p. 87].
В этом смысле протест этот яркий и эмоциональный. Фактически речь идет о личном оскорблении Арсения, и его «пешая прогулка» выражает все его возмущение и негодование. Уходя из Никеи, патриарх уходит и от патриарших обязанностей (но не от титула, взяв с собой патриарший посох и светильник), а это вызов уже не только светской власти в лице незаконного императора, но и самой Церкви, которая теперь должна принять чью-то сторону. Таким простым жестом он ставит под сомнение не только власть «незаконного» императора, но и церковную, формально из- бравшую его. Справятся ли они без него? Последующие события показали, что демарш Арсения не поддержала ни константинопольская аристократия, ни высшее духовенство [5, p. 90, 93]. Возможно, своим скромным и гордым пешим путешествием Арсений апеллировал к социальным низам Никеи [3, c. 103].
Георгий Пахимер озабочен, впрочем, другим: его беспокоит причина ухода патриарха. Он выделит, конечно, видимые и настоящие причины. Но это же будет беспокоить и императора, он будет активно не понимать, так как для него понять причину ухода означает признать обоснованность претензий Арсения.
Хотя цели патриарха Арсения понять не сложно. Не имея возможности высказать свои властные притязания прямо, патриарх выражает их косвенно. Уходя, он игнорирует Михаила, хочет перевести конфликт на свою территорию. Весь вопрос о причине в конце концов сводится к необходимости с покаянием прийти к Арсению. Патриарх просто не считает Михаила Палеолога равным себе. Такой уход вовсе еще не бегство, а вполне рациональная попытка переиграть ситуацию, но на своей территории и на своих условиях. Конфликт набирает силу.
Арсения упрашивают вернуться. Он жалуется, у него так никто и не просит прощения. Патриарху приходится что-то делать, и он, демонстрируя, по словам Пахимера, мягкосердечность, но совсем не кротость, идет пешком в Руфин [6, vol. I, p. 231], то есть вполне осознанно не доходит до столицы.
Арсений идет пешком (πεζῇ) – он все еще в конфликте, его борьба продолжается, он все еще не простил Палеолога. Но, «приближаясь» (по версии Пахимера, лучше участвовать в делах церкви, «отсылать ответы»), он делает шаг навстречу Михаилу, при этом ничем не поступаясь.
Интересно, что Пахимер не упоминает, что в этот момент делает Михаил VIII; по всей видимости, по умолчанию, он находится в «покое» в центре государства, обличенный властью и полномочиями. «Идущий», двигающийся, борющийся Арсений – полная противоположность властному (точнее уже достигшему власти) Михаилу. Претензии на власть деятельного патриарха – вызов, оставшийся без ответа.
Но Арсения вернут к Михаилу – он приедет в Константинополь на коне (ἔπειθε γὰρ ἐννοεῖν τοιαῦτ’ ἐκεῖνον τό τ’ ἐπιβῆναι ἵππου τὸν πατριάρχην καὶ παρὰ τὸ σύνηθες πρᾶξαι) [6, vol. II, p. 341–343]! Этот конь многое означает, ведь, увидев патриарха на коне, Михаил был уверен, что уже прощен! Конь, привезший ушедшего пешком Арсения – сила необходимости, заставившая вернуться; патриарх принужден, но не согласен. Но теперь он игрушка в чужих руках 3.
Вернувшись, Арсений теряет «основания» своей позиции, победа в конфликте склоняется к Михаилу. Вернувшись, патриарх сразу попадает в ловушку.
Такой ловушкой оказывается «подстроенная» Михаилом VIII Палеологом церковная служба, с помощью которой император получает прощение почти автоматически (когда, входя вместе в церковь заранее наученный диакон запоет «благослови», Михаил окажется прощенным без прощения Арсения). Поняв, в какое положение он попадает, патриарх возмущен. Выразив свое негодование словами, общий смысл которых заключается в том, что Михаил правит не по закону и недостойно (Михаил «крадет» благословение – «Τί, λέγων, οὕτω δολερῶς κλέπτεις τὴν εὐλογίαν καὶ παραλογίζῃ τὸ θεῖον, ἄνθρωπος ὤν, οὐ δέον ὂν οὐδὲ συμφέρον ;» Ἔτι δὲ καὶ · «Καλά γε ταῦτα, προσονειδίζων, καί γε βασιλεῖ καὶ ἐννόμως ἄρχειν προαιρουμένῳ πρέποντα καὶ δὴ φορητὰ τοῖς ἄλλοις ἀκοῦσαι, ὥστε καὶ ἐπαινεῖν») [6, vol. II, p. 343], Арсений орлом (ἀετός) «улетает» со всех ног через железные двери триклиния и опять пешком, но очень быстро, бежит (τάχος πεζῇ διαθέων) к морю, чтобы на корабле отправиться домой. Этот исключительно яркий эпизод также требует пояснения.
То, что орел – это гордая птица, достаточно ясно, но не стоит забывать, что она еще и «царственная» и «священная». Представляется, что перед нами явное выражение, по мнению Пахимера, праведного и законно обоснованного гнева Арсения. Арсений таким образом, уподобляется орлу, «божественной воле», противостоящей слепой Судьбе.
Патриарх двигается исключительно быстро, он «летит», «бежит», что подчеркивает исключительную эмоциональность ситуации. Перед нами – высшая точка конфликта, где скорость передвижения Арсения выражает его интенсивность. Примирение невозможно. Немного позже Арсений будет обвинен Михаилом Палеологом в заговоре против императорской власти.
Арсению снова приходится бежать, когда ему пытаются зачитать обвинения в заговоре. Патриарх бессилен против козней императора, его негодование выражают силы природы. Вскоре после этого начинается буря. Жесты начинают приобретать угрожающий характер.
Открытое обвинение в заговоре делает ненужными скрытые и многозначительные жесты. Конфликт стал явным – это значит, он уже разрешился.
Бег Арсения (он бегает в «разные стороны», так как он растерян) становится жестом отступления, выходя из конфликтной ситуации, он оставляет «поле боя» за своим противником. Здесь уже нет той строгой решимости πεζῇ. Патриарх Арсений низложен, но не побежден. В этом смысле замечательны последние слова завещания Арсения, то, как они похожи на уверенную твердость человека, идущего пешком, не взирающего ни на что и ни на кого 4.
Арсений низложен, но конфликт патриархов с Михаилом VIII Палеологом продолжается. Эстафета «прогулок» переходит через усердного и аскетичного Германа (с немытыми ногами – ἀνιπτόποδες καὶ χαμαιεῦναι καὶ μονοχίτωνες) [6, vol. II, p. 365] к новому патриарху Иоанну Векку, история становления которого очень интересует Пахимера, лично его знавшего [7, S. 296].
Проблема взаимоотношений нового патриарха с императором Палеологом, по мнению Георгия Пахимера, появляется естественно и как бы сама собой. Иоанн Векк, конечно, заступается за слабых и несправедливо униженных, радеет за церковные дела. Интересно, но именно это и становится поводом для нового обострения конфликта между светской и церковной властью, который начинает приобретать черты конфликта Добра со Злом, где «незаконно» захвативший власть Палеолог, естественно, является Злом. Почему-то зло опять побеждает.
Но в отношениях императора и патриарха снова появляется «сопротивление» и «соперничество». И снова речь идет о светской власти, «незаконно» стоящей над властью духов- ной («Τὶ δέ, φησί, καὶ ἀπὸ τίνων ἀρχιερεῖς εἶναι ἄξιον ἢ μαγείρους καὶ στράτωρας, οὒς ὑποκλίνειν ἀνάγκη, κἂν ὅ τι θέλοιτε») [6, vol. II, p. 519]. Иоанн Векк позволяет себе очень яркий и по-своему отчаянный жест – к ногам императора летит патриарший жезл (πατριαρχίας σύμβολον ῥῖψαι) [6, vol. II, p. 519]. После этого Векк со всех ног бежит прочь и так же, подобно Арсению, идет пешком (πεζῇ) в удаленную обитель. Конечно, патриарха упрашивают вернуться, и, конечно, он возвращается.
Надо сказать, что эта «прогулка» Векка – последняя у Пахимера, он подводит определенную черту в отношениях патриарха и императора, в отношениях светской и духовной власти. Конфликт с неуступчивым Арсением, видимо, многому его научил. Палеолог якобы идет на уступки – один день (третий) из недели выделяется на решение церковных дел и общение патриарха с императором. Этим решением, выгодным только ему самому, Палеологу удается включить (и тем самым подчинить патриарха) в свою управленческую систему государственного аппарата. Император желает, чтобы патриарх обращался к нему в письменном бюрократическом виде (то есть не лично [6, vol. II, p. 521]), может, он и соизволит ознакомиться с прошением. Вспомним, как еще не так давно сам Палеолог «шел» смиренно перед мулом Арсения.
Перед нами картина полного поражения Арсения и его приемников. Вызов, брошенный патриархами, организован и подчинен. В этот третий день патриарх будет находиться недалеко (в близлежащем монастыре) от императора, конечно, чтобы «идти» было ближе. Гордые «пешие прогулки» патриархов закончились.
Выводы. Идущий патриарх у Георгия Пахимера – безусловно, очень личностный момент повествования. Фактически перед нами появляется античный герой, бросающий вызов Судьбе (а Михаил VIII Палеолог, по Пахимеру – это просто злой Рок империи) без надежды на победу, где сам трагизм ситуации лишь подчеркивает ее героичность и исключительность. Впрочем, на этом античные аллюзии у Георгия Пахимера заканчиваются. Герой у византийского историка – это не античное тело («царственное тело Агамемнона») как синоним личности, а неукротимый дух, «благочестивая нетерпимость».
Именно в этом контексте замечательны «долгие путешествия» (πεζῇ τε καὶ βάδην αἱρούμενοι διέρχεσθαι τὰς ὀδούς, ἀνιπτόποδες καὶ χαμαιεῦναι καὶ μονοχίτωνες) [6, vol. II, p. 365] адрианопольского епископа Германа, будущего патриарха (Арсения сменит Никифор, а вскоре его сменит Герман), как вариант аскезы, способ испытания и подавления плоти. Тело в этой концепции материально, греховно и негативно [11, p. 126–128], дух должен освободиться от его греховной детерминации и, более того, должен властвовать над ним.
Претензии патриархов на светскую власть у Георгия Пахимера сродни этой аскезе. Императорская власть Михаила VIII Палеолога приравнивается автором к материальной греховности.
В этом контексте более чем показательно «возвращение» патриарха Арсения. 14 сентября 1310 г. тело Арсения, умершего 37 лет назад, извлекли из могилы, нарядили в патриаршие облачения, посадили на патриарший трон в Святой Софии, а император Андроник II звучным голосом читал томос унии, прекращающий арсенитский раздор в пользу Арсения и его сторонников [12, S. 160]. Упорный Арсений, все-таки, добрался до своей победы.
Список литературы Пешая прогулка у Георгия Пахимера как проблема
- Ginzburg K. Primety. Ulikovaya paradigma i ee korni [Evidence Paradigm and Its Roots]. Ginzburg K. Mify - emblemy - primety: morfologiya i istoriya [Miths - Emblems - Signs: Morphology and History]. Moscow, Novoe izd-vo, 2004, pp. 189-241.
- Lebedev A.P. Istoricheskiye ocherki sostoyaniya Vizantiysko-vostochnoy tserkvi ot kontsa Xl-go do poloviny XV-go veka [Historical Essays on the State of the Byzantine-Eastern Church from the End of the 11th to the Middle of the 15th Century]. Saint Petersburg, Aletheia Publ., 1998. 384 p.
- Troitskiy I.E. Arseniy, patriarkh Nikeyskiy i Konstantinopolskiy i Arsenity (k istorii Vostochnoy Tserkvi XIII veka) [Arsenius, Patriarch of Nicaea and Constantinople and the Arsenites (On the History of the Eastern Church of the 13th Century)]. Saint Petersburg, Tip. Departamenta udelov, 1873. 524 p.
- Amato J.A. On Foot: A History of Walking. New York, New York University, 2004. 333 p.
- Angold M. A Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Laskarids of Nicaea (1204-1261). Oxford, Oxford University Press, 1975. 332 p.
- Failler A., Laurent V., eds. Pachymérès Georges. Relations historiques. Vol. I. Liv. I-III. Paris, Les belles lettres, 1984. 325 p.; Vol. II. Liv. IV-VI. Paris, Les belles lettres, 1984, pp. 328-667.
- Gill J. Notes on the De Michaele et Andronico Palaeologis of George Pachymeres. Byzantinische Zeitschrift, 1975, Bd. 68, S. 295-303.
- Gros F. A Philosophy of Walking. New York, Verso, 2014. 227 p.
- Horvath A., Szakolczai A. Walking into the Void. A Historical Sociology and Political Anthropology of Walking. New York, Routledge, 2018. 232 p.
- O'Sullivan T.M. Walking in Roman Culture. New York, Cambridge University Press, 2011. 188 p.
- Photius. Bibliothèque: Vol. 1-9. Vol. 8. (Codices 257-280). Paris, Les Belles Lettres, 1977. 446 p.
- Tinnefeld F. Das Schisma zwischen Anhängern und Gegnern des Patriarchen Arsenios in der orthodoxen Kirche von Byzanz (1265-1310). Byzantinische Zeitschrift, 2012, Bd. 105/1, S. 143-166.