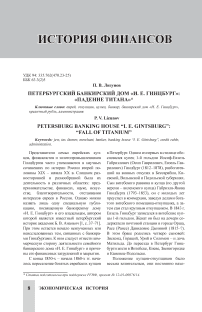Петербургский банкирский дом «И. Е. Гинцбург»: «падение титана»
Автор: Лизунов Павел Владимирович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История финансов
Статья в выпуске: 2 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается деятельность крупнейшего во второй половине XIX в. в России банкирского дома «И. Е. Гинцбург» и причины, приведшие его к серьезным финансовым затруднениям и закрытию.
Еврей, откупщик, купец, банкир, банкирский дом "и. е. гинцбург", кредитный рубль, администрация
Короткий адрес: https://sciup.org/14723719
IDR: 14723719 | УДК: 94:
Текст научной статьи Петербургский банкирский дом «И. Е. Гинцбург»: «падение титана»
Представители семьи еврейских купцов, финансистов и золотопромышленников Гинцбургов часто упоминаются в научных сочинениях по истории России второй половины XIX – начала ХХ в. Слишком разносторонней и разнообразной была их деятельность в различных областях: предпринимательстве, финансах, науке, искусстве, благотворительности, отстаивании интересов евреев в России. Однако можно назвать лишь одну специальную публикацию, посвященную банкирскому дому «И. Е. Гинцбург» и его владельцам, автором которой является известный петербургский историк академик Б. В. Ананьич [1, с. 37–71]. При этом остается немало неизученных или неисследованных тем, связанных с банкирами Гинцбургами. К ним следует отнести коммерческую сторону деятельности семейного банкирского дома «И. Е. Гинцбург» и причины его финансовых затруднений и закрытия.
С конца 1850-х – начала 1860-х гг. началось переселение богатых еврейских купцов в Петербург. Одним из первых в столице обосновался купец 1-й гильдии Иосиф-Евзель Габриэлович (Осип Гаврилович, Евзель Гаврилович) Гинцбург (1812–1878), разбогатевший на винных откупах в Бессарабии, Киевской, Волынской и Подольской губерниях. Сын витебского раввина и купца (по другой версии – виленского купца) Габриэля-Якова Гинцбурга (1793–1853), он с молодых лет преуспел в коммерции, заведуя делами богатого витебского помещика-откупщика, а затем сам стал крупным откупщиком. В 1843 г. Евзель Гинцбург записался в витебские купцы 1-й гильдии. Женат он был на дочери содержателя почтовой станции в городе Орша, Расе (Раисе) Давидовне Дыниной (1815–?). В этом браке родились четверо сыновей: Зисконд, Гораций, Урий и Соломон – и дочь Матильда. До переезда в Петербург Гинц-бурги жили в Витебске, Киеве, Звенигородке и Каменец-Подольске.
Положение купцов-откупщиков было весьма влиятельным, они постоянно нахо- дись в сношениях с разными органами власти. Им приходилось бывать в канцеляриях и кабинетах губернаторов и министров. С ними считались как с важными особами, пополнявшими казну доходами. Так, в конце 1860 – начале 1870-х гг. только Е. Г. Гинцбург ежегодно собирал для казны более 3,5 млн руб., получаемых от налогов на водку. По словам современного американского историка Бенджамина Натанса, это «ставило его в высший эшелон откупщиков империи» [10, с. 86].
Часто бывая по коммерческим делам в Петербурге, Евзель Гинцбург сумел установить тесные связи в высших столичных сферах и финансовых кругах. Во время Крымской войны Гинцбург держал винный откуп в осажденном Севастополе, отпуская вино по ценам не выше высочайше утвержденных для мирного времени и даже ниже. Также он был поставщиком продовольствия и обмундирования в русскую армию. Утверждали, что в годы войны Гинцбург заработал 8 млн руб. серебром. После окончания войны и восшествия на престол Александра II положение Гинцбурга окрепло еще сильнее. Он даже был пожалован золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на Андреевской ленте. Награждение состоялось, несмотря на то что в июне 1856 г. императору поступил донос на корыстолюбие и алчность откупщиков, среди которых одним из первых упоминалось имя Гинцбур-га. Тем не менее царь начертал на доносе: «Оставить без последствий» [20. Л. 73–74].
В официальных документах конца 1850-х гг. встречаются одобрительные и лестные отзывы о Евзеле Гинцбурге как человеке с солидной репутацией и заслуживающем доверия в коммерческих делах.
Однако народная молва связывала обогащение Гинцбургов с разными махинациями во время Крымской войны. Это широко распространившееся мнение нашло отражение в памфлете публициста и историка В. О. Михневича: «Знаменитый род баронов Гинцбур-гов ведет свое начало со времен несчастливой и разорительной Крымской войны, когда, по преданию, сложенному русским солда-

Евзель Гинцбург том сам Господь Бог в ужасе “стоял на горе Арарате и смотрел, как грабят в комиссариате”, при дружном содействии подрядчиков. В числе последних выступил тогда впервые на историческое поприще славы, богатства и почестей и родоначальник наших баронов. Начав “поставку” чуть ли не с одной бочки зелена вина, он, путем патриотического усердия и посредством каких-то гениальноискусных химических манипуляций, превращавших стоградусный пьяный спирт в совершенно почти трезвую воду, в кратчайшее время благоприобрел столько “карбованцев”, сколько их даже во сне не снилось самому библейскому царю Соломону…» [8, с. 56–57].
Поселившись в Петербурге, Гинцбург в ноябре 1859 г. основал банкирский дом «И. Е. Гинцбург» с капиталом в несколько десятков миллионов рублей. В извещении об открытии банка, разосланном 18 ноября, Евзель Гинцбург доводил до сведения, что им уполномочены на управление делами фирмы его сын Герц Гинцбург и петербургский купец 1-й гильдии Ф. Гене [19. Л. 1; 31]. Почти одновременно было открыто отделение банкирского дома «И. Е. Гинцбург» в Париже на бульваре Осман. Заведывание парижским отделением, просуществовавшему до 1892 г., было доверено младшему сыну Е. Г. Гинцбурга Соломону Евзелевичу (Осиповичу) (1848–?).
Появление банкирского дома «И. Е. Гинцбург» в столице было связано с опубликованным в марте 1859 г. законом, разрешавшим еврейским купцам 1-й гильдии постоянно проживать вне черты оседлости [13, с. 206–207]. Этот закон появился во многом благодаря инициативе Гинцбур-га, возбудившего перед правительством ряд ходатайств о расширении прав евреев в России.
Одновременно с Гинцбургом в столицу переселились некоторые южные откупщики: А. И. Горвиц, А. М. Варшавский и северные подрядчики братья Л. П. и М. П. Фридлянды (Фридланды), И. М. Мал-киель и др. Казенные подряды, поставки и откупа составляли весьма выгодный промысел для многих еврейских купцов. Еврейский публицист, юрист по образованию И. Г. Оршанский отмечал: «Откупщик и подрядчик, у евреев, – синонимы богачей. Почти все богатые евреи занимались или тем, или другим из этих промыслов. Еще памятно многим время Крымской войны, когда подрядчики, благодаря гибкой совести и своеобразному взгляду на казну… наживали миллионы. А об откупах и говорить нечего. Не говоря уже о самих откупщиках, тысячи евреев жили и наживались под благодатным крылышком откупов» [11, с. 9].
Вскоре в Петербурге насчитывалось около десятка богатых еврейских купеческих семейств, так называемых «больших евреев». За ними в столицу потянулась вереница разных служащих и доверенных – «малых евреев», которые в свою очередь «выписывали» родственников и знакомых. Так, Гинц-бург набрал служащих почти исключительно из среды евреев, из которых впоследствии выдвинулись известные финансисты вроде А. И. Зака, которые заняли видное место в кредитных учреждениях столицы. Выдающийся еврейский поэт-сатирик и публицист Иегуда-Леб (Лев Осипович) Гордон («еврейский Некрасов») передавал рассуждения одного петербургского еврея-старожила о новой еврейской общине, образовавшейся в столице: «Что тогда был Петербург? – пустыня; теперь же ведь это – Бердичев!» [Цит. по: 9, с. 429].
За пять лет, с 1860 по 1865 г., численность вновь прибывших в столицу евреев достигла 400 чел. В «Справочной книге о лицах, получивших на 1865 год купеческие свидетельства по 1 и 2-й гильдиям» перечислены до десяти еврейских купцов 1-й гильдии: банкир Евзель Гинцбург, Соломон Рабинович, занимавшийся банкирскими делами, Абрам Карасик, торговавшие при Петербургском порте и бирже оптом и др. [27]. В «Справочной книге… на 1867 год» уже упомянуты имена более 15 еврейских купцов 1-й гильдии: Саймон Варшавский, Давид Гальперн, Филипп Зелик, Евзель Идельсон, Генрих Клейберг, Берк Клен-ский, Нахим Конгиссер, Лейба Рапопорт, Ишнус Розенберг, Леон Розенталь, Лев Сегаль, Мейер Фридлянд, Исаак Фронштейн, Юдка Цетлини др. [28]. Большинство из них ранее занимались подрядами и поставками. Еще больше еврейских купцов числилось по 2-й гильдии. Купеческие свидетельства 1-й гильдии давали евреям возможность постоянного, а свидетельства 2-й гильдии – временного проживания вне черты оседлости.
О евреях, устремившихся на жительство в Петербург, анонимный автор, являвшийся доверенным лицом Гинцбургов, писал: «В выходцах из черты оседлости происходила полная метаморфоза: откупщик превращался в банкира, подрядчик – в предпринимателя высокого полета, а их служащие – в столичных денди» [9, с. 431]. Подтверждение тому содержится в мемуарах Паулины Венгеровой (урожденной Эпштейн), принадлежавшей к высшим слоям еврейского общества. Она отмечала: «Со временем стало очевидно, что евреи добились неожиданно большого влияния в области торговли и промышленности. Никогда прежде евреи в Санкт-Петербурге не вели такой благополучной жизни, поскольку столичные финансы частично находились в их руках. Возникли еврейские банки. Были основаны акционерные компании, руководимые евреями. Биржевые и банковские операции достигли небывалого размаха. Здесь, на бирже евреи чувствовали себя в своей сти- хии. Бывало, что игра на бирже в один день сказочно обогащала некоторых маклеров. Бывало и так, что люди мгновенно разорялись. Этот вид коммерческой деятельности был в России чем-то новым. Однако евреи прямо-таки гениально осваивали ее правила, даже те, чье образование исчерпывалось Талмудом» [2, с. 244]. В первую очередь мемуаристы имели в виду банкиров Гинцбур-гов, которые стали реальным воплощением мечты многих евреев об успехе и богатстве.
Религия и обычаи евреев постепенно отступали на второй план. Новая деятельность ассимилированного еврейства в Петербурге плохо совмещалась со строгим соблюдением религиозных предписаний и заповедей, изучением Талмуда. Многие петербургские евреи сильно отличались от соплеменников, проживавших в черте оседлости. На это обратил внимание английский еврейский банкир сэр Мозес Монтефиоре, посетивший Россию в 1872 г. В дневнике он записал: «Я имел счастье видеть значительное количество наших единоверцев, отмеченных наградами императора различного достоинства. Ныне евреи здесь (в Петербурге. – П. Л. ) одеваются подобно обыкновенным джентльменам в Англии, Франции или Германии» [Цит. по: 10, с. 153].
Осип Мандельштам вспоминал, как он в детстве в петербургской синагоге увидел барона Г. Е. Гинцбурга и А. М. Варшавского. Поэт был поражен их не еврейской внешностью: «в цилиндрах, прекрасно одетые, лоснящиеся богатством, с изящными движениями светских людей» [4, с. 66].
Довольно быстро банкирский дом «И. Е. Гинцбург» стал одним из значительных и влиятельных финансовых учреждений не только Петербурга, но и России. Контора располагалась на Конногвардейском бульваре, 17 / Галерной улице, 20 / За-мятином переулке, 4, в доме Утина, где проживала и семья Гинцбургов. Позже Гораций Гинцбург приобрел этот дом.
По мнению современников, в финансовом мире банкирский дом Гинцбургов отчасти заменил «легендарного Штиглица», закрывшего в октябре 1859 г. банкирский дом в Петербурге [18, с. 225]. С прекращением дел барона А. Л. Штиглица основные операции с векселями перешли к фирме «И. Е. Гинцбург», частично к банкиру Э. М. Мейеру. На бирже Гинцбурги играли на повышении или понижении вексельного курса – игра, заведенная еще Л. И. Штиглицем.
В 1849 г. Е. Г. Гинцбург был пожалован званием потомственного почетного гражданина, а в 1874 г. – коммерции советника [23. Л. 5 – 5 об.]. С конца 1870-х гг. он редко появлялся в России, предпочитая подолгу жить во Франции, а затем из-за болезни безвыездно находился в Париже, где и умер. Е. Г. Гинцбург похоронен в семейном склепе на кладбище Монпарнас. Согласно его завещанию пользование наследственными правами обусловливалось сохранением российского подданства, а также вере предков. В завещании Е. Г. Гинцбург распоряжался не отчуждать Таврические имения, превышавшее 50 тыс. десятин земли, до смерти последнего из наследников, а доходы от них направлять по усмотрению сына Горация на благотворительность.
По мере расширения круга коммерческой деятельности отца к управлению семейными делами в 1859 г. приобщился Гораций (Нафталий-Герц) Осипович (Евзелевич) Гинцбург (1833–1909). В соответствии с желанием отца он получил одновременно религиозное еврейское и светское образование, в частности изучал
Конногвардейский бульвар, 17
Дом Гинцбурга. Фото Ф. Буффа, 1870-е гг.


Гораций Гинцбург иностранные языки. К тому времени Ев-зель Гинцбург отрекся от старшего сына Зисконда (Александра) (1832–?), ведшего «беспутную жизнь», и сделал наследником и преемником Горация, который стал главой семейного банкирского дома «И. Е. Гинцбург». Под его руководством банкирский дом стал быстро развивать операции, превратившись в одно из крупнейших банкирских учреждений не только России, но и Западной Европы.
Петербургская контора Гинцбургов производила все банковские операции: поручения по покупке и продаже процентных бумаг, акций и облигаций; размен иностранной валюты; оплату и учет купонов; выдачу ссуд под процентные бумаги, акции и облигации разных обществ до востребования (on call) и на срок; страхование билетов выигрышных займов от тиражей погашения; внутренние и заграничные переводы; вклады на сроки и до востребования; открытие текущих счетов.
Банкирский дом «И. Е. Гинцбург» предоставлял разные ссуды для нужд российского правительства. Так, сумма подписки Гинц-бургов на внутренний 5 %-й заем 1878 г. (Второй восточный заем), выпущенный для покрытия чрезвычайных расходов в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., составила 10 млн руб. Размер подписки был столь значительным, что, по словам ака- демика Б. В. Ананьича, «дает основание ставить это финансовое учреждение в один ряд с крупными акционерными банками». На такую же сумму подписались Государственный банк и Петербургский Частный коммерческий банк [1, с. 43].
При содействии и участии Гинцбургов в России открылись десять акционерных банков, среди которых были Киевский Частный коммерческий банк (1868), Петербургский Учетный и ссудный банк (1869), Одесский Учетный банк (1870), Сибирский Торговый банк (1872), Бессарабско-Таврический земельный банк (1872) и др. Директором Петербургского Учетного и ссудного банка стал бывший главный бухгалтер банкирского дома «И. Е. Гинцбург» А. И. Зак, а Г. Е. Гинцбург вошел в правление банка.
Банкирский дом «И. Е. Гинцбург» установил прочные партнерские контакты с финансовыми учреждениями Западной Европы. Наиболее тесные отношения сложились с банками С. Варбурга в Гамбурге, «Мендельсон и Кº» и Г. Блейхредера в Берлине, де Габера во Франкфурте-на-Майне, Э. Госкье и Камондо в Париже и др. Родственными отношениями Гинцбурги были связаны с крупными российскими и европейскими финансистами: Е. Ашкенази, Г. Розенбергом, С. Варбургом, П. Фульдом, Э. Ротшильдом и др.
С 1868 по 1872 г. Гораций Гинцбург являлся гессен-дармштадтским генеральным консулом в Петербурге. В октябре 1870 г. Великий герцог Людвиг III Гессен-Дармштадтский, с которым у Гинцбурга сложились прочные деловые и финансовые связи, пожаловал ему баронский титул. Впрочем, злые языки утверждали, что звание было просто куплено. В июле 1874 г. баронство было пожаловано и его отцу Евзелю Гинцбургу. С 1879 г. Гинцбургам высочайшим повелением было разрешено пользоваться баронским титулом в России потомственно.
Сословное состояние Гинцбургов было не совсем обычным, даже беспрецедентным. С одной стороны, они числились в соответствующих сенатских книгах Департамента герольдии как потомственные почетные граждане. В то же время Департамент герольдии на основании высочайшего повеления о предоставлении Гинц-бургам права пользоваться потомственно баронским титулом занес их в книгу титулованного дворянства [26, с. 215–216]. Гинцбурги даже составили герб, который был утвержден Департаментом герольдии. Однако правительство дворянства за ними не признало. Попытка Г. Е. Гинцбурга получить в 1903 г. к своему 70-летию право на потомственное дворянство была отклонена императором Николаем II [25, с. 264].
В. О. Михневич, излагавший свою версию истории семьи Гинцбургов, полагал, что «нынешний представитель фамилии Гинцбургов ничего не имеет общего с темным родоначальником (кроме, конечно, унаследованных от него капиталов), по роду и качеству занятий, да, может быть, не любит об этом и вспоминать. Барон – человек просвещенный, с деликатными и изящными вкусами, весьма ревнив к своему баронскому титулу и, яко барон, имеет “свои фантазии” – фантазии возвышенные и грандиозные, соизмеряемые миллионами банкирских операций» [8, с. 56–57].
Другой современник, поэт-сатирик П. К. Мартьянов, также не смог обойти вниманием личность Г. Е. Гинцбурга, посвятив ему следующее четверостишие [5, с. 61]:
Банкир и гешефтмахер, биржевой Ваал, Израильтян кагала – туз-магнат, Под Севастополем составил капитал За счет народа и солдат.
Банкирский дом «И. Е. Гинцбург» не принимал непосредственного участия в железнодорожном строительстве. Однако железнодорожные концессии осуществлялись при его содействии в огромных размерах. Банкирский дом Гинцбургов сделался главным кредитным учреждением для всех строившихся и эксплуатировавшихся железных дорог в России. Операции банка в значительных объемах были сосредоточены на реализации железнодорожных займов, гарантированных правительством, и на реализации облигаций земельных банков.
Другой специализацией банкирского дома «И. Е. Гинцбург» стало финансирование золотопромышленных предприятий на Урале, Алтае и в Забайкалье. Г. Е. Гинцбург, выступая от имени банкирского дома, от имени отца и по его доверенности и от своего имени был участником почти всех крупных золотопромышленных предприятий. Гинцбурги имели паи Верхнеамурской золотопромышленной компании, Иннокентьевского золотопромышленного дела, Забайкальского золотопромышленного товарищества, Алтайского золотопромышленного дела, фирмы «В. И. Асташев и Ко», Березовского золотопромышленного товарищества, Миасского золотопромышленного дела, Южно-Алтайского золотопромышленного дела «П. Д. Мальцев и Ко» и др. Г. Е. Гинцбург был одним из учредителей крупнейшего из них – Ленского золотопромышленного товарищества, ведавшего большим числом приисков, разбросанных на обширных пространствах Олекмин-ского округа в Якутии. В мае 1895 г. Г. Е. Гинцбург выступил одним из учредителей крупного акционерного предприятия Российского золотопромышленного общества.
Банкирский дом «И. Е. Гинцбург» также активно вкладывали средства в страховое дело, участвуя в учреждении Русского общества перестрахования (1869), Варшавского страхового от огня общества (1870) и Страхового общества «Россия» (1883). Среди основанных Гинцбургами предприятий были Компания цепного пароходства по реке Шексне (1866) и акционерное общество «Платина» (1899).
Однако в 1893 г. банкирский дом «И. Е. Гинцбург» пережил сильнейшее потрясение - приостановку платежей, затем закрытие и учреждение администрации. Это было время сильного падения курса русского кредитного рубля, и за границей банкирский дом Гинцбургов нес огромные потери на российских фондах, как государственных, так и железнодорожных, гарантированных правительством.
Министерство финансов было давно обеспокоено резкими колебаниями денеж- ного курса. Особенно остро вопрос встал в конце 1880-х – начале 1890-х гг. В первой половине 1880-х гг. курс колебался около средней цены 63 коп. за кредитный рубль, с 1885 г. он стал быстро падать и 16 февраля 1888 г. опустился до 50 коп. Весной 1888 г. начался столь же быстрый подъем курса. В апреле стоимость его составляла 69,0 коп., а к осени 1890 г. достигла 81,83 коп. Однако к 7 ноября 1891 г. курс кредитного рубля вновь опустился до 57,80 коп. [3, с. 997].
Известны случаи, когда резкие колебания курса рубля происходили в продолжение одного биржевого дня. Крайняя неустойчивость денежного курса отражалась на экономике страны. Ни одна сделка, прямо или косвенно связанная с получением или производством заграничного платежа, не была ограждена от убытков. Значительные колебания курса рубля вызывали, в свою очередь, изменение цен и на товары.
«Местом такой спекулятивной игры, – отмечало Министерство финансов, – являются, главным образом, наши биржи...» [24. Л. 2], а также некоторые заграничные биржевые центры, которые «в широких размерах производят спекулятивные сделки на курсе кредитного рубля, с преобладающей тенденцией в сторону понижения, превращая своими операциями кредитный рубль в предмет игры и ажиотажа и поддерживая тем неустойчивость и постоянное колебание нашего рубля». Министерство финансов неоднократно повторяло, что русские кредитные билеты стали излюбленным объектом биржевой спекуляции, превратившись в настоящий товар, обращавшийся в значительных размерах на заграничных биржах [22. Л. 116–117]. Русские кредитные учреждения неоднократно обвинялись в том, что высылали по почте запасы кредитных рублей за границу для спекуляции. В России в спекуляцию на курсе кредитного рубля были втянуты некоторые коммерческие банки, банкирские дома и конторы, а также частные лица. В 1893 г. в Петербурге в результате участия в масштабных спекуляциях с кредитным рублем разорился Российский Торговый и комиссионный банк.
Неоднократно предлагалось принять самые решительные меры против игры на биржах с русским рублем и конфискации пересылаемых по почте кредитных билетов. Управляющий Министерством финансов И. А. Вышнеградский в июне 1887 г. (через полгода после назначения на должность) представил в Комитет финансов записку с соображениями о мерах по упорядочению вексельного курса и денежного обращения. В записке указывалось на значительный вред от обесценивания русского кредитного рубля и еще больше – от его колебаний. Вышнеградский высказывал убеждение, что устранение этого зла при помощи постепенного доведения ценности кредитного рубля до нарицательной его стоимости представляется едва ли выполнимым, но даже нежелательным. После «продолжительного времени приноровления цен всех товаров к пониженной ценности кредитного рубля» его восстановление в полной номинальной сумме будет сопряжено с потрясением всех отраслей народного хозяйства и значительными затруднениями для внешней торговли. По мнению управляющего Министерством финансов, следовало стремиться к упрочению ценности кредитного рубля, приняв за основание средний курс, который держался в последнее время. Устранение колебаний рубля и упорядочение денежного обращения, полагал Вышнеградский, возможно лишь при условии допущения свободного размена кредитных билетов на монету. Для этого необходимы значительное усиление разменного фонда, разрешение сделок на металлическую валюту, а также проведение ряда других мероприятий. Записка рассматривалась 28 июня 1887 г. на заседании Комитета финансов, в котором участвовали бывшие министры финансов М. Х. Рейтерн и Н. Х. Бунге. Большинством голосов предложение Вышнеградского было поддержано. Это положение Комитета финансов 10 июля 1887 г. было утверждено Александром III [6, с. 105–107].
Политика И. А. Вышнеградского и действия Министерства финансов способствовали укреплению курса кредитного рубля
[29, с. 49–69]. Вследствие очень хорошего урожая 1890 г. и значительного вывоза продуктов за границу курс рубля стал повышаться. Временами он доходил до 80 коп. за рубль. Однако подъем вексельного курса вскоре привел к серьезным последствиям в торговле и промышленности: цены на русские товары снизились сначала за границей, а затем и на внутреннем рынке. Финансовое ведомство отмечало: «Улучшение курса удешевляло цены иностранных товаров на русских рынках и облегчало оплату этих товаров таможенными пошлинами, взимаемыми золотом» [21. Л. 8]. Министерство финансов делало вывод о «необходимости ограждения нашей промышленности от низких цен, вызванных высотой курса» кредитного рубля. В апреле 1890 г. Вышнеградский во всеподданнейшем докладе, опасаясь, что дальнейшее «повышение вексельного курса грозит нанесением ущерба благосостоянию нашего отечества», предлагал установить предел золотого содержания рубля на уровне 62,5 коп. Министр финансов настаивал, что необходимо немедленно приступить к приобретению золота и продаже кредитных билетов. Доклад был одобрен Александром III. 28 июля 1892 г. был издан указ, дающий министру финансов право производить временные выпуски бумажных денег. Это был обыкновенный и самый верный способ сдерживать повышение рубля. В результате искусственных мер регулирования среднегодовой курс рубля в 1891 г. составлял 66,8 коп., в 1892 г. – 62,0 коп. [30, с. 108].
В 1893 г., при новом министре финансов С. Ю. Витте, было принято решение окончательно прекратить спекуляцию на курсе кредитного рубля и оградить его цену на международном рынке от «судорожных колебаний». Для этой цели был принят целый ряд мер, направленных против спекулятивной игры. Так, 16 января 1893 г. был опубликован циркуляр Особенной канцелярии по кредитной части, обращенный ко всем частным банкам, банкирским и торговым домам, конторам и другим учреждениям коммерческого кредита. Их ставили в из- вестность, что не только непосредственное, но даже косвенное участие российских учреждений коммерческого кредита в биржевой игре на курсе рубля не останется без соответствующих последствий. Министр финансов предостерегал, что будет вынужден «закрыть для таких учреждений всякие счета в Государственном банке, а в крайних случаях прибегнуть и к более решительным мерам, исходя из убеждения, что подобные случаи могут иметь место только при явной и упорной злонамеренности... кредитных учреждений» [22. Л. 2 – 2 об.].
10 марта 1893 г. последовало представление С. Ю. Витте в Комитет министров «О временных мерах к усилению надзора за биржами», в котором в очередной раз обращалось «особое внимание на необходимость принять меры против спекулятивной игры на курсе нашего кредитного рубля». Министр финансов отмечал, что подобная спекуляция вызывает постоянно усиливающиеся «колебания нашей валюты, не оправдываемое действительным положением международного расчетного баланса». Он просил разрешения внести ряд изменений в действующие постановления о биржах [24. Л. 2]. В представлении предлагалось ввести «в виде временной меры, впредь до издания в законодательном порядке нового положения о биржах и биржевых установлениях» ограничения допуска лиц к производству на биржах операциях с фондами, векселями и валютой [24. Л. 14 об. – 15]. Представление министра финансов из Комитета министров было передано в Государственный совет, который 11 мая 1893 г. постановил: ввести с 1 сентября 1893 г. предлагаемые изменения и дополнения в действующее биржевое законодательство [24. Л. 2].
Важной мерой, направленной на борьбу со спекуляцией на курс кредитного рубля, стал закон от 29 марта 1893 г. «Об обложении кредитных билетов таможенною пошлиною». Этим законом Министерство финансов пыталось воздействовать на кредитные учреждения с целью удержания их от спекулятивной высылки русских рублей за границу. По новому закону, который вво- дился опять-таки в виде временной меры до 1 января 1894 г., государственные кредитные билеты облагались таможенной пошлиной в размере 1 коп. за каждые 100 руб. Беспошлинно по заграничному паспорту можно было провезти кредитные билеты на сумму до 3 тыс. руб. За тайный ввоз и вывоз рублей за границу взыскивалось 25 % с утаенной суммы [14, с. 170–171]. 27 декабря 1893 г. Закон «Об обложении кредитных рублей таможенною пошлиною» продлевался до 1 января 1897 г. [17, с. 680].
Очередным шагом, направленным против спекуляции, были два закона, принятых 8 июня 1893 г., – «О воспрещении некоторых сделок по покупке и продаже золотой валюты, тратт и тому подобных ценностей, писанных на золотую валюту» и «О некоторых изменениях в постановлениях о биржах» [15, с. 411–412; 16, с. 412–413].
Согласно первому закону все кредитные учреждения и банкирские заведения подчинялись особому надзору со стороны Министерства финансов. Министерству, если кредитные учреждения подозревались в сделках с валютой, предоставлялось право требовать из них сведения и объяснения, производить осмотр и проверку их книг и делопроизводства, принимать административные меры для прекращения недозволенных операций. Кроме того, министр финансов мог требовать удаления в трехмесячный срок директора и членов правления от занимаемых ими должностей, воспретить производство некоторых активных операций, назначить срок и порядок их ликвидации. К числу таких операций относились: продажа выигрышных билетов в рассрочку, перезалог процентных бумаг, прием вкладов на хранение на текущий счет и на обращение из процентов, а равно открытие специальных текущих счетов [16, с. 411–412]. Этим законом Министерство финансов стремилось устранить все разновидности биржевой игры на изменение курса русского кредитного рубля.
Закон «О воспрещении некоторых сделок по покупке и продаже золотой валюты...» официально разрешил срочные сдел- ки, которые и так давно совершались на бирже. Криминальными стали считаться только «сделки по покупке и продаже золотой валюты, тратт и тому подобных ценностей, писанных на валюту, совершаемых исключительно с целью получения разницы между курсом валюты, условленным сторонами и действительным на какой-либо назначенный срок, а также сделки по покупке и продаже золотой валюты и упомянутых ценностей, известных под названием сделок с премиями, стеллажей и сделок с правом дотребования или кратных» [16, с. 412]. За нарушение этого запрещения уголовный кодекс грозил денежным штрафом в размере от 5 до 10 % суммы, на которую была заключена сделка.
Правительственные меры сильно затрагивали интересы банкирских учреждений. Из газетных публикаций следовало, что банкирский дом «И. Е. Гинцбург» (в особенности его парижское отделение) «не мог выдержать крупных курсовых потерь последнего времени». Банкирский дом Гинцбурга играл на курсе кредитного рубля – и играл не на его повышение, а на возможно большее понижение. Однако курс рубля поправился; цена золота пошла книзу, и Гинцбург очутился в критической финансовой ситуации.
В результате неосторожных операций парижского отделения банкирский дом «И. Е. Гинцбург» еще в конце 1892 г. стал ощущать серьезные затруднения. По утверждению писателя, редактора-издателя журнала «Наблюдатель» А. П. Пятковского, «немалое воспособление банкротству “дома” оказал и сынок маститого банкира, Уриел Гинцбург». Пятковский полагал, что «сей достопочтенный отпрыск банкирского рода повел в Париже такую жизнь и пустился в такие рискованные операции, что задолжал банку – ни много, ни мало – около трех миллионов рублей, из которых одна половина прямо списана в убыток, а другая… признана благонадежною к уплате...» [18, с. 227].
С другой стороны, огромные капиталы банкирского дома были вложены в многочисленные золотопромышленные предприятия, и это также могло стать причи- ной расстройства дел банкирского дома «И. Е. Гинцбург».
Проблемы фирмы «И. Е. Гинцбург» усугубились ее неудачным участием в размещении 3 %-го золотого займа 1891 г., который остался на руках. Не желая обращаться к частным кредитным учреждениям, Г. Е. Гинцбург обратился за помощью к министру финансов И. А. Вышнеградскому с просьбой предоставить кредит в размере 5 млн руб. из средств Государственного банка. Банкирский дом «И. Е. Гинцбург» уже дважды, в 1875 и 1888 гг., прибегал к помощи Государственного банка и получал временные кредиты. Это дело требовало всеподданнейшего доклада министра финансов. Несмотря на то что такой кредит был сначала обещан, Вышнеградский вопреки ожиданиям в последнюю минуту изменил намерение и не поддержал ходатайство, а напротив, дал отрицательный отзыв. В результате в кредите Гинцбургу было отказано.
Гораций Гинцбург, опасаясь за репутацию фирмы, предпочел через управляющего К. И. Грубе объявить на Петербургской бирже о приостановке платежей своего банкирского дома и о переходе его в ликвидацию. Впоследствии выяснилось, что дому не предстояло никаких крупных платежей, и в кассе имелась наличность в несколько сот тысяч рублей. С быстротой молнии по Петербургу разнеслась весть о крахе банкирского дома «И. Е. Гинцбург». Столичный градоначальник генерал-лейтенант П. А. Грессер во избежание волнений вкладчиков, доверивших сбережения банкирской конторе, распорядился послать усиленный наряд полиции на Конногвардейский бульвар для охраны банкирского дома «И. Е. Гинцбург». Однако, к его удивлению, вокруг помещения банка оставалось все спо- койно; ни один вкладчик, ни один владелец депо ценных бумаг не проявил ни малейшего беспокойства и не торопился получить свое имущество. Действительно, все ценности на сумму 30 млн руб. оказались в тех пакетах, в которых они были сданы на хранение.
Даже недоброжелатели и критики Гинц-бурга признавали, что его нельзя признать «злостным банкротом». Хотя в Петербурге и «ходили, до краха, какие-то темные слухи о негодовании, возбужденном в еврейском короле крутыми мерами против нарушения “черты еврейской оседлости”, и об его желании “порвать всякие связи с Россией”, но его, может быть, следовало причислить к банкротам неосторожным» [18, с. 229–230].
По делам банкирского дома «И. Е. Гинц-бург» была назначена администрация, которая в короткое время удовлетворила требования всех кредиторов не только капитальным долгом, но и процентами за время просрочки. В нее вошли К. Г. Подме-нер, Г. T. Терка, И. В. Блессиг, Д. В. Стасов, H. И. Филипьев, И. П. Дараган, Л. В. Ганто-вер и M. H. Жyравлев [12]. Администрация в конце 1894 г. была закрыта, но банкирский дом «И. Е. Гинцбург» не возобновил прежних обширных финансовых операций, несмотря на доверие, которым пользовался Гораций Гинцбург. К тому времени Ленское золотопромышленное товарищество стало давать огромную прибыль, и материальное положение Г. Е. Гинцбурга в значительной степени было восстановлено. После известных событий 1912 г., закончившихся расстрелом, Гинцбурги вместе с другими членами правления вышли из состава Ленского товарищества и ограничили участие в других золотопромышленных предприятиях. Впрочем, к тому времени барона Г. Е. Гинцбурга уже не было в живых.
Список литературы Петербургский банкирский дом «И. Е. Гинцбург»: «падение титана»
- Ананьич Б. В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг.: очерки истории частного предпринимательства/Б. В. Ананьич. -Л., 1991.
- Венгерова П. Ю. Воспоминания бабушки. Очерки культурной истории евреев России в XIX веке/П. Ю. Венгерова. -Иерусалим; М., 2003.
- Вестник финансов, промышленности и торговли. -1895. -№ 51.
- Мандельштам О. Э. Шум времени. Хаос иудейский/О. Э. Мандельштам//Собрание сочинений: в 4 т. -М., 1991. -Т. 2.
- Мартьянов П. К. Цвет нашей интеллигенции: словарь-альбом русских деятелей XIX века/П. К. Мартьянов. -СПб., 1890.
- Министерство финансов 1802-1902. -Ч. 2. -СПб., 1902.
- Кашкаров М. П. Денежное обращение в России: ист.-стат. исследование/М. П. Кашкаров. Т. 1. -СПб., 1898.
- Михневич В. О. Наши знакомые: Фельетонный словарь современников. 1 000 характеристик русских государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, художников, коммерсантов, промышленников и пр./В. О. Михневич. -СПб., 1884.
- Н. Н. Из впечатлений минувшего века. Воспоминания среднего человека/Н. Н.//Еврейская старина. -1914. -Т. 7.
- Натанс Б. За чертой. Евреи встречаются с позднеимперской Россией/Б. Натанс. -М., 2007. -С. 153.
- Оршанский И. Г. Евреи в России. Очерки экономического и общественного быта русских евреев/И. Г. Оршанский. -СПб., 1877.
- Отчет Администрации по делам Торгового дома И. Е. Гинцбург. -Т. 1-3. -СПб., 1893-1895.
- Полное собрание законов Российской империи. -Собр. II. -Т. XXXIV. -Ст. 34248.
- Полное собрание законов Российской империи. -Собр. III. -Т. XIII. -Ст. 9461.
- Полное собрание законов Российской империи.-Собр. III. -Т. XIII. -Ст. 9741.
- Полное собрание законов Российской империи. -Собр. III. -Т. XIII. -Ст. 9742.
- Полное собрание законов Российской империи. -Собр. III. -Т. XIII. -Ст. 10205.
- Пятковский А. П. Государство в государстве (К истории еврейского вопроса в России и в Западной Европе)/А. П. Пятковский. -СПб., 1901.
- РГАДА (Рос. гос. арх. древ. актов). -Ф. 1288. -Оп. 1. -Д. 2944.
- РГИА (Рос. гос. ист. арх.). -Ф. 560. -Оп. 38. -Д. 143.
- РГИА. -Ф. 1152. -Оп. XII. -1887 г. -Д. 78. -Ч. 2.
- РГИА. -Ф. 1287. -Оп. 9. -Д. 3450.
- РГИА. -Ф. 1343. -Оп. 39. -Ч. 1. -Д. 1066; Ф. 20. -Оп. 1. -Д. 34.
- РГИА.-Ф. 1405. -Оп. 542. -Д. 90.
- Слиозберг Г. Б. Дела минувших дней: записки русского еврея/Г. Б. Слиозберг. -Т. 1. -Париж, 1933.
- Списки титулованным родам и лицам Российской империи. -СПб., 1892.
- Справочная книга о лицах, получивших на 1865 год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям. СПб., 1865.
- Справочная книга о лицах, получивших на 1867 год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям. -СПб., 1867.
- Степанов В. Л. Предпосылки денежной реформы С. Ю. Витте: политика министра финансов И. А. Вышнеградского (1887-1892)/В. Л. Степанов//Отечественная история. -2004. № 5.
- Степанов В. Л. От крушения системы Канкрина к новой реформе/В. Л. Степанов//Русский рубль. Два века истории. XIX-XX вв. -М., 1994.
- ЦГИА СПб (Центр. гос. ист. арх. Санкт-Петербурга). -Ф. 852. -Оп. 1. -Д. 871. -Л. 1-2; РГАДА. -Ф. 1288. -Оп. 1. -Д. 2944.